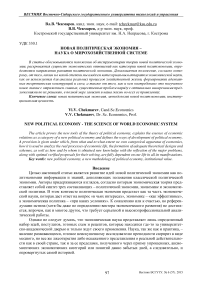Новая политическая экономия - наука о мирохозяйственной системе
Автор: Чекмарев вЛ.В., Чекмарев В.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновываются положения об инструментарии теории новой политической экономии, раскрывается сущность экономических отношений как категории новой политэкономии, определяются направления развития политической экономии. Доказывается положение, согласно которому, от того, каким и в какой степени мы владеем категориальным аппаратом экономической науки, как он используется для анализа реальных процессов хозяйственной жизни, формирования адекватных теоретических конструкций и схем, а также от того, как и кем востребовано это полученное новое знание с отражением главных, существенных проблем наряду с оптимально выверенными предложениями по их решению, в полной мере зависит и наша жизнь во всех ее проявлениях.
Новая политическая экономия, методология новой политэкономии, институциональная ценность
Короткий адрес: https://sciup.org/142143147
IDR: 142143147 | УДК: 330.1
Текст научной статьи Новая политическая экономия - наука о мирохозяйственной системе
Целью настоящей статьи является развитие идей новой политической экономии как политэкономии информации и знаний, дополняющих положения классической политической экономии. Авторы придерживаются взглядов, согласно которым экономическая теория представляет собой синтез трех составляющих ‒ политической экономии, экономикс и экономической политики. В этом контексте политическая экономия предстает как та часть экономической науки, которая дает ответ на вопрос «в чьих интересах», экономикс ‒ «как эффективнее», а экономическая политика ‒ «при каких условиях». К сожалению или к счастью, но референдумами истина (хотя бы даже по определению вектора экономического развития) не достигается, впрочем, как и многое другое, что требует серьезной и высокопрофессиональной аналитической работы.
Однако не следует думать, что экономическая наука представляет лишь определенный набор идей, постулатов, готовых схем и рецептов, которые находятся где-то за университетско-академической дверью и только ждут своего применения. Наука, так же как и практика, ‒ явление развивающееся, готовое неискушенному исследователю преподнести сюрприз в виде модного, но все же лжеоткрытия либо искаженного представления о реальной действительности как в своей стране, так и за ее пределами, полученного через призму упрощенных, аксиоматических экономических категорий или понятий давно забытых дней, а следовательно, и опровергнутых самой историей.
В ракурсе вышеотмеченного политическая экономия как бы «возрождается», т.е. получает свое новое качество как часть экономической теории с учетом объективизации исторического своего развития. А это развитие отражает расширение состава факторов производства и включение в этот состав информации и знаний.
Инструментарий теории новой политической экономии
В начале XXI в. во многих странах не оказалось ни политического, ни идеологического, ни экономического, ни других стабилизаторов, придающих устойчивость любой социальноэкономической системе, и трансакционные издержки, порождаемые реформами, значительно превысили их полезный эффект. Эта ситуация обострилась состоянием неопределенности и размытости нравственно-этических ценностей и мотивов различных социальных групп и классов, регламентирующих поведение людей. В свою же очередь, огромную лепту в создание условий для дестабилизации общей социально-экономической ситуации и углубления «кризиса» внесла экономическая наука, сама оказавшаяся в гносеологическом тупике. По сути, до сих пор практически не сделан анализ прошлого. Причем это касается экономик всех государств, включая относительно благополучные. Экономика нуждается в системном и углубленном анализе, дающем не гипотетическое рассуждение, а адекватное отражение современности [2].
Как и любая другая страна, Россия, претендующая на цивилизованное развитие, может осуществить это, опираясь на науку, а не на широко распространенный в настоящее время метод проб и ошибок. Но, обращаясь к науке, надо учитывать, что это весьма специфический вид деятельности. Ее нельзя заставить неким приказом или указом сделать открытие, выработать безошибочную концепцию развития, создав очередную структуру советников, как, впрочем, нельзя окончательно и запретить. Причем в отличие от традиционной производственной деятельности в науке исключена так называемая помощь «всем миром», а использование уже имеющихся открытий в рамках той или иной системы государственного устройства предполагает их органичное вплетение с учетом всех специфических особенностей, начиная от образа мышления до потребительского поведения, отличающих одну систему от другой. Обособившись от других сфер человеческой деятельности и других наук, экономическая наука, определив свой предмет, методологию и инструментарий исследования (соответственно историческому развитию общества), выступила мощным кумулятивным началом общественного прогресса. И хотя, как иронично отмечал В. Леонтьев, золотой век экономической науки еще и не наступил, трудно себе представить более или менее благополучное будущее всего мира и отдельных государств без науки об экономике.
Таким образом, учитывая обстоятельства важности и назначения экономической науки, ее очевидные внутренние проблемы, опосредованные онтологическими и гносеологическими изменениями, состояние дел в конечном счете предопределило нацеленность авторского коллектива под руководством М.И. Скаржинского на изучение аспектов методологии экономики в части нормативного и позитивного принципов анализа применительно к той ее части, которая идентифицируется как новая политическая экономия, инвентаризацию ее идей, закономерностей логики и истории экономического анализа.
В первую очередь авторский подход выразился в отношении к самой новой политической экономии, ее определению в структуре экономической теории, направленности и назначению. Сегодня, эволюционируя вместе с хозяйственной практикой, экономическая теория уже уходит от одномерной, статичной и функциональной оценки различного уровня социально-экономических тенденций и явлений. На рубеже XXI в. встал вопрос о направлениях и перспективах развития мирового экономического сообщества и отдельных национальных экономик, формирующих региональные взаимосвязи и отношения. Вместе с тем очевидна необходимость вскрытия на более высоком, по сравнению даже с 1980-ми гг., уровне развития техники и технологии, качества трудовых ресурсов, закономерностей функционирования экономической системы. Немалый потенциал более эффективного использования ресурсов заложен при процедуре принятия решений, реализации экономической политики. Вот этим проблемам и посвящены исследования проблем новой политической экономии, способствующие разрешению мнимой дискуссионности, особенно характерной для отечественных экономистов, пытающихся, например, предать забвению политэкономию, заменив ее «Экономиксом» или же, наоборот, характеризовать традиционный «Экономикс» ненужной экономической теорией, поскольку она обслуживает класс имущих. Очевидно, что в современных условиях каждая часть экономической науки имеет весьма важное как теоретическое, так и практическое значение.
Вместе с тем очевидны и слабости в разрешающей способности существующего инструментария теории новой политической экономии. Ситуацию с состоянием и проблемой развития экономической теории в целом очень удачно охарактеризовал в работе «Единственный критерий истины – согласие с данными опыта» лауреат Нобелевской премии по экономике М. Алле: «Как физика нуждается сегодня в единой теории всеобщего тяготения, так и гуманитарные науки нуждаются в единой теории поведения людей» [1, с. 27]. Данный тезис означает, что, обращаясь к мировому теоретическому опыту, ученые должны уже заранее учитывать те погрешности, которые будут присутствовать при использовании аналитического аппарата традиционной или ортодоксальной экономической теории. Разрешению гносеологического тупика должно способствовать «созидательное разрушение», позволяющее выйти на качественно новый уровень восприятия происходящих сложных и динамичных социально-экономических процессов. А это уже первый необходимый важный шаг для преодоления практических проблем.
М.И. Скаржинский утверждал, что новая политическая экономия сочетает в себе творческую юность, исследовательский задор к углубленному познанию структурных элементов общества, степени прочности его экономического фундамента и накопленной веками мудрости поколений, воплощенных в устойчивых социальных формах экономического прогресса, многочисленных трудах ученых, отмеченных историей и экономической жизнью. Однако данный тезис должен быть подкреплен раскрытием сущности новой политической экономии и ее отличием от политической теории труда и капитала. В связи с этим обстоятельством отметим следующее.
Классическая политическая экономия, положив в основу трудовую теорию стоимости, даже в лице своих лучших представителей не смогла последовательно провести через анализ всей совокупности производственных отношений ее фундаментальные положения, высветить внутреннюю систему жизнеобеспечения капиталистического строя действием закона стоимости, дать логически непротиворечивое ее изложение и толкование. Объясняя многие поверхностные формы буржуазных экономических отношений, анализируя количественные зависимости, она не ощущала потребности проникновения в их внутренний мир, внутреннюю сущность, что не позволило показать, как и почему они должны неизбежно изменяться, одни формы в процессе развития превращаться в другие. Окрыленная приходом к политической власти буржуазии, политическая экономия торжествовала.
Но капитал – не вещь, а отношение между капиталистами и наемными рабочими. Следовательно, для полноты раскрытия экономических проблем капитала, перспектив, тенденций его развития необходимо его освещение и с позиций рабочего класса, нужна политическая экономия труда. Нельзя сказать, что трудовая теория стоимости классической буржуазной политэкономии вовсе не замечала или игнорировала труд (рабочий класс), но она смотрела на него с позиций класса капиталистов, с позиций капитала. С этих же позиций невозможно что-либо существенное увидеть, что-либо вразумительное добавить в трудовую теорию стоимости. Образовался, таким образом, существенный пробел в теоретическом анализе капитала и в самой теории трудовой стоимости, а значит, в историческом процессе формирования экономических знаний, в развитии политической экономии.
Слабость английской классической школы политической экономии была в том, что она подвергала анализу экономическую жизнь капитала, как она видится с поверхности, те ее формы, которые очевидны каждому: товар, обмен, меновая стоимость, цена, деньги, труд, заработная плата, прибыль, рента и т.п. Она фиксировала поверхностно очевидный факт: товары
ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создаются трудом, стоимость, ее величина – рабочим временем, затраченным на производство товара. А вот каков он, этот труд, создающий товар, его качественная характеристика и структура, эта школа изначально не принималась во внимание, в него не углублялась. Ее поиски остановились на труде, каким он виден стороннему наблюдателю, а не исследователю; труде, каков он есть – труде вообще, а не только в сельском хозяйстве, как утверждали в свое время физиократы.
У основателя новой школы в политической экономии К. Маркса, источником которой стала английская классическая школа, ее трудовая теория стоимости, труд как целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение предметов природы и приспособление их к потребностям людей, характеризуется большим разнообразием – простой и сложный, частный и общественный, индивидуальный и личный, производительный и непроизводительный, необходимый и прибавочный, конкретный и абстрактный. Это совокупность разновидностей труда, всякий труд. Всякий же труд выступает, прежде всего, как взаимодействие человека с природой, ее силами . Но он и неотъемлемое свойство любого социального организма, каждый индивид которого вступает во взаимодействие с другими людьми; это общественное, социальное действие. Раз люди работают друг на друга, их труд получает общественную форму, становится общественным. Таковым является труд раба, крепостного, наемного рабочего, добывающего необходимые блага в совместной трудовой кооперации рода или общины. Названное выше общее свойство общественного труда дополняется проникновением в специфические особенности каждого из них, изучением каждой специфической формы, особенностей ее. Этого требует и философское положение: абстрактной истины нет, она всегда конкретна. Общие абстрактные понятия не позволяют через них вскрыть его специфические особенности, проникнуть в его сущность, понять его.
Экономические отношения как категория новой политической экономии
Совокупность экономических отношений в политической экономии – это не сумма всех ее элементов, собранных в произвольном порядке, а система взаимосвязанных звеньев, в едином жизнедеятельном организме. В чистом виде эта система, образующая органическое единство генетически связанных и соответственно по отношению друг к другу расположенных звеньев.
Экономические отношения (связи) между людьми как агентами экономических систем существуют в формах координации и субординации.
Поскольку экономические отношения в науке выражаются соответствующими понятиями, категориями, то в субординированных связях находятся и категории политической экономии – каждая должна быть поставлена на свое место. Понять какое-либо явление (особенно экономическое) – значит, выразить, изложить его в понятиях данной системы.
Современное состояние политической экономии позволяет выделить следующие группы категорий: 1) общие и специфические; 2) первичные и вторичные, производные вообще; 3) классические и переходные; 4) фундаментальные и перенесенные; 5) превращенные и иррациональные.
Общие категории выражают, фиксируют явления экономической жизни, имеющиеся во всех обществах. Они так или иначе связаны с производительными силами или являются элементами их. В своей основе это материальный субстрат общественного производства, выступающий в теоретическом осмыслении в обнаженном от специфических социальных форм виде (как материальный остов, своеобразный скелет или итог деятельности), или общие формы производственных отношений, в которых не фиксируются социально-экономические различия агентов общественного производства. Сюда относятся следующие категории типа производство, труд, средства производства, предметы потребления, продукт, собственность, общественный труд, прибавочный продукт и др. Они выражают отношения, взаимодействие человека с природой, ее силами вообще или между людьми вообще, вне их социальных ролей. В принципе их можно разделить на экономические категории и категории политической эконо- мии. Последние выражают отношения между людьми, не фиксируя внимания на их социальном статусе, т.е. между людьми вообще. В общих категориях фиксируется то, что свойственно всякому общественному производству.
Может возникнуть вопрос, не выходят ли они (общие категории) за рамки предмета новой политической экономии? Ведь некоторые из них отражают взаимодействие человека с силами природы, средствами производства в каждом обществе, не фиксируя внимания на специфических особенностях этого взаимодействия, на социальных характеристиках участников общественного производства. Они, однако, важны для новой политической экономии, поскольку фиксируют то общее, что избавляет от необходимости повторять его в каждом отдельном случае: во-первых, позволяют четко выделить сугубо социально-экономические, политико-экономические отношения для их анализа; во-вторых, они образуют материальный субстрат, материальную основу, на которой складываются политико-экономические отношения, облекающиеся в категории политической экономии.
Начало XXI в. с его стремительными изменениями в очередной раз испытывает на прочность человеческое сообщество, а следовательно, его сформированные целевые установки, господствующие нравственно-этические нормы, формы общественного сознания, среди которых экономической науке принадлежит решающее значение. И история стран с их разнообразными характеристиками подтверждает это, равно как и то, что сама наука не представляет собой набор догм или раз и навсегда застывших истин. Экономическая наука, отражая динамично развивающийся хозяйственный мир, также изменяет свой объект, предмет, методологические подходы, инструменты анализа. Обогащение понятийно-категориального аппарата, дающего прирост знания, – так в общем виде еще можно сформулировать главную задачу науки об экономике.
Именно решению названной задачи и служат исследования представителей Костромской школы новой политической экономии, посвященные формированию методологии новой политической экономии [5, 6, 7, 8], (определение сущности которой будет произведено далее в силу того, что хозяйственный мир имеет крайне сложную содержательную структуру, а человеческое знание о нем всегда ограничено).
Общий образ, целостное отражение социально-экономической системы через призму законов, принципов и совокупность производственных отношений дает новая политическая экономия. Ведь, как показывает исторический опыт эволюции политэкономии, именно в исследовании системы объективных экономических законов и отношений человеческого общения (производства, распределения, обмена и потребления) оформился предмет экономики как науки в ее классической интерпретации. С этого начался старт той индустриально-экономической цивилизации, очередной этап существования которой мы сейчас переживаем.
Как фундаментальная наука новая политэкономия на этой и других наиболее значимых стадиях своего развития, во-первых, позволяет определить стратегию и динамику политэко-номического и социокультурного развития, во-вторых, предметная определенность, методология, категориальный аппарат позволяет выявить потенциал, движущие силы складывающегося способа производства, эпохи с выявлением ограниченности и перспективности одних экономических форм по сравнению с другими. В-третьих, зафиксировать «несущую конструкцию» или основу общественно-экономического устройства как составляющую определенного технологического способа производства, общественного уклада, экономической и моральноэтической нормы поведения, политико-правового механизма координации и защиты интересов индивидов, их собственности. В-четвертых, на основе складывающихся тенденций в траектории институциональных изменений определить прогноз возможных противоречий развития с выявлением соответствующих форм их разрешения. Наконец, новая политэкономия дает методологическую и инструментальную основу для анализа другим более конкретным экономическим дисциплинам. И реальная практика пользовалась и пользуется подобного рода выводами.
Однако анализ проблем, методологических подходов и других свойств современной экономической науки позволяет выделить несколько направлений именно политической экономии, которые позволяют заключить, что данная дисциплина скорее живое ищущее творчество, чем мертвая история.
О направлениях в политической экономии
Ярким примером является возрождение в 1960-е гг. политэкономии в классических традициях. Распределение доходов, проблема власти, монополистического и транснационального капитала – центральные проблемы этого направления политэкономии.
Многие направления исследований, которые сегодня рассматриваются как междисциплинарные, Смит, Милль или Маркс отнесли бы исключительно к области политической экономии. Дж. Альт и А. Алезина рассматривают политическую экономию как область знания, выходящую за пределы экономики. Они характеризуют современную политическую экономию как отрасль социальных наук, стремящуюся к более широкому осмыслению экономических проблем, чем это делается в рамках основных направлений. Эта дисциплина рассматривает институты скорее как эндогенные феномены, применяя междисциплинарные методы исследования, теорию игр, сближая макроэкономику с политикой, правом, историей, социологией, экологией, этикой. Размер дохода и богатства в данном контексте рассматривается как функция от формируемых институтов: это у = f (I 1 , I 2 , „.I n ), I n ), где I 1 ,.. I n - это институциональные изменения. Если еще два десятка лет некоторые проблемы получали лишь свою формулировку, то сегодня некоторые из них уже получили некоторое теоретическое и практическое разрешение. Это относится к исследованиям межпартийной борьбы Э. Даунса и теории У. Райкера о формировании правительственных коалиций, описывающих роль распределительной политики при формировании правительств.
К числу крупнейших достижений политэкономии XX в. относятся теорема невозможности К. Эрроу и доказательство произвольности совокупных правил социального выбора, которые плохо согласуются с либерально-демократическими мифами о «воле народа». Среди важнейших достижений следует отметить модель бюрократии, монопольно регулирующей информационные услуги (У. Нисканен, Г. Миллер, Т. Мо), теорию политических циклов деловой активности (У. Нордхаус, Д. Гиббс), влияющей на экономические результаты.
Особое значение имеет проблема формирования и распределения бюджета со своими частными ответвлениями: теория сглаживания налогов, концепция перераспределения государственного долга между поколениями, модель политического конфликта и исследования по институциональному отбору, зависящему от использования бюджетных средств, которыми распоряжается избранное демократическим путем правительство или законодатели.
Буквально во все разделы экономической науки проникла идея Р. Коуза о трансакционных издержках. Сама постановка вопроса об их положительной величине в условиях разделения труда и обмена, а также гипотеза о необходимости спецификации прав собственности является типично политико-экономическим достижением на новом уровне теоретического осмысления рыночного хозяйства.
«Политическая экономия голода» А. Сена и И. Дрейзе не только опровергает Парето-оптимальность, но и институциональными отличиями (средой, политикой, законами распределения) объясняет причину 20 % мировой бедности и нищеты.
Перспективы новой политэкономии выстраиваются из-за рамок проблем, которые не попадают по каким-то причинам в исследовательское поле экономической науки, а также тех проблем, которые обозначили себя наиболее остро. За пределами внимания мэйнстрима науки, например, остается до сих пор возникшая огромная сфера новой экономики, глобальные проблемы и собственно мир-экономика как феноменальное явление современности. Футурологи, политологи, социологи своими работами все-таки подтолкнули и экономистов к освоению иных предметных областей. Собственно, это является хорошим и естественным признаком развития как самой экономической науки, так и хозяйственной практики, поскольку последняя крайне нуждается в дополнительной информации для выверенных и рациональных политико- экономических решений. Во-первых, оформившаяся мир-экономика предопределяет поиск не только и не столько содержания отношений и законов на национальном уровне, чем занималась классическая политическая экономия, сколько адекватного отражения сложившегося мирохозяйственного порядка с его приоритетом ценностей, вектором международных и национальных интересов. Извлечение глобальной ренты требует по крайней мере упорядочения принципов и механизмов ее распределения, поскольку начинают активно применяться военно-силовые методы, усиливающие современную ситуацию неопределенности. Во-вторых, исчерпаны факторы и условия экономического роста, заложенные парадигмой неоклассической теории. Поэтому требуется выработка новой стратегии социально-экономического развития, где экономический рост является всего лишь ее частным случаем. А это уже предметная область политэкономии. Необходимо отметить, что информационный фактор, преодолевающий национальные границы прежних моделей экономики, в развитых странах определяет 50– 70 % добавленной стоимости. В-третьих, создание глобальной сети высветило совершенно новые качества отношений труда и капитала, трудовых отношений, отношений между капиталами, их организационными формами, взаимодействия с институтом государства и другими институтами. М. Кастельс пишет: «...Капитал и труд, оказывается, разнесены в разное пространство и время. Они живут друг за счет друга, но друг с другом не связаны, ибо жизнь глобального капитала все меньше зависит от конкретного труда и все больше от объема накопленного труда как такового, которым управляет небольшой мозговой центр, обитающий в виртуальных дворцах глобальных сетей. Борьба между многообразными капиталистами перетекает в категорию более глубинного противоречия между логикой потоков капитала и культурными ценностями человеческого бытия» [3]. Есть и другие принципиальные изменения, требующие именно политико-экономических подходов, дающих целостную картину современной экономической картины мира.
Заключение
Известен плодотворный методологический подход к современной хозяйственной системе (именно хозяйственной, а не экономической), имеющей деятельный, человеческий характер. Л. Мизес эту отрасль науки назвал праксиологией. Он писал: «Недостаточно далее заниматься экономическими проблемами в рамках традиционной структуры. Теорию каталлактики (науку об обмене, рынке) необходимо выстроить на твердом фундаменте человеческой деятельности» [4].
В философии, экономической методологии, понятийном аппарате наук, «работающих» на основе предметных областей, уже достаточно накопленной информации, выводов, чтобы очертить контуры новой синтетической науки, ее предмет, методологию и прочие атрибутивные свойства. Это не должно расцениваться как некая фантазия или вымысел. Об интерпретации частных наук свидетельствует их предметный анализ, их стремление к междисциплинарности. И действительно, прав М. Алле и другие авторы, которые пишут, что, как и наука физика (где стоит проблема интегрального объединения или хотя бы единого объяснения теории всеобщего тяготения, электромагнетизма и квантовой механики), так и гуманитарные науки нуждаются в единой парадигмальной теории, объясняющей поведение людей. В качестве таковой представителями Костромской школы экономистов выдвинута концепция общего экономического пространства. Она фиксирует другой уровень развития политической экономии как интегральной идеальной конструкции, отражающей широкий, но обобщающий спектр современных технологических, правовых, социально-экономических процессов, нравственноэтических и культурологических тенденций. В ней стоимость и ценность как базовые категории классической политэкономии и неоклассической теории интегрируются в категорию «институциональная ценность». Именно последняя является тем общественным нормативом, подобным стоимости или ценности, который уже регламентирует поведение людей в «новой экономике». И затем, если быть до конца последовательными, то сам факт признания «новой экономики», которая сегодня же охватывает около 75 % занятых, означает признание необходимости возникновения новой науки об этой сфере деятельности, принципиально изменившей всю современную хозяйственную систему. Ведь, как писал главный редактор журнала «Бизнес Уик», мы знаем, как измерить продукцию старой экономики, но абсолютно не знаем, как измерить ее в высокотехнологичной экономике. Поэтому наш тезис – не назад к политэкономии, а вперед к новой политэкономии как обобщающей науке о современной мирохозяйственной политико-экономической системе. Для этого имеются как онтологические, так и гносеологические предпосылки [9, 10].
Итак, следует отметить, что новая политэкономия – это особая сфера человеческого сознания, общей и экономической культуры, влияющая на условия и, следовательно, на результаты хозяйственной деятельности. Это не набор каких-то готовых догм, рекомендаций. Это, скорее, метод, интеллектуальный инструмент, техника мышления, помогающая тому, кто владеет ею, приходить к правильному решению.
Чтобы теории не мешали, а многознание учило мудрости, необходимо видеть основание экономических дисциплин, которые фиксируются политэкономией. Однако авторы считают, что название применимо лишь к тому предмету, который сформировал эту научную дисциплину с ее аналитическим инструментарием. Новые проблемы, явления, имеющиеся методологические подходы требуют и нового названия науки. Это естественный итог развития общественно-экономической системы и самой науки.
Подводя итог, отметим, что новая политическая экономия – это не политическая экономия труда или капитала, это политическая экономия информационного общества.
Список литературы Новая политическая экономия - наука о мирохозяйственной системе
- Алле М. Единственный критерий истины -согласие с данными опыта//Мировая экономика и международные отношения. -1989. -№ 11.
- Ананьин О. Структура экономико-математического знания: методологический анализ. -М., 2005. -244 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. О. Шкаратана. -М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. -608 с.
- Мизес Л. Теория и история: интерпретация социально-экономической эволюции: пер. с англ. А.В. Куряева. -М.; Челябинск: Социум, 2013. -368 с.
- Нормативные и позитивный принципы анализа новой политической экономии. В 3-х ч. Ч. I. Новая политическая экономия/науч. ред. В.В. Чекмарев. -Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. -328 с.
- Нормативные и позитивный принципы анализа новой политической экономии. В 3-х ч. Ч. II. Принципы экономического анализа/науч. ред. В.В. Чекмарев. -Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. -323 с.
- Нормативные и позитивный принципы анализа новой политической экономии. В 3-х ч. Ч. III. Практика применения методологии позитивного и нормативного анализа в новой политической экономии/науч. ред. В.В. Чекмарев. -Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. -525 с.
- Скаржинский М.И., Чекмарев В.В. Методология экономической науки. -Кострома, 2005.
- Чекмарев В.В., Чекмарев Вл.В. Новая политическая экономия в контексте ожиданий реализации прогностической функции экономической науки//Вопросы политической экономии. -2015. -№ 3. -С. 20-29.
- Чекмарев В.В. Эксперимент внутри традиций//Экономика образования. -2013. -№ 1. -С.16-20.