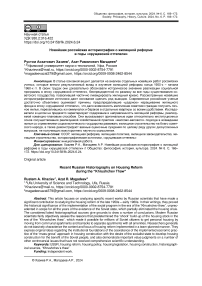Новейшая российская историография о жилищной реформе в годы «хрущевской оттепели»
Автор: Хазиев Р.А., Магадеев А.Р.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье основной акцент делается на анализе отдельных новейших работ российских ученых, которые внесли результативный вклад в изучение жилищной реформы конца 1950-х - начала 1960-х гг. В своих трудах они доказательно обосновали историческое значение реализации социальной программы в эпоху «хрущевской оттепели», беспрецедентной по размаху за все годы существования советского государства, позволившей частично ликвидировать жилищный кризис. Рассмотренные новейшие историографические источники дают основание сделать ряд выводов. Современные российские ученые достаточно объективно оценивают причины, предопределившие «ударное» наращивание жилищного фонда в эпоху «хрущевской оттепели», что дало возможность миллионам советских граждан получить личное жилье, переселившись из коммуналок и бараков в отдельные квартиры со всеми удобствами. Исследователи в целом не предвзято характеризуют содержание и направленность жилищной реформы, реализуемой командно-плановым способом. Они высказывают оригинальные идеи относительно институционных основ сосуществования реализуемой хозяйственной практики «массово-валового» подхода в возведении жилья со стремлением социалистического государства развивать жилищное строительство на благо советского народа, а также демонстрируют важные оценочные суждения по целому ряду других дискуссионных вопросов, не получивших всестороннего научного осмысления.
Ссср, жилищная реформа, жилищная политика, жилищное законодательство, жилищное строительство, историографические источники, «хрущевская оттепель»
Короткий адрес: https://sciup.org/149145933
IDR: 149145933 | УДК: 930.2:316.422 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.24
Текст научной статьи Новейшая российская историография о жилищной реформе в годы «хрущевской оттепели»
,
,
Жилищная реформа эпохи Н.С. Хрущева была не только одним из важных социально-ориентированных проектов периода «хрущевского реформизма», но и фактически легитимизировала достижения постсталинского социализма. Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. значительная часть населения СССР реализовала свою сокровенную мечту, получив отдельное и, по советским меркам, комфортабельное жилье.
Массовое возведение конвейерным способом сборных домов («хрущевок») стала явной сменой курса в пользу человека труда. Партийно-государственная власть в рамках идеологической кампании строительства коммунизма явно демонстрировала приверженность улучшению стандартов жизни для десятков миллионов человек, а не только для немногих избранных. Как никакая другая, именно жилищная реформа периода «хрущевской оттепели» оказала существенное влияние на формирование позитивного умонастроения населения страны, которое наглядно убеждалось в хозяйственно-экономической мощи социалистического государства.
Начавшееся в постсталинскую эпоху массовое жилищное строительство вызвало кардинальные изменения не только городского пространства, но и обустройства советского домашнего быта. С точки зрения простых людей, десятилетиями живших в режиме жесткого сталинского стоицизма, произошел значительный, но, конечно, неравномерный скачок вперед в становлении общества массового потребления. Модернизация советской повседневной жизни в разрезе жилищно-бытового обустройства советских граждан, инициированная ЦК КПСС и лично Н.С. Хрущевым, в различных контекстах интерпретируется современными отечественными исследователями. Это обуславливает актуальность историографического осмысления данного вопроса.
Целью настоящей статьи является рассмотрение новейших отечественных историографических источников, авторы которых, в ракурсе «историографического поворота», внесли существенный вклад в изучение хрущевской жилищной реформы, осуществляемой в конце 1950-х – начале 1960-х гг. как в центре, так и на периферии.
При анализе историографических источников научно-исследовательского типа использовались, прежде всего, два главных принципа – историзма и целостности, а также на их основе – сравнительно-исторический метод, что позволило определить научный вклад современных российских ученых в исследование жилищной реформы в постсталинский период конца 1950-х – начала 1960-х гг.
Современные российские ученые уделяют особое внимание детальному изучению жилищной реформы эпохи «хрущевской оттепели» прежде всего потому, что хотя она и была противоречивой, но в целом имела выраженное положительное значение. Благодаря массовому появлению «хрущевок» в СССР частично удалось разрешить жилищный кризис.
Так, А.Г. Григорьева при проведении диссертационного исследования1, а затем и в последующих публикациях (Григорьева, 2009; 2010а; 2010б), ввела в научный оборот значительное число агрегированных статистических данных и проанализировала политико-хозяйственную силу эффекта резкого увеличения жилищного фонда с точки зрения социальной стабилизации советского общества. Автор, оперируя структурированными типами данных, показывает, что хрущевская жилищная реформа была прорывным модернизационным проектом, на деле доказывая советскому обществу результативность ресурсного потенциала социализма, когда за относительно короткий период времени удалось существенно увеличить национальный жилищный фонд.
Исследователь весьма убедительно выражает свое мнение о происходившей высокими темпами в эпоху Н.С. Хрущева урбанизации страны – одном из значительных событий в советской истории. Однако, хотя в то время и применялся авангардный модульный принцип квартальной застройки городов из типовых панельно-блочных элементов, упор преимущественно делался на количественные показатели, следовательно, на увеличение объема жилья, не соотносимого с его качеством. Несмотря на то, что в своих исследованиях А.Г. Григорьева не задавалась вопросами о функциональном значении такого явления, как «бравурная показуха», которую активно демонстрировали совпартработники «хрущевского набора», введение в эксплуатацию жилого фонда с низкими потребительскими характеристиками объясняется объективной реальностью того времени – необходимостью ликвидации жилищного дефицита.
Действительно, в советском обществе очень часто возникали трения межличностного характера, обостряя тем самым социальный климат ввиду утвердившейся после октября 1917 г. революционной практики «коммунального общежития». Однако именно в период «хрущевской оттепели» был совершен настоящий прорыв, когда государство впервые стало реализовывать политику массового обеспечения советских граждан личным пространством. Одной из возможностей получения собственного жилья стала деятельность жилищных кооперативов, социальное предназначение которых описательно охарактеризовала А.Г. Григорьева. Следует отметить, что автор слишком поверхностно объясняет воздействие жилищной реформы на повышение социальной мобильности населения, изменение сложившегося привычного уклада жизни советского горожанина и, в целом, социальных отношений и т. д.
В.Н. Горлов, реализуя собственные научные проекты1 (Горлов, 2021), а также в соавторстве с С.Н. Артёмовым (Горлов, Артемов, 2022; 2023), в определенной степени традирует исторический смысл и значение решения квартирного вопроса с позиции главного мегаполиса СССР – Москвы, в которой наиболее наглядно и массово, чем где-либо еще происходило утверждение нового социалистического долженствования: отдельная квартира – одна из весомых причин трансформации жизненных ценностей москвичей.
В.Н. Горлов, применительно к опыту Москвы, разработал вопросы о том, как обретение индивидуального жилого пространства фундаментально сказалось на повышении социального самоощущения москвичей, а также сформировало их психологическую нацеленность на обесценивание и, соответственно, забвение социального рудимента в виде дворового единения жильцов. Данная форма самоорганизации населения в сталинской Москве выполняла важную миссию сплочения воедино жильцов, которые большой «общественной семьей» проживали в коммуналках. Автор, обобщая опыт Москвы, убедителен в суждениях о том, что получение отдельной квартиры, вызвав замещение коллективной формы общения соседей лично-семейным досугом, фактически сводило на нет совместное времяпровождение соседей в знаменитых московских дворах. Формирование квартирно-личного индивидуализма происходило и ввиду «свободной планировки домов без определенных границ» (Горлов, 2021: 41–42).
Р.М. Хайруллина, используя разнообразный фактический материал, охарактеризовала процесс развития индивидуального жилищного строительства на Южном Урале в 1950–1960-е гг. (Хайруллина, 2011). Автор выдвигает идею (но всецело ее не аргументирует), что одним из важных побудительных мотивов обзавестись своим домостроением, где имелись для этого условия и возможности, являлось массовое возведение многоэтажного жилья ненадлежащего качества. Оно существенно отличалось от одно- и двухэтажных строений, возведенных своими собственными руками. Р.М. Хайруллина, используя метод утвердительной констатации отдельных фактов и событий, по сути, лишь перечисляет трудности и сложности, системно возникавшие при строительстве типовых домов индивидуальным способом.
Так, длительным по времени было оформление земельных участков, что часто было обусловлено откровенным взяточничеством. Помимо этого негативного явления, граждане, строившие дома своими силами, не всегда имели возможности приобрести по месту жительства свободно и в нужных объемах кровельное покрытие, гвозди, краску, пиломатериалы, кирпич и т. д. В большинстве случаев стройматериалы, при наличии их в магазинах, можно было купить только в крупных населенных пунктах. Автор, обозначая недостатки, использует и историко-объективистский подход. В частности, в исследовании отмечается, что массовое возведение индивидуальных жилых домов (пусть даже из дешевых материалов и конструкций), проекты которых были разработаны Госстроем РСФСР, позволили значительно снизить потребность населения региона в жилье (Хайруллина, 2011: 110).
Р.Р. Хисамутдинова и Р.М. Давлетшина (2017), исследуя проведение жилищной реформы конца 1950-х – начала 1960-х гг. на периферии, охарактеризовали специфику ее реализации на Южном Урале. Авторы, преимущественно придерживаясь историографически-центричного взгляда, безусловно, учитывали научные наработки коллег, рассматривавших жилищную реформу периода Н.С. Хрущева в общероссийском фокусе и региональном измерении. Выбор методологического концепта историографической «золотой середины» позволил исследователям разобраться в сложных перипетиях функционирования на Южном Урале управленческого аппарата не только на стадии курирования строительства жилых домов, их сдачи приемщику, но и в период эксплуатации жилого фонда. Именно на этом этапе и стали обнаруживаться недостатки, а порой и провалы политики «валового» принципа возведения жилья.
Красноярский исследователь Р.В. Павлюкевич в своем диссертационном исследовании2 проанализировал основополагающие принципы жилищной стратегии, достаточно успешно реализуемой Красноярским совнархозом на подведомственной территории. Автор, оперируя статистическими данными, отчасти раскрывает механизм достижения быстрого результата по комплексной застройке таких городов, как Дивногорск, Абаза, Норильск. Исходя из приводимых в диссертации фактов, можно сделать вывод, что добиваться плановых показателей удавалось благодаря целевому использованию материально-технического потенциала, аккумулированного Красноярским СНХ. Можно согласиться с автором, что реализуемая Красноярским совнархозом, и, соответственно, другими территориальными СНХ, жилищно-строительная программа была прорывным проектом. Благодаря ему компактно возводимые в крупнейших городах края жилые кварталы обеспечили существенный рост промышленного потенциала региона, вызвав приток специалистов в самый большой экономический район Сибири.
А.А. Гуменюк, изучая реализацию жилищной политики в Нижнем Поволжье в 1940-1980 гг. (Гуменюк, 2012; 2015; 2016), особо выделяет период «хрущевского реформизма», который (и автор прав) положил начало укоренению в поствоенное время новой социально-хозяйственной стратегии социалистического государства. Он, верно определив, какое историческое значение в целом для страны и, в частности для Нижнего Поволжья, имело начинание Н.С. Хрущева строить, пусть и с издержками, но «быстро и много» жилых домов для советских трудящихся, не очерчивает основополагающие причины, которые вынудили ЦК КПСС начать в стране массовое жилищное строительство. В действительности, развернутая Н.С. Хрущевым жилищная реформа была одним из базовых элементов, обеспечивающих стабильное функционирование советской политической системы в условиях быстро меняющегося (в том числе и внешнего) мира, оказывавшего воздействие на умонастроение граждан СССР.
Н.Н. Макарова, в контексте последовательного и всестороннего исследования исторического архетипа «Магнитки», в частности, как многофункционального социалистического «города-механизма», рассмотрела выполнение жилищной реформы на примере Магнитогорска 1953–1964 гг. (Макарова, 2019). Автор, изучая данный вопрос, фактически определяет, что массовое возведение жилья в городе явилось мощным драйвером развития социальной сферы. Она не употребляет определение «социальное чудо» локального характера как аналог понятию «хозяйственно-экономическое чудо», но приводимая автором доказательная база существенного роста социальной сферы в Магнитогорске периода «хрущевского реформизма» позволяет прийти к такому выводу. Н.Н. Макарова обозначает источники периферийного «чуда», запустившие процесс роста социальной сферы в границах Магнитогорска. Это рациональное перераспределение имевшихся средств и использование сверхплановой продукции в результате совершенствования территориального принципа организации производства разнопрофильных предприятий. Важно отметить, что автор выделяет и имевшиеся негативные тенденции, которые обесценивали и задерживали реализацию жилищной реформы в городе. Прежде всего, это местничество, характеризующееся разбалансировкой управленческой деятельности совнархозов, что систематически замедляло, а порой и срывало сроки жилищного строительства.
М.Г. Меерович, глубокий, яркий и талантливый исследователь, оставил ценное научное наследие, среди которого имеется весьма актуальная публикация (Меерович, 2016). Она посвящена важному вопросу - значительной корректировке в эпоху Н.С. Хрущева постсталинской стратегии возведения жилого фронда, прежде всего, коммунального жилья. Автор, демонстрируя высокопрофессиональный навык археографического анализа различных по типологии архивных материалов, рассматривал функциональное содержание хрущевской концепции индивидуального жилья как один из компонентов стратегии управления социумом, являвшимся производственной единицей социалистического общества. М.Г. Меерович, используя корпус репрезентативных источников, обосновывает свой главный вывод, что в СССР жилищная реформа второй половины 1950-х - начала 1960-х гг. изначально тесно взаимодействовала с общегосударственной социально-организационной и административно-управленческой политикой.
И.Г. Вельможко, изучая социальные трансформации в период «хрущевской оттепели» (Вель-можко, 2016; 2019), предметно анализируя жилищную реформу, объективно оценивает её как одно из самых знаменательных событий периода «хрущевского реформизма». Вполне логичен основной посыл автора, что в условиях планово-социалистической экономики, для которой характерны финансово-хозяйственные издержки, при массовом строительстве жилого фонда в эпоху Н.С. Хрущева происходило в большей степени продуманное распределение ресурсов. Умозаключения автора сводятся и к тому, что в целом успешная реализация жилищной реформы второй половины 1950-х - начала 1960-х гг. способствовала значительному росту уровня жизни горожан, однако данный, не вызывающий сомнения тезис, не всегда подкрепляется должным числом агрегированных статистических данных.
В.О. Трокоз (2022), повествуя о советском варианте «решения квартирного вопроса» во второй половине 1950-х - 1980-х гг., акцентирует внимание на том, что эпоха Н.С. Хрущева положила начало укоренению в жилищном строительстве практики минимализма. Автор, характеризуя полезную емкость жилых помещений (квартир), измеряемую набором домашней мебели, которую можно было разместить в квартире без ущемления личного пространства проживающих, определяет уровень комфорта жизни советских домохозяев. В.О. Трокоз, используя, но не обозначая смысловые конструкты радиуса жизненного пространства (от центра к его границам), несколько гипертрофирует ценность фактора обстановки – мебели, расставляемой в жилых помещениях квартиры, например, кухонного гарнитура, не всегда вписывающегося в квадратные метры типовой кухни. В.О. Трокоз, теоретизируя «мечты» советских граждан в плане обустройства квартир, не соотносит их желания с жизненной практикой сверхценности обладания отдельным жильем вообще и вторичности ценностного фактора заполнения его мебелью и предметами быта. В целом, общее содержание статьи достаточно объективно, так как позволяет внимательному читателю в общих чертах понять смысл и содержание ментальных устремлений советских людей, начавших постепенно изживать в период «хрущевской оттепели» синдром коммунального социалистического общежития, и утверждать новый стиль обустройства жизни в формате личного пространства: отдельная квартира и, по советским меркам, комфортабельное обустройство жизни в ней.
Таким образом, изучение определенного числа историографических источников, в которых целенаправленно или в общеисторическом контексте рассматривались разнообразные вопросы реализации во второй половине 1950-х – начала 1960-х гг. жилищной реформы в СССР, позволяет сделать вывод о том, что российские ученые вышли на принципиально новый историографический уровень осмысления данной темы. Тем не менее, отечественными учеными, а также исследователями зарубежного россиеведения еще не актуализированы отдельные, но значимые процессы, касающиеся институционных механизмов реализации жилищной реформы периода «хрущевского реформизма» как в центре, так и в регионах. Весьма важным является определение глубинно-многофакторных причин, подвигнувших Н.С. Хрущева провозгласить новый курс на массовое жилищное строительство. Прежде всего, жилищная реформа проявилась в индустриальной эстетике возведения по всей стране стандартных пятиэтажных «хрущевок». Они стали альтернативой градостроению послевоенного сталинизма, когда приоритетным в условиях главенства архитектурного стиля «триумф» было возведение помпезных дворцов, кинотеатров, театральных зданий, первоклассных жилищных комплексов для немногих, ставших визитными карточками, городов.
Не менее значимой является детализация запущенного процесса «сужения пропасти» между владельцами элитного жилья и теми, кто жил в скромных условиях. Новое, хрущевского типа мышление, что коммунизм предполагает наличие достойного жилья для всех, отчетливо проявилось в мировоззренческом осознании партверхами необходимости государства послужить народу и тем самым предупредить нараставшее в советском обществе недовольство уровнем и качеством жизни. Поэтому партия, за все время существования социалистического государства, впервые запустила беспрецедентную программу обеспечения простых советских трудящихся своими квартирами, массово переселяя их из переполненных, не отвечающих санитарным нормам, бараков, землянок, ветхого жилья, многоквартирных коммуналок и т. д. До сих пор всеобъемлюще не изучен важнейший вопрос о формах и методах реальной, а не партмифоло-гизированной реализации принципа социальной справедливости в распределении жилья среди трудящихся в условиях явно забюрократизированной процедуры выдачи квартир нуждающимся.
Названные вопросы и целый ряд других могут стать предметом тщательного изучения полной картины о содержании и направленности хрущевской жилищной реформы в тех условиях, когда массовое жилищное строительство конца 1950-х – середины 1960-х гг. по «осваиваемым объемам», конечно, не соотносилось с «грандиозным ростом» промышленного строительства. Имевшийся перекос вызывал в свою очередь хроническое отставание возведения социально-значимой инфраструктуры, как правило, являющейся неотъемлемым компонентом жилищного строительства.
Список литературы Новейшая российская историография о жилищной реформе в годы «хрущевской оттепели»
- Вельможко И.Н. Социальные трансформации в период «Хрущевской оттепели» // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2016. № 4. С. 93–100.
- Вельможко И.Н. Жилищное строительство в СССР как одно из основных направлений социальной политики страны в 1950–1960-е гг. // Актуальные вопросы истории, философии, права и педагогики: сб. трудов Национальной научно-практической конференции с международным участием. Рязань, 2019. С. 15–18.
- Григорьева А.Г. Особенности городской повседневности в годы «оттепели» // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2009. № 1–3 (38–40). С. 104–109.
- Григорьева А.Г. Советская повседневность и уровень жизни населения СССР в 1953–1964 гг.: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2010а. № 3. С. 216–218.
- Григорьева А.Г. Решение жилищной проблемы советских граждан в годы «Оттепели» // Теория и практика общественного развития. 2010б. № 4. С. 239–241.
- Горлов В.Н. Массовое жилищное строительство в Москве и проблемы свободного времени москвичей в 1950–1960-е гг. // Локус: люди, общество, культура, смыслы. 2021. Т. 12, № 4. С. 36–50. https://doi.org/10.31862/2500-2988-2021-12-4-36-50.
- Горлов В.Н., Артемов С.Н. Хрущевская «оттепель» и десталинизация архитектуры в 1950-е гг. // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13, № 2. С. 44–59. https://doi.org/10.31862/2500-2988-2022-13-2-44-59.
- Горлов В.Н., Артёмов С.Н. Переход на микрорайонный принцип застройки Москвы во второй половине 1950-х – первой половине 1960 – х гг.: противоречия становления и развития // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2023. Т. 14, № 1. С. 79–97. https://doi.org/10.31862/2500-2988-2023-14-1-79-97.
- Гуменюк А.А. Жилищно-коммунальное строительство в СССР в 1953–1985 гг. (по материалам Поволжья) // Новейшая история Отечества XX – XXI вв.: сб. научных трудов. Саратов, 2012. С. 83–93.
- Гуменюк А.А. Жилищная политика советского государства в 1953–1985 годы (по материалам Нижнего Поволжья) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2015. Т. 15, № 3. С. 100–106. https://doi.org/10.18500/1819-4907-2015-15-3-100-106.
- Гуменюк А.А. Социальная политика Советского государства во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. и колебания уровня жизни в регионах Нижнего Поволжья // Известия Саратовского государственного университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2016. Т. 16, № 4. С. 490–498. https://doi.org/10.18500/1819-4907-2016-16-4-490-498.
- Макарова Н.Н. Жилищное строительство в Магнитогорске в 1953–1964 годах // Вестник Удмуртского университета. 2019. Т. 29, № 1. С. 37–45.
- Меерович М. Г. От коммунального – к индивидуальному: неизученные страницы жилищной реформы Н.С. Хрущева. // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 2. С. 28–33.
- Трокоз В.О. Повседневность, дизайн и эргономика советского жилья с середины 1950-х по 1980-е гг. // Этнодиалоги. 2022. № 3 (69). С. 191–206. https://doi.org/10.37492/ETNO.2022.69.3.013.
- Хайруллина Р.М. Развитие индивидуального жилищного строительства на Южном Урале в 1950–1960-е гг. // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 17 (136). С. 107–113.
- Хисамутдинова Р.Р., Давлетшина Р.М. Развертывание массового жилищного строительства на Южном Урале в период политического лидерства Н.С. Хрущева // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2017. № 4 (24). С. 185–200.