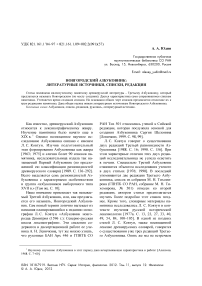Новгородский азбуковник: литературные источники, списки, редакции
Автор: Юдин Алексей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоизученному памятнику древнерусской литературы – Третьему Азбуковнику, который предлагается называть Новгородским (по месту создания). Дается характеристика семи сохранившимся спискам памятника. Уточняется время создания списков. На основании общих черт списков предлагается отнесение их к трем редакциям памятника. Дана общая оценка новым литературным источникам Новгородского Азбуковника.
Короткий адрес: https://sciup.org/14737726
IDR: 14737726 | УДК: 821.161.1’04–97
Текст научной статьи Новгородский азбуковник: литературные источники, списки, редакции
Как известно, древнерусский Азбуковник относится к лексикографическому жанру. Изучение памятника было начато еще в XIX в. 1 Однако полноценное научное исследование Азбуковника связано с именем Л. С. Ковтун. Изучив подготовительный этап формирования Азбуковника как жанра [1963; 1975] и сличив более 90 списков памятника, исследовательница издала так называемый Первый Азбуковник (по предложенной ею классификации разновидностей древнерусского словаря) [1989. С. 136–292]. Всего выделяется семь разновидностей Азбуковника с характерными особенностями и группа «азбуковников выборочного типа XVII в.» [Там же. С. 10].
Наше внимание привлекает так называемый Третий Азбуковник, или, как предлагается его называть, Новгородский Азбуковник. Сам новый термин логично вытекает из названия планировавшейся к изданию монографии Л. С. Ковтун «Азбуковник новгородца Димитрия (1596 г.): Северно-русская школа лексикографии». Эти сведения содержатся в диссертационной работе ее ученика А. Н. Левичкина, тут же можно узнать, что рукописи БАН Арх 446 и ГПНТБ СО
РАН Тих 501 относились ученой к Сийской редакции, которая послужила основой для создания Азбуковника Сергия Шелонина [Левичкин, 1999. С. 98, 99].
Л. С. Ковтун говорит о существовании двух редакций Третьей разновидности Азбуковника [1988. С. 16; 1990. С. 156]. При этом характерные отличия этих двух редакций исследовательница не успела осветить в печати. Специально Третий Азбуковник становится объектом исследования ученого в двух статьях [1976; 1990]. В последней упоминаются две редакции Третьего Азбуковника, список из собрания М. Н. Тихомирова (ГПНТБ СО РАН, собрание М. Н. Тихомирова, № 501) отнесен ко второй редакции, автором статьи предполагается изучить более подробно этот список позднее. Кроме того, словарные материалы памятника исследовались Л. С. Ковтун в контексте изучения русской исторической лексикологии [1977а. С. 13, 23, 27, 33, 40, 49, 54, 84, 100–105]. В одной из поздних статей Л. С. Ковтун, также посвященной лексике древнерусских словарей, говорится о существовании уже трех редакций Третьего Азбуковника. Опять же мы не встречаем научного обоснования для выделения редакций этой разновидности памятника [Ковтун, 1994. С. 60]. Вероятнее всего, на начальном этапе изучения Третьего Азбуковника исследовательница выделяла две редакции памятника: «краткую» и «пространную». «Краткая» редакция представлена уникальным списком РНБ Погод 1642 [Ковтун, 1988. С. 16]. Позднее Л. С. Ковтун ведет речь уже о трех редакциях. При этом одна из них связана с Антониево-Сийским монастырем (как будет понятно далее – это так называемая Вторая, или Сийская, редакция), третья редакция была создана, «по всей видимости, в Москве» [1994. С. 60].
Термин «Новгородский» применительно к Третьему Азбуковнику выводится скорее всего из принадлежности предполагаемого автора-составителя этой разновидности памятника к новгородскому монастырю Антония Римлянина. Эти сведения можно почерпнуть из текста предисловия к Азбуковнику лишь в одной рукописи из сохранившихся семи 2. Кроме того, имя автора-составителя словаря (им является клирик указанного монастыря Димитрий) приводится в этой же записи, но написано с помощью шифра, который Л. С. Ковтун при содействии Б. М. Клосса расшифровывает. Указан также год создания памятника – 1596. Эта дата позволяет исследовательнице не только установить время возникновения третьей разновидности памятника, но и датировать так называемый Второй Азбуковник, материалы которого послужили основой для создания новой разновидности, а в свою очередь Второй Азбуковник характеризуется включением в состав материалов из «Лексиса» Лаврентия Зизания, который, как известно, был выпущен западно-русским книжником все в том же 1596 г. Тем самым уникальная рукопись, хранящаяся в РНБ, позволяет установить автора и место создания – Новгород. Поэтому вполне допустимо называть Третий Азбуковник Новгородским.
Известно также время создания памятника, однако единственный сохранившийся список «Краткой», либо Первой, редакции датируется более поздним временем. Л. С. Ковтун датирует рукопись по двум сюжетам филиграней бумаги рукописи:
1) крепостные ворота – Лихачев, № 1970 (1610–1620 гг.); 2) кувшинчик – Гераклитов, № 545 (1636–1637 гг.) (см.: [Ковтун, 1976. С. 273]). В обоих случаях, вероятно, произошла опечатка при наборе статьи: под № 1970 значится совсем другой сюжет филиграни (литера P), правильный номер – 1979. Во втором случае речь идет о № 546, так как именно на тулове кувшина под этим номером в альбоме литеры (IC) и навершие кувшина совпадают с существующими в рукописи. Кувшин такой же, как кувшин № 157 (1636 г.) в альбоме Диановой. Все же в большем количестве представлена в рукописи эта же разновидность кувшина, но с зеркальным расположением литер на тулове (литера I рядом с ручкой кувшина, а не наоборот, как у изображения № 157) – Дианова. Кувшин № 158 (1637–38 гг.). Позволим себе дополнить филигранологическое исследование рукописи найденными нами еще четырьмя сюжетами водяных знаков бумаги списка: 3) герб Schieland, литеры I(?)B под щитом, близок по типу: Хивуд, № 485 (1625 г.); Дианова, Костюхина, № 220 (1633 г.); 4) столбы с виноградом, литеры IC в середине композиции: Хивуд, № 3529 (1634 г.); 5) двуручный кувшин с литерами IH у поддона, точных соответствий не обнаружено, близок по типу: Дианова. Кувшин, № 511 (1636–1637 гг.); 6) лилия в щите: Дианова, Костюхина, № 918 (1640 г.) 3. Таким образом, РНБ Погод 1642 была создана в 30-х гг. XVII в.
Судя по характерным особенностям, присущим только Новгородскому Азбуковнику (а текстологическое изучение и исходящая из этого изучения классификация списков заключает в себе семь параметров [Ковтун, 1977б. С. 96]), сейчас известно, как уже отмечалось, семь списков памятника. Один хранится в РНБ (собрание М. П. Погодина, № 1642), три – в БАН (все из Архангельского собрания, № 445, 446 и 524), один – в ГПНТБ СО РАН (в составе коллекции М. Н. Тихомирова, № 501), и два – в РГБ (собрание Д. В. Пискарева, № 198 и собрание Н. С. Тихонравова, № 1).
Л. С. Ковтун в упоминавшейся уже обзорной статье назвала рукопись из собрания М. Н. Тихомирова «едва ли не самым цен- ным из списков азбуковников, хранимых в ГПНТБ» [Ковтун, 1990. С. 156]. Исследовательница с полным правом могла выразить такое мнение, тем более что изучала она этот список долгое время. Однако позволим себе уточнить датировку этого списка, предложенную ученой (60–80-е гг. XVII в. [Там же]). По нашему мнению, рукопись была создана в начале XVIII в. Об этом свидетельствуют водяные знаки на бумаге списка, которые представлены тремя сюжетами: Seven provinces, знак, образующий крест из четырех букв П, напоминающий реверс петровского рубля 4 и герб города Амстердама. Филигрань с гербом семи провинций не поддается определению по альбомам, так как изображение, встречающееся в известных нам справочниках, не тождественно представленному в нашей рукописи. Филигрань, сложенная из четырех букв П, также не имеет точных соответствий в альбомах, однако по типу она сходна с: Хивуд № 3022, 3023 (1686; 1680–1690 гг.); Клепиков 1959, № 409 (1735 г.). Как видно, довольно большой промежуток времени и неточное соответствие всех элементов филиграни с представленными в альбомах усложняют задачу датировки рукописи. Однако довольно точно соотносится с началом XVIII в. филигрань «Герб города Амстердама» 5.
Мы предполагаем, что рукопись Тих 501 вышла из скриптория Афанасия Холмогорского. И на это указывают, по крайней мере, четыре признака. Во-первых, набор водяных знаков бумаги рукописи схож с набором филиграней рукописей, вышедших именно из этого скриптория [Кукушкина, 1970. С. 121], особенности начертания букв и редкие украшения в нашей рукописи также свойственны именно этой книгописной мастерской, третье: при кодикологическом изучении рукописи обнаруживается обилие владельческих записей, которые достаточно точно локализуют бытование книги – Рус- ский Север. Владельцы сборника – обитатели Ухт- и Кур-островов, территории Холмогор, тесно связанной с Антониево-Сийским монастырем. Более того, некоторые владельцы являются родственниками М. В. Ломоносова 6. И тут можно смело предположить, что на заре своей юности Ломоносов мог быть знаком с текстом памятника.
Обращение к рукописям, находящимся в БАН, выявило еще одну особенность Тихо-мировского списка Новгородского Азбуковника. Дело в том, что при указании на происхождение слова из того или иного языка – такое обозначение ставилось обычно сверху над заголовочным словом киноварью либо, реже, черными чернилами, более мелким почерком, но не было, однако, регулярным, – в рукописи ГПНТБ СО РАН мы встречаем неверные отнесения того или иного слова к определенному языку. Так, над явно греческими по происхождению словами приводится указание на польский язык, и наоборот. Объяснение этому дала Академическая рукопись из Архангельского собрания № 445, где в определенных местах эти указания написаны столь мелко либо сочетание букв этого указания вместе с элементами букв верхней строки дают такое чтение, которое человеку, не обладающему острым зрением, могло показаться теми сочетаниями, которые он принял и записал в рукописи Тих 501. Это подтверждается также наличием общих для этих двух рукописей ошибок в написании слов, а также нарушением последовательности приведения статей, характерных только для этих двух списков.
Например, статья «Алимбовы горы» в рукописи Арх 445 (л. 13 об.) начинается на полях (заголовочное слово дописано позднее), писец рукописи Тих 501 также выписывает заголовочное слово на поле рукописи (л. 12 об.); статья «Арис» в Арх 445 (л. 18) имеет «надписание» о языке уже после отметки-разделителя о толковании, так как у создателя Академического списка не было свободного места над заголовочным словом, в Тих 501 можно написать указание на язык над толкуемым словом (л. 16), однако книжник выводит его именно там, где оно находится в Арх 445; статья «Апосталъ» в Арх 445 (л. 19) имеет указание на язык над заголовочным словом – «г» (греческий), однако буква написана очень мелко, ее перекладина сливается с нижними частями букв слова «ради», написанного строкой выше, буква «г», таким образом, видится как «п», и даже как невозможное для этого слова «по» (указание на польский язык), что и отразилось в Тих 501 (л. 17 об.); в статье «Аетiя, орлы» создателем Арх 445 (л. 21) первый (из трех) столб буквы «т» выписан не ровно, а фигурно, букву можно принять за сочетание «сп», что и происходит в Тих 501 (л. 19). Примеры можно продолжать. На последнем листе рукописи Арх 445 оставлена запись о ее создании: «Написася сия книга в лето от создания мира 7180-го июня в 26 день. От воплощения Бога слова 1672 индикта 10» (л. 264) 7. Известно имя создателя этой рукописи (это «монах / Косма»: л. 19/23). О том, что именно он является писцом рукописи мы узнаем из записи в рукописи Арх 446, принадлежавшей Анто-ниево-Сийскому монастырю. В ней сообщается, «что в 1672 г. игумен Косма “списал ея слово в слово вечно без выносу в Корелской монастырь”» 8. С момента переписки рукопись Арх 445 оставалась в Никольском Ко-рельском монастыре, о чем свидетельствуют запись на I форзацном листе и бумажные наклейки на корешке переплета рукописи.
Таким образом, мы считаем рукопись из собрания М. Н. Тихомирова № 501 списком с рукописи из Архангельского собрания БАН № 445. В свою очередь, последняя рукопись есть список с рукописи из того же собрания № 446 9. Два последних Азбуковника известны своей принадлежностью Ан-тониево-Сийскому монастырю. Этому же монастырю принадлежал и третий список Новгородского Азбуковника, находящийся в библиотеке Академии наук (БАН, Арх 524). Одно время он принадлежал игумену монастыря Феодосию [Кукушкина, 1977. С. 104]. Рукопись имеет не очень распространенный для Азбуковника формат: в восьмую долю листа 10, однако так же, как и рассматриваемые выше списки, принадлежит к одной редакции Новгородского Азбуковника.
Вероятнее всего, эти списки и можно назвать принадлежащими к упоминаемой Л. С. Ковтун так называемой Сийской (Второй) редакции, названной так по месту создания. Следует отметить также, что и уникальный список с именем автора Новгородского Азбуковника близок по многим признакам к указанным спискам. Однако соотношение списка так называемой «Краткой» (либо Первой, или, как предлагаем мы ее называть, Новгородской) редакции с сий-скими списками выявляет принципиальные отличия. Среди них в первую очередь следует назвать отсутствие в сийских списках имени автора в предисловии к словарным статьям Азбуковника, нарушение порядка следования статей в некоторых буквенных разделах, инверсию в предложениях толковой части. Заметное отличие наблюдается в глоссах к отдельным статьям различных списков Азбуковника. Глоссы служат своеобразным комментарием к статьям, указывают, из какого литературного источника взято то или иное слово. Зачастую при переписывании текста Азбуковника книжнику не хватало места на поле рядом с толкуемым словом (место уже занято порядковым номером статьи, либо продолжается предыдущая глосса), текст глоссы обычно дается в сокращении, может быть не понятен для переписчика, проставлена отметка в толкуемом слове, но глосса на полях не вписана. В таких случаях восстановить правильное чтение помогает обращение ко всем имеющимся спискам памятника, независимо от редакций. Новгородский Азбуковник в отличие от памятников других разновидностей изобилует отметками на полях, в нем наличествуют перекрестные ссылки, сами статьи приведены с соблюдением алфавитного порядка первой буквы слова и следующей за ней первой гласной, отметки об этом приводятся обычно либо на месте колонтитула, либо на полях, в редких случаях – в текстовом поле.
Отличительной особенностью двух московских списков Новгородского Азбуковника являются таблицы, приводимые к тексту о грамматике. К сожалению, в обоих списках они выписаны не полностью. Тексты, входящие в конвой словника, один из важных признаков отнесения к той или иной редакции, встречаются в Новгородском Азбуковнике только в этих рукописях. Привычный для Сийской редакции состав предисловий изменен. В Тихонравовском сборнике 11 мы наблюдаем очень часто встречающееся в конвое Второго Азбуковника Предисловие, начинающееся словами «Иже от юности во благочестии воспитанному», следом за ним идет очень редкое явление в конвое Азбуковников всех разновидностей – Оглавление статей (выборочное). Вероятно, поэтому на корешке переплета рукописи вытиснено название книги: «Алфавит азбучной».
Список из собрания Д. В. Пискарева написан довольно убористой скорописью. К сожалению, начало рукописи, вместе с предполагаемым Предисловием, утрачено. Однако заключительные статьи, идущие после словника, такие же, что и в рукописи Н. С. Тихонравова. Водяные знаки – несколько разновидностей герба города Амстердама 12.
Обилие перекрестных ссылок на полях к статьям словника, наряду с другими признаками, является характерной чертой Новгородского Азбуковника. В указаниях на литературный источник появляется сокращенное написание слова «стих», с помощью двух букв (начальной и конечной выносной). Визуально текстовое поле с такого рода глоссами напоминает издания запад- норусских печатников, особенно книги, изданные Франциском Скориной, на полях которых присутствуют схожие с нашим Азбуковником глоссы. Схожие именно по написанию в рукописях по сравнению с печатной полосой.
Отмеченные по всему полю запятыми ряды статей в буквенных разделах, как сказано в Предисловии к словнику, маркируют слова польского происхождения. Над самими словами также выписываются буквы «пол», «п», указывающие на происхождение слова. Необходимо отметить, что во Втором Азбуковнике такие отметки на полях применялись для материала, почерпнутого из памятника XIII в. «Речь тонкословия греческого». Созданный как разговорник, скорее всего, русским монахом памятник представляет собой набор слов и словосочетаний, необходимых в повседневной жизни. «Речь тонкословия греческого» закономерно включалась русскими книжниками в памятники первоначального этапа русской лексикографии, но уже к моменту включения в Азбуковник несет в себе явно книжные черты, далекие от использования в бытовой обстановке. На наш взгляд, и так называемые «польские» слова не сугубо утилитарны. Хотя есть среди них и общеупотребительные лексемы, однако представленный словарный материал имеет специфическую книжную окраску. Оперируя этими словами, было бы трудно объясниться на иностранном языке, чего нельзя сказать о «Речи тонкословия греческого» – памятнике, задуманном для такой коммуникации [Никольский, 1896. С. I–III]. Таким образом, новые слова в Новгородском Азбуковнике должны были заимствоваться из книжного материала. На это же указывают и редко встречающиеся ссылки на конкретный источник заимствования, например на Псалтирь. Кроме того, ряд толкуемых слов этой «польской» категории имеет отношение к работе писца и практике печатного дела (штаньба, форма, типография, на герб – толкование: признака (!), либо клейнот, выдру-ковати). К характеристике слов именно польского происхождения нужно подойти особо. Дело в том, что большая часть слов имеет скорее белорусское происхождение и в ряде случаев, но не во всех, соотносится с теми комментируемыми на полях словами, которые встречаются в памятниках, вышедших из типографий белорусских печат- ников (Василий Тяпинский, Франциск Ско-рина). Наборная полоса Евангелия Тяпин-ского (билингва с комментируемыми на полях словами) представляет, на наш взгляд, идеальную возможность пополнения словарного материала Азбуковника. Не случайно, один из сохранившихся экземпляров этого памятника принадлежал одно время библиотеке Антониево-Сийского монастыря. Однако следует подчеркнуть, что вопрос такого заимствования требует специального исследования, так как не всегда заимствуемое слово имеет точное совпадение в толковой части, нельзя также исключать не слепое копирование создателем Азбуковника определенного толкования, а творческую переработку статьи.
Статьи с названиями библейских книг на разных языках встречаются еще в Первом и Втором Азбуковниках, источник заимствования, как правило, не указан. Эти статьи помещаются во Втором Азбуковнике обычно в самом начале буквенного раздела. В структуре Новгородского Азбуковника в силу использования азбучного порядка по второй гласной эти статьи оказываются в различных местах буквенного раздела. Известно, что при печатании книг Библии Франциск Скорина в начале своих Предисловий указывал название печатаемой книги на разных языках. Большинство названий библейских книг, встречаемых в скоринин-ском тексте, имеется в Новгородском Азбуковнике, однако в силу указанной причины они не имеют определенного, приоритетного места в разделах и зачастую при переписывании форма слова меняется до неузнаваемости: л. 94 об. – Колчевъ (р), Екклизиаст книга [Скарына, 1969. С. 26]: Еврейским языком Коелефъ, по гречески и Екклезиастъ; л. 85 – кантыкум кантыкурум (л) песни песней [Там же. С. 28]: по латине кантикум кантыкорум, еже по рускы и иска-зуется Песнь песням.
Статьи, объясняющие стихотворные размеры (впервые появляются именно в Третьем Азбуковнике), в Сийской редакции Новгородского Азбуковника разбросаны по буквенным разделам. В двух московских списках они объединены в один раздел, начинающийся статьей о грамматике. Дается указание на источник – это грамматика. Однако известная уже Грамматика Зизания в части, посвященной этой же тематике, не имеет прямых соответствий с примерами на тот или иной размер, приводимый в Азбуковнике [Юдин, 2012. С. 84, 85].
Итак, Новгородский Азбуковник, дошедший до нас в семи списках, представлен тремя редакциями: Новгородской (Первой, Краткой; РНБ, Погод 1642), Сийской (Второй; БАН, Арх 446, Арх 445, ГПНТБ СО РАН, Тих 501 и БАН Арх 524) и Московской (Третьей; РГБ, Тихонравова 1 и Пискарева 198). Появление новой разновидности Азбуковника отражает литературную ситуацию на Русском Севере, куда достаточно быстро проникают западно-русские книжные новинки [Кукушкина, 1977. С. 182]. Дальнейшее изучение литературных источников Новгородского Азбуковника невозможно без учета такого исторического контекста бытования памятника.
NOVGOROD AZBUKOVNIK:
LITERARY SOURCES, COPIES, LITERARY VERSIONS