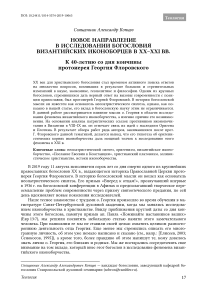Новое направление в исследовании богословия византийских иконоборцев в 20 - 21 вв. К 40-летию со дня кончины протоиерея Георгия Флоровского
Автор: Копцев Александр Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (87), 2019 года.
Бесплатный доступ
Резюме: XX век для христианского богословия стал временем активного поиска ответов на множество вопросов, возникших в результате больших и стремительных изменений в науке, экономике, геополитике и философии. Одним из крупных богословов, стремившихся дать верный ответ на вызовы современности с позиции православия, был протоиерей Георгий Флоровский. В истории богословской мысли он известен как основатель неопатристического синтеза, однако, как показано в нашей статье, его вклад в богословскую науку этим не ограничивается. В данной работе рассматривается влияние мысли о. Георгия в области исследования феномена византийского иконоборчества, а именно причин его возникновения. На основании анализа патристических ссылок противников иконопочитания в Византии в VIII-IX вв. он отмечает связь их идей с наследием Оригена и Плотина. В результате обзора работ ряда авторов, занимавшихся после прот. Г. Флоровского данной тематикой, делается вывод, что его гипотеза об оригенистических корнях иконоборчества дала мощный толчок к исследованию этого феномена в XXI в.
Неопатристический синтез, оригенизм, византийское иконоборчество,
Короткий адрес: https://sciup.org/140246787
IDR: 140246787 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10063
Текст научной статьи Новое направление в исследовании богословия византийских иконоборцев в 20 - 21 вв. К 40-летию со дня кончины протоиерея Георгия Флоровского
В 2019 году 11 августа исполняется сорок лет со дня смерти одного из крупнейших православных богословов XX в., выдающегося историка Православной Церкви протоиерея Георгия Флоровского. В историю богословской мысли он вошел как основатель неопатристического синтеза. Его призыв «Вперед к отцам!», прозвучавший впервые в 1936 г. на богословской конференции в Афинах и предполагавший творческое переосмысление проблем современности через призму святоотеческого предания, по сей день вдохновляет новые поколения исследователей.
Наше тесное знакомство с трудами о. Георгия произошло во время обучения в магистратуре Санкт-Петербургской духовной академии, когда мы занялись исследованием иконоборчества в христианстве. Ввиду приближения круглой даты со дня кончины этого богослова, памятуя призыв ап. Павла «Поминайте наставников ваших» (Евр 13:7), мы решили посвятить небольшую статью памяти этого замечательного человека. При написании ее мы не ставили своей целью охватить целиком разностороннюю деятельность отца Георгия. Еще менее мы стремились описать его многогранную личность, об этом уже немало написано и сказано (см., напр.: [Елисеев, 2003; Сенокосов, 1995]), а кроме того, более правдиво об этом напишут те, кому довелось знать лично о. Георгия, его близких и родных. Мы же постарались сосредоточить свое внимание на том вкладе, который внес этот богослов в исследование феномена византийского иконоборчества.
Полагаем, будет справедливым сказать, что для о. Георгия тема иконоборческого кризиса в Византии не была ключевой. По сути, единственной специальной его работой по этой теме является статья «Ориген, Евсевий и иконоборческий спор»1. Сам о. Георгий в качестве своей задачи указывал в тексте, что «эта статья не имеет своей целью дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Ее задача скромна и ограничена. Я собираюсь привести некоторые свидетельства, о которых чаще всего забывают, и наметить новые направления поиска. Это программа на будущее — не отчет о достигнутом» [Флоровский, 1998, 356]. В своей статье он предлагает новый подход, вопреки уже существовавшим социально-политическому, экономическому. Конечно, он выступает как представитель уже существовавшего направления, боровшегося против адогматического понимания споров в Византии, когда вероучительная сторона попросту отбрасывалась исследователями. Новым в его исследовании является указание на то, что иконоборческий кризис в Византии следует понимать как борьбу «между христианским эллинизмом и эллинизированным христианством» [Флоровский, 1998, 375].
О. Георгий говорит о множестве проблем в исследовании иконоборчества (на момент написания статьи), которые требуют дальнейшего разрешения. Среди таковых проблем он указывает на отсутствие внимательного анализа патристических свидетельств, используемых иконоборцами. Сам призыв обратиться к исследованию святоотеческих свидетельств есть в некотором роде последовательная реализация о. Георгием программы неопатристического синтеза в области исследования не только православного богословия, но и наследия его оппонентов. Он указал, что если среди библейских ссылок ключевую роль играет ссылка на вторую заповедь, то среди патристических цитат первое место следует отдать пассажам из «Послания Евсевия к Констанции» и иконоборческих сочинений, приписываемых свт. Епифанию Кипрскому.
Впервые предложив глубокий богословский анализ первого из приведенных выше источников и указав на оригенизм (а через него на платонизм и неоплатонизм) как возможный богословский исток иконоборчества, прот. Георгий дал импульс целому ряду исследований. Так, прот. Николай Озолин2, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже и продолжатель дела о. Георгия, оценивает вклад последнего в исследование иконоборчества как «переворот в историографии» [Озолин, 1966, 239]. В статье «К вопросу об истоках византийского иконоборчества» о. Николай, по сути, расширяет аргументацию о. Г. Флоровско-го для подтверждения выдвинутого им тезиса об эллинистических корнях спора об иконах3. Для этого, помимо «Послания» Евсевия, о. Николай рассмотрел апокрифические «Деяния святых апостолов» и указал на содержащиеся в них идейные связи с философией Плотина.
Идеи о. Георгия активно использует в своем исследовании «Икона Христа: Богословские основы» австрийский кардинал К. Шёнборн4. Он отмечает: «Обычно исследователи вновь и вновь подчеркивают платонизм иконопочитателей. Однако, как мы считаем, они почти не замечают, насколько широко дух платонизма присут- ствует также хотя бы у части иконоборцев» [Шенборн, 1999, 154]. И далее, подобно прот. Н. Озолину, он отмечает присутствие заимствований из Платона и Плотина в святоотеческих ссылках иконоборцев, в том числе в апокрифических Деяниях ап. Иоанна. Кардинал также указал, что идеи о. Георгия не всеми исследователями были восприняты одинаково. Так, он отмечает, что А. Грилльмейер согласен с позицией о. Георгия, в то время как С. Геро ее критикует5.
Ученик о. Георгия и продолжатель его программы неопатристического синтеза протопресв. Иоанн Мейендорф воспринял его идеи и в понимании иконоборчества. В своей книге «Византийское богословие. Исторические направления и вероуче-ние»6 о. Иоанн указывает, что одним из элементов внутри иконоборческого движения является наследие эллинского спиритуализма. К такому выводу он приходит на основании источников и «по результатам новейших исторических изысканий» [Мейендорф, 2001, 80]. Под которыми, безусловно, он подразумевает и статью о. Георгия Флоровского. Так, он пишет: «Иконоборческий уклон мысли, который можно проследить вспять, вплоть до самых истоков первоначального христианства, позднее увязывали с оригенизмом» [Мейендорф, 2001, 81]. Также о. Иоанн вслед за о. Георгием подчеркивает наличие оригенистических корней «Послания Евсевия к Констанции» [Мейендорф, 2001, 82].
-
А. И. Сидоров, известный русский патролог, рассматривая гипотезу о. Георгия, указывает на два ее уязвимых пункта:
-
1. «Насколько правильно понимают и толкуют сторонники этой теории миросозерцание Оригена» [Сидоров, 1991, 71]. Данный исследователь указывает, что тенденция «рассматривать зримое только как „тень“ незримого» [Сидоров, 1991, 71], в результате чего происходит обесценивание образа, была лишь намечена Оригеном. Полное же свое выражение она получила в позднейшем оригенизме.
-
2. «Наличие сохранившихся фрагментов „иконоборческих“ произведений Епи-фания Кипрского: непримиримого врага оригенизма» [Сидоров, 1991, 71].
В результате анализа двух гипотез внутренних для христианства причин возникновения иконоборчества (борьба с «паганизацией» христианства и оригенистический спиритуализм) А. И. Сидоров предложил вывод о том, что иконоборчество «не имело единого истока, уходящего вглубь христианской древности» [Сидоров, 1991, 71]. Само же иконоборчество данный исследователь предложил понимать как «религиозно-реформаторское движение, идущее „сверху“» [Сидоров, 1991, 72].
Еще одним исследователем, развившим идеи о. Георгия и глубоко проработавшим данную тематику, является В. А. Баранов. Вопросу влияния богословия Оригена на возникновение иконоборчества он посвятил целую статью [Baranov, 2003], а в своей кандидатской диссертации он прямо пишет: «Г. Флоровский высказал гипотезу о возникновении иконоборчества из позднеантичного платонизма Оригена, в пользу которой будут приведены дополнительные аргументы в данном исследовании» (Баранов, 2010, 23). Реализуя эту задачу, В. А. Баранов во введении, подобно о. Георгию, указывает те же проблемы в исследовании иконоборчества, что и почтенный протоиерей:
-
1. Игнорирование богословской стороны иконоборчества (ср.: [Баранов, 2010, 4] и [Флоровский, 1998, 351–352]).
-
2. Сосредоточенность на иконопочитательской аргументации в ущерб исследованию иконоборческих идей (ср.: [Баранов, 2010, 5] и [Флоровский, 1998, 355]).
Идеи В. А. Баранова были восприняты также и В. М. Лурье. В совместно написанной ими книге предлагается новая аргументация вопреки той, которую высказал
-
о. Георгий и которая была подвержена критике со стороны С. Геро (см.: [Лурье, 2006, 409]).
Е. И. Мирошниченко в статье «Оригенизм как мировоззренческое основание иконоборческих споров в Византии VIII в.» также продолжает богословскую линию о. Георгия Флоровского. Он пишет: «Если мы внимательно рассмотрим те элементы эллинистической традиции, которые были восприняты иконоборцами, то увидим, что определенные приоритеты всё же существовали и что иконоборчество рождается под влиянием христианизирующегося платонизма, а не застывшей в определенной конфигурации античной традиции» (Мирошниченко, 2009, 22). Беря за отправную точку мысль о. Георгия об оригеновских корнях иконоборчества, он задается вопросом: откуда сам Ориген воспринял такое понимание образа? В качестве такового источника Е. И. Мирошниченко указывает не только платоническую традицию, но и гностицизм, повлиявший на Оригена.
Вышеперечисленный ряд исследователей, безусловно, не полный. Более того, нам кажется, что составление такого списка вряд ли возможно. В приведенный перечень включены те исследователи, которые попали в поле нашего зрения и в чьих работах нами было замечено непосредственное влияние идей прот. Георгия Флоровско-го. Полагаем, что этот ряд могли бы дополнить немалое число тех, кто опосредованно сталкивался с идеями этого богослова в работах указанных исследований и не только в них.
Оканчивая нашу статью, хотелось бы еще раз отметить, что тема иконоборчества не была основной темой исследования о. Георгия Флоровского, однако, несмотря на это, ему удалось дать мощный толчок развитию исследования истоков иконоборчества в Византии. Благодаря его богословской интуиции целый «куст» исследователей обратили внимание на связь между критикой образа в VII–IX вв., оригенизмом и платонизмом. Кроме того, более внимательному анализу были подвергнуты и патристические свидетельства иконоборческой партии, что значительно продвинуло исследователей в понимании природы византийского кризиса образа. Все это, как нам кажется, позволяет назвать прот. Георгия Флоровского создателем новой гипотезы возникновения иконоборчества и разработчиком нового метода в исследовании этого феномена. Одними этот метод был воспринят, другими подвергнут критике, но итогом богословского импульса о. Георгия стал прорыв в исследовании византийского иконоборчества и его истоков.
Список литературы Новое направление в исследовании богословия византийских иконоборцев в 20 - 21 вв. К 40-летию со дня кончины протоиерея Георгия Флоровского
- Баранов В. А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 22. С. 31-44.
- Баранов В. А. Философские предпосылки идеологии византийского иконоборчества. Дис. … канд. филос. наук. Новосибирск, 2010.
- Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / Общ. ред. Сенокосов Ю. П. М.: Прогресс, 1995. 416 с.
- Елисеев А., свящ. Отец Георгий Флоровский: его жизнь и участие в движении за христианское единство. К 110-летию со дня рождения // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. М., 2003. № 4 (25). С. 106-126.
- Лурье В. М., Баранов В. А. История византийской философии. Формативный период. СПб.: Axiôma, 2006.
- Мейендорф И., протопресв. Византийское богословие: Исторические направления и вероучение. М.: Когелет, 2001.
- Мирошниченко Е. И. Оригенизм как мировоззренческое основание иконоборческих споров в Византии VIII в. // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: Сб. материалов III региональной молодежной научной конференции / Отв. ред. Р. Е. Романов; Институт истории СО РАН. Новосибирск, 2009. С. 21-27.
- Озолин Н., диак. К вопросу об истоках византийского иконоборчества // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1966. № 56. С. 239-252.
- Сидоров А. И. Послание Евсевия Кесарийского (К вопросу об идейных истоках иконоборчества) // Византийский временник. М.: Наука, 1991. Т. 51. С. 58-74.
- Флоровский Г. В., прот. Ориген, Евсевий и иконоборческий спор // Догмат и история / Под ред. Е. Карманова. М., 1998. С. 351-377.
- Шёнборн К. Икона Христа: Богословские основы. Милан; М.: Христианская Россия, 1999.
- Baranov V. A. Origen and the Iconoclastic Controversy // Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition / Ed. Lorenzo Perrone. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 164. Vol. 2. Leuven: Peeters, 2003. P. 1043-1052.
- Florovsky G. Eusebius, and the Iconoclastic Controversy // Church History. Cambridge: Cambridge University Press; the American Society of Church History, 1950. Vol. 19. № 2. P. 77-96.