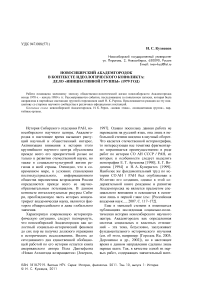Новосибирский Академгородок в контексте идеологического конфликта: дело «Инициативной группы» (1979 год)
Автор: Кузнецов Иван Семенович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена значимому эпизоду общественно-политической жизни новосибирского Академгородка конца 1970-х - начала 1980-х гг. Рассматриваются события, последовавшие за появлением записки, которая была направлена в партийные инстанции группой сторонников идей Н. К. Рериха. Прослеживается реакция на эту инициативу со стороны научного сообщества и различных официальных инстанций.
Новосибирский академгородок, н. к. рерих, "живая этика", "инициативная группа", партийные органы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737362
IDR: 14737362 | УДК: 947.088(571)
Текст научной статьи Новосибирский Академгородок в контексте идеологического конфликта: дело «Инициативной группы» (1979 год)
История Сибирского отделения РАН , но восибирского научного центра , Академго родка в настоящее время вызывает расту щий научный и общественный интерес . Активизация внимания к истории этого крупнейшего научного центра обусловлена прежде всего его приоритетной ролью не только в развитии отечественной науки , но также в социально - культурной жизни ре гиона и всей страны . Очевидно , что в со временном мире , в условиях становления постиндустриального , информационного общества перспективы возрождения России определяются прежде всего ее научно образовательным потенциалом . В данном контексте интеллектуальные ресурсы Сиби ри , преобладающую часть которых концен трирует академическая наука , являются фак тором общероссийского и даже глобального значения .
Характеризуя современную историогра фическую ситуацию , следует подчеркнуть , что новосибирский Академгородок как це лостный социально - исторический феномен до сих пор не получил должного отражения в исторических исследованиях . Вплоть до сегодняшнего дня единственной обобщаю щей работой по его истории остается книга американского автора Пола Джозефсона « Новая Атлантида возвращается » [Josepson,
1997]. Однако поскольку данная работа не переведена на русский язык , она лишь в не большой степени введена в научный оборот . Что касается отечественной историографии , то интересующая нас тематика фрагментар но затрагивается преимущественно в ряде работ по истории СО АН СССР / РАН , из которых в особенности следует выделить монографии Е . Т . Артемова [1990], Е . Г . Во - дичева [1994] и Н . А . Куперштох [1999]. Наиболее же фундаментальный труд по ис тории СО АН / РАН был опубликован к 50- летию его создания , однако в этой со держательной книге рождение и развитие Академгородка не является предметом спе циального внимания и освещается в основ ном лишь в первой главе ( см .: [ Российская академия наук …, 2007. С . 117–172].
Еще в меньшей степени в имеющихся публикациях исследована социально - поли тическая история новосибирского научного центра . Академгородок как определенная система социальных и властных отноше ний – эта тема , безусловно , заслуживает фундаментального исторического изучения ( см . об этом , например : [ Городок . Ru, 2003; Дорошенко и др ., 2002]), но в настоящее время в данном направлении сделаны лишь первые шаги . Так , в качестве одной из пер вых работ , содержащих значительный мате -
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 1: История © И. С. Кузнецов, 201 1
риал об общественно - политической истории Академгородка , можно назвать книгу про фессора НГУ А . Г . Борзенкова [2002].
Значительные возможности для исследо вания социально - политической истории Академгородка дает изучение ряда слож ных , « нештатных » ситуаций 1960–1970- х гг . ( скажем , событий 1968 г ., связанных с фес тивалем « бардов » и « письмом 46- ти »). Бу дучи определенными значимыми вехами в истории общественной жизни , подобного рода ситуации идеологического конфликта вместе с тем рельефно обнажали « структу ры повседневности ». Их изучение позволяет рельефно проследить особенности властных отношений , взаимоотношения академиче ской и партийной иерархии , особенности менталитета научного сообщества и т . д .
С учетом этих ориентиров в качестве предмета данной статьи избраны события , развернувшиеся в новосибирском Академ городке на рубеже 70–80 гг . прошлого сто летия . Поводом для них стало появление оригинального документа – « Записки о про блеме создания культурно - научного центра в развитие идей Н . К . и Е . И . Рерих ». Она была направлена в начале 1979 г . в обком КПСС и другие партийные инстанции груп пой новосибирских энтузиастов « Живой этики » ( учения Н . К . Рериха ). Документ подписали А . Н . Дмитриев – в то время зав . лабораторией Института геологии и геофи зики СО АН СССР , канд . физ .- мат . наук ; И . А . Калинин – инженер - наладчик Строи тельно - монтажного управления ( СМУ ) № 70, Ю . М . Ключников – редактор Сибирского отделения издательства « Наука », П . П . Ла - бецкий – художник Института истории , фи лологии и философии СО АН , Ю . Г . Мар ченко – мл . науч . сотр . того же института , канд . ист . наук , В . И . Новожилова – инже нер Института теплофизики СО АН ( долж ностной статус указывается на момент рас сматриваемых событий ). В ряде секретных официальных документов того времени этих « подписантов » именовали « инициативной группой », что и нашло отражение в назва нии данной статьи .
Названная «Записка» имела немалый общественный резонанс: действия «подписантов» вызвали соответствующую реакцию официальных органов, неоднократно обсуждались на различных собраниях и заседаниях. Несмотря на это, в отличие, скажем, от событий 1968 г. в новосибирском Ака- демгородке, рассматриваемый эпизод долгое время не находил отражения в исторической литературе. Текст рассматриваемой «Записки» впервые был опубликован в книге о строительстве музея Н. К. Рериха в с. Уймон Алтайского края [Аникина, 2002. С. 189–206]. В предисловии к указанной работе автор настоящей статьи попытался дать историческую оценку данного события. В дальнейшем нами же была осуществлена публикация комплекса документов, связанных с «Запиской» 1979 г. [Кузнецов, 2003; 2006]. Однако помимо введения в научный оборот соответствующих источников, необходима их многосторонняя интерпретация в широком историческом контексте, что и является задачей данной статьи.
Источниковая база исследования вклю чает преимущественно документы офици ального делопроизводства : материалы пар тийных бюро и партийных собраний соответствующих учреждений , документы Советского райкома и Новосибирского гор кома КПСС . При этом автор вполне осозна ет , что он не располагает полным комплек сом источников по рассматриваемой теме , в том числе и рядом из тех , которые упоми наются в доступных материалах . Часть из них , например ряд информационных мате риалов Советского райкома КПСС , Новоси бирского горкома и обкома КПСС , до сих пор не обнаружены нами в соответствую щих фондах . Возможно , они в свое время были изъяты « заинтересованными лицами ». Наиболее яркий пример – сам текст неодно кратно упоминавшейся « Записки », в отно шении которой в целом ряде источников говорится , что она была направлена в соот ветствующие партийные инстанции . Тем не менее в материалах партийного делопроиз водства этот документ нами пока не обна ружен и при его первичной публикации пришлось использовать текст из личного архива одного из участников событий .
Из числа же документов , наличие кото рых в архивах зафиксировано , часть мате риалов также , к сожалению , не доступна ис следователям . Речь , в частности , идет о решениях бюро Советского райкома КПСС по « персональным делам » Ю . М . Ключни кова и Ю . Г . Марченко . В соответствии с распространившейся в последнее время практикой , они подвергнуты так называе мому « конвертированию ». Последнее , как известно , применяется к материалам многих
« персональных дел », появившихся в связи с рассмотрением в соответствующих партий ных инстанциях тех или иных проступков членов КПСС . Официально это мотивирует ся необходимостью « защиты чести и досто инства » соответствующих лиц . Абсурдность такого рода ограничений на пользование архивными материалами очевидна , в част ности , потому , что комиссии , осуществ ляющие « конвертирование », не могут при нимать достаточно обоснованные решения по этому поводу ввиду огромного объема такого рода дел и недостаточной компе тентности соответствующих архивных ра ботников . Было бы логично либо вообще закрыть все « персональные дела », либо пе редать вопрос о доступе к ним на усмотре ние историков - исследователей .
Алогичность существующей ситуации подтверждается тем , что наряду с закрыто стью большого числа « персональных дел », вместе с тем многие из них являются откры тыми . С другой стороны , « конвертирова ние » можно еще в какой - то мере признать обоснованным , когда речь идет о разборе разного рода неблаговидных поступков ( пьянство , адюльтер , преступления ). В слу чаях же , подобных рассматриваемому , чле нам КПСС предъявлялись обвинения поли тико - идеологического характера , что , пожалуй , только украшает соответствую щих участников событий …
Кроме того , в фондах Государственного архива Новосибирской области , содержа щих эти материалы , имеются необъяснимые лакуны . Так , в фонде партийной организа ции Сибирского отделения издательства « Наука » ( Ф . П -1424) отсутствует протокол партийного собрания от 21 августа 1980 г . – один из ключевых документов по « делу » Ю . М . Ключникова .
Нельзя не учитывать и того, что публикуемый документальный комплекс далеко непропорционально отражает различные аспекты рассматриваемых событий, в том числе и в отношении отдельных персоналий: наиболее обширный блок составляют в нем материалы, отражающие действия партийных инстанций различного уровня в отношении членов КПСС Ю. Г. Марченко и особенно Ю. М. Ключникова. Что же касается фактического лидера группы авторов «Записки», А. Н. Дмитриева, то разбору его действий посвящено существенно меньшее количество документов, так как он не состоял в партии.
Поскольку имеющиеся в нашем распо ряжении документы партийного дело производства отражают , разумеется , лишь внешнюю , официальную сторону рассмат риваемых событий , для их адекватной реконструкции привлекались также опубли кованные и устные свидетельства современ ников . С одной стороны , это суждения авто ров « Записки », сформулированные в их публикациях и устных интервью . С другой стороны – наблюдения ряда участников со бытий , волей судеб оказавшихся тогда « по другую сторону баррикады ».
Обращаясь к конкретному анализу собы тий рубежа 1970–1980 гг ., следует прежде всего подчеркнуть , что названная « Записка » стала единственным в тот момент проявле нием инакомыслия подобного рода в ново сибирском Академгородке . В сущности , по сле известного « письма 46- ти » ничего подобного здесь не отмечалось . К этому можно добавить , что если названное письмо представляло собой небольшой текст с вполне конкретными и весьма частными требованиями , то « Записка » являлась об ширным текстом с изложением определен ного мировоззрения . В связи с этим необхо димо напомнить , что в конце брежневского периода общественно - политическая и идео логическая жизнь нашей страны характери зовалась « застойными тенденциями », носи ла преимущественно формализованный и официозный характер .
«Диссидентское» движение к этому времени было практически сведено на нет. При этом следует иметь в виду, что и в период его апогея в конце 1960-х – начале 1970-х гг. идейный потенциал «диссидентства», как известно, не отличался большой содержательностью. В сущности, он сводился преимущественно к негативизму по отношению к существующем порядкам (в диапазоне от умеренной критики в духе «социализма с человеческим лицом» до крайнего антикоммунизма) без какой-либо ясной альтернативы. К концу же «застойного периода» какие-либо заметные проявления нонконформизма, свободомыслия в целом были весьма редкими. Все это в полной мере относилось и к новосибирскому Академгородку, общественный облик которого к этому времени весьма заметно изменился в сравнении с пе- риодом максимальной политической активности научной интеллигенции, пик которой пришелся на 1968 г.
В этом контексте можно сказать , что инициатива новосибирских энтузиастов « Живой этики » стала своего рода уникаль ным эпизодом общественно - политической жизни конца 1970- х гг . – не только на ре гиональном , но и на российском уровне .
Что касается содержания « Записки », то в полной мере оценить его весьма сложно , поскольку автор не считает себя достаточно компетентным в идеях Н . К . Рериха . Можно высказать по этому поводу лишь некоторые общие соображения . Первое , что бросается в глаза при знакомстве с рассматриваемым произведением , – то , что его содержание далеко выходило за рамки названия . В сущ ности , это был своего рода манифест , где анализировались фундаментальные процес сы в стране и в мире , выдвигались соответ ствующие задачи .
Второе , что обращает на себя внимание – позитивное отношение авторов « Записки » к существующему общественному строю , к самой идее социализма . Они не только не были противниками этой системы , но , на против , выступали с позиций ее защиты , последовательно выражая свою привержен ность « идеям Ленина ». Разумеется , данный содержательный аспект рассматриваемого текста в настоящее время может восприни маться неоднозначно . Правомерно предпо ложить , что в названном произведении была сформулирована определенная реформист ская альтернатива , своего рода проект внут реннего обновления системы на базе свое образного синтеза « идей Ленина » и « Живой этики ».
Не беремся судить , насколько реальными были высказанные авторами предложения о путях изменения к лучшему . Что является бесспорным – их большая озабоченность положением дел в стране , нарастающими негативными процессами и опасностями . Речь идет прежде всего об ухудшении эко логической и в особенности духовно - идео логической ситуации в стране , – последнее связывалось авторами « Записки » прежде всего с активизацией « психологической войны » против нашей страны .
В настоящее время, после того как с такой видимой легкостью рухнули КПСС и СССР, высказанные в рассматриваемом документе опасения представляются более чем обоснованными. Ведь очевидно, что саморазрушение системы стало результатом в первую очередь того идеологического и психологического распада, который, помимо внутренних факторов, возможно, в той или иной мере инициировался определенными внешними силами 1. Можно сказать, что в произведении новосибирских «рери-ховцев» прозвучал сигнал тревоги, своего рода удар набатного колокола, и произошло это накануне «великих потрясений», буквально за несколько лет до гибели советской державы…
Весьма показательна реакция на эту ини циативу со стороны научного сообщества официальных инстанций разного уровня . Известно , что после появления « Записки » в Академгородке прошла серия различных разбирательств , где основные авторы « Записки » подверглись тем или иным санк циям . При этом , оценивая содержание соот ветствующих документов , видимо , непра вомерно воспринимать их в однозначно политизированном контексте . Не исключе но , что соответствующие инстанции в силу тех или иных ведомственных и личных интересов целенаправленно утрировали по литико - идеологический аспект событий . С другой стороны , возможно , острота разбирательств не в последнюю очередь определялась не столько идейными разно гласиями , сколько научными или межлич ностными конфликтами в тех или иных кол лективах и сообществах , в том числе и в самом рериховском движении . В силу цело го комплекса причин рассматриваемые со бытия приобрели преобладающую полити ко - идеологическую окраску , хотя , быть может , идеологический момент здесь в ос нове своей и не был определяющим .
При этом, разумеется, следует иметь в виду относительность граней между политическими и иными аспектами событий в условиях существовавшей в тот период в нашей стране общественной системы. В частности, хорошо известно, как на определенных этапах нашей истории те или иные научные разногласия, корпоративные или межличностные конфликты в среде ученых порой переводились в плоскость идеологического противостояния вплоть до репрессий по отношению к инакомыслящим. При этом речь идет не только об относительно далеких временах гонений на генетику и кибернетику…
Не в последнюю очередь это касалось и экологических проблем , которым столь значительное место отводилось в « Записке ». Повествуя об истории борьбы против про екта « поворота сибирских рек » во второй половине 1980- х гг ., лидер экологического движения академик А . Л . Яншин отмечал : « Мы понимали , что борьба наша за идеи правильной , разумной , научной экологии – это политическая борьба . Споры и дискус сии были остры и напряженны . Лет два дцать назад о таких спорах не могло быть и речи . Если тогда А . Синявского могли осу дить только за то , что он в Париже опубли ковал свою книгу , то нам , мешающим “ работать “ министерствам , и подавно бы несдобровать . Но теперь реальность стала совершенно иной » [ Яншин , Мелуа , 1991. С . 6–27].
В приведенном мемуарном свидетельст ве речь идет уже о временах горбачевской « перестройки ». В предшествующий же пе риод картина , согласно тому же авторитет ному свидетельству , выглядела следующим образом : « Нам памятны “ аргументы “, ис пользовавшиеся в те годы против защитни ков природы : шпионаж , пособничество им периализму . Научная дискуссия вокруг экологически важного проекта превраща лась в политические нападки на ученых , противостоять которым в административно командной системе было трудно » [ Там же . С . 32].
По этому поводу один из соратников А . Л . Яншина академик Б . С . Соколов вспо минал , что Александру Леонидовичу « уже с Сибири пришлось вступить в резкое столк новение с государственным аппаратом и мощными правительственными ведомствами в защиту окружающей среды и природных ресурсов , отношение которых с бездумной расточительностью стало приобретать чер ты почти колониальной политики . Выдаю щееся сопротивление этому натиску оказало
Сибирское отделение во главе с академиком А . А . Трофимуком и его единомышленни ками , среди которых , естественно , оказался и А . Л . Яншин » [ Академик Александр Лео нидович Яншин …, 2005. С . 17].
Возвращаясь к анализу хода событий , документов , нельзя не обратить внимание , что помимо обвинений идеологического по рядка « подписантам » предъявлялись пре тензии этического порядка , отмечались погрешности в их личной жизни , трудовой дисциплине и т . д . Следует иметь в виду , что такого рода обвинения также являлись стандартным приемом дискредитации про тивников либо в политико - идеологическом контексте , либо в ходе персональной или межгрупповой борьбы за власть 2.
При анализе действий различных инстанций в рассматриваемой ситуации кроме основного, политико-идеологического контекста, необходимо учитывать и воздействие некоторых более конкретных и специфических факторов. Не исключено, что, помимо прочего, болезненная реакция соответствующих структур на инициативу последователей Н. К. Рериха определялась сложностью международной обстановки, опасениями по поводу «идеологических диверсий». Свидетельством возможного влияния этих мотивов может служить справка, направленная 20 июня 1978 г. Советским райкомом в обком и горком КПСС. Этот документ со стандартным грифом «совершенно секретно» информировал о работе райкома по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему повышению политической бдительности советских людей» (1977 г.). В нем, в частности, указывалось, что после выхода указанного документа данный вопрос был обсужден на заседании бюро райкома КПСС, после чего приняли план соответствующих мероприя- тий. В справке в том числе сообщалось, что в данной связи «в ряде институтов СО АН проводились заседания ученых советов, на которых рассматривались и утверждались меры по повышению политической бдительности». Отмечалось также, что «разработана тематика лекций и бесед по пропаганде советского образа жизни, постоянной защите завоеваний Октября, непримиримости к буржуазной идеологии», при этом «в первую очередь учтены те коллективы, где имели место проявления политической беспечности, нарушения режима секретности» 3.
Как следует из имеющихся документов , важнейшим обвинением в адрес А . Н . Дмит риева и его единомышленников было утверждение о « религиозном » характере их взглядов , о создании ими некой « секты ». В связи с этим необходимо отметить , что в рассматриваемые годы религиозная актив ность – несмотря на определенное смягче ние позиции властей в этом вопросе в сравнении с хрущевским периодом – по - прежнему вызывала подозрительное отно шение . Как и раньше , культивировалась идеология « воинствующего атеизма », сви детельством чего стало , к примеру , появле ние несколько позднее секретного поста новления ЦК КПСС « Об усилении атеистического воспитания » (22 сентября 1981 г .).
В этом контексте обвинения в создании « секты » звучали далеко не безобидно , по скольку в тот период деятельность религи озных энтузиастов заканчивалась порой весьма печально . К примеру , можно вспом нить , что незадолго до рассматриваемых со бытий ( в 1974 г .) в Улан - Удэ был арестован за создание буддистского кружка известный буддолог Б . Д . Дандарон , который так и не увидел больше свободы ( умер в тюрьме ) 4.
Возвращаясь к «делу Дмитриева», следует отметить, что основное разбирательство по этому вопросу состоялось на заседании партийного бюро Института геологии и геофизики СО АН 28 февраля 1979 г. Выступивший на нем секретарь партийного бюро А. А. Оболенский (в то время канд., затем – д-р геол.-минерал. наук) сообщил, что деятельность Дмитриева начала рассматриваться после того, как в ноябре 1978 г. в ходе бракоразводного процесса одного из сотрудников лаборатории № 151 выяснилось, что Дмитриев «создал какую-то группу, типа секты, которая собирается на квартире Дмитриева на какие-то семинарские занятия, которые проходят в основном в ночное время».
Для « выяснения характера деятельности этой группы » была создана специальная ко миссия под председательством одного из ветеранов института д - ра геол .- минерал . на ук В . В . Вышемирского ( в настоящее время уже ушедшего из жизни ). Это был участник войны , как большинство представителей этого поколения – человек весьма опреде ленных убеждений , что помимо общезначи мых факторов , видимо , предопределило результаты данного « расследования ». Доба вим , что в предшествующие годы , а затем и через некоторое время после рассмат риваемых событий В . В . Вышемирский и А . Н . Дмитриев неоднократно выступали в качестве соавторов в научных публикаци ях по проблемам нефтяной геологии .
Согласно информации секретаря парт бюро , комиссия установила , что план науч но - производственной работы лаборатории успешно выполнялся , в ней хорошо работал научный семинар , но о деятельности на званной « группы » комиссия не смогла вы яснить суть дела до конца из - за того , что « Дмитриев отказался что - либо рассказать , мотивируя свой отказ тем , что “ группа яко бы занимается секретными научными ис следованиями особой важности ”». По сло вам А . А . Оболенского , « представитель из районного Управления КГБ подтвердил на личие таких работ и не советовал привле кать внимание к этому вопросу ».
Далее докладчик информировал , что в это же время в обком КПСС и редакцию га зеты « Правда » поступило письмо от тестя упоминавшегося разведенного сотрудника лаборатории , в котором отмечались анало гичные факты : « Дмитриев организовал ка кую - то полурелигиозную группу , которая собирается на его квартире и часто в ночное время . В этой группе большинство разве денных , а сам Дмитриев имеет две жены .
Дальнейшее рассмотрение этого вопроса партийным бюро и дирекцией института выявило группу , в которую вошли не только сотрудники лаборатории № 151 института , но и сотрудники других организаций Си бирского отделения и города . Идеологи ческая сущность группы была оформлена в Записке “ О культурно - научном центре им . Рерихов ”, содержащей пропаганду немарксистской идеалистической филосо фии » 5.
В ходе последующего обсуждения все члены партийного бюро осудили действия руководителя лаборатории № 151. Тон об суждения задал директор института акад . А . А . Трофимук . Он , в частности , отмечал : « Во всех предыдущих беседах мы убеждали и разъясняли Дмитриеву ошибочность его позиций , предлагали ему отказаться от идеалистической деятельности , наладить семейные отношения , прекратить порочную практику нарушения субординации и обра щения сразу в вышестоящие инстанции че рез голову дирекции , местных партийных и государственных органов . В настоящее вре мя наши претензии и предложения такие же . Ошибаться свойственно каждому , но выхо дить из игры надо без оговорок . Вы пытае тесь оставить себе лазейку для продолжения деятельности своей группы . В действитель ности всю эту деятельность надо прекра тить » 6.
Прозвучавшие затем выступления членов партийного бюро продолжили эту негатив ную линию , в основном варьируя те же об винения . При этом большинство участников заседания предлагали принять в отношении заведующего лабораторией № 151 « не толь ко моральные , но и административные ме ры » 7.
Говоря об атмосфере рассматриваемого заседания, – как она реконструируется по документам, – следует сказать еще несколько слов о менталитете его участников. Об одном из них, В. В. Вышемирском, мы уже говорили. Большинство других были в чем-то схожи: как правило, это были известные ученые, представители поколения, сполна испытавшего бедствия военных и первых послевоенных лет, что, вероятно, оказало определяющее воздействие на их мировоззрение.
Обращает внимание , что из всех участ ников обсуждения некоторую снисходи тельность к « заблудшим » проявил лишь один член партбюро – канд . геол .- минерал . наук В . Д . Карбышев . Видимо , здесь сказа лась определенная разница в менталитете поколений – это представитель « шестиде сятников », комсомольский активист юного Академгородка ( в конце 1960- х гг . – один из секретарей райкома ВЛКСМ ). В связи с этим следует отметить , что в то время А . Н . Дмитриев также активно работал в комсомоле , а организация эта представляла тогда общественный авангард в Академго родке да и в целом в стране .
На фоне преобладавших резко негатив ных высказываний участников отмеченного заседания в известной мере примирительно прозвучало заключительное выступление А . А . Трофимука : « Дмитриев злоупотреблял своими служебными обязанностями и во влек в кружок сотрудников своей лаборато рии <…> не последовал нашим советам и не отрегулировал свои семейные дела . Теперь важно , чтобы он осознал свои ошибки , че стно их признал , прекратил свою идеали стическую деятельность и работу группы . Мы желаем , чтобы Дмитриев искренне и че стно признал свои ошибки , чтобы вся эта деятельность была прекращена » 8.
По итогам рассматриваемого обсуждения было принято решение партийного бюро, где отмечалось, что руководитель лаборатории № 151 организовал группу «Живой этики», которая имела идеалистическую идеологическую направленность, занималась в основном изучением философского наследия Н. К. и Е. И. Рерихов, провозгласив эту систему взглядов своим философским мировоззрением; вовлек в эту группу сотрудников возглавляемой им лаборатории, злоупотребив тем самым своим служебным положением, проводил нерегламентирован-ные планами научно-исследовательских работ эксперименты по парапсихологии и биоволновым измерениям. Далее отмечалось, что «членами группы была составлена записка “О проблеме создания культурнонаучного центра в развитие идей Н. К. и Е. И. Рерих”, в которой авторы, прикрываясь именем Рерихов, сформулировали идео- логическую платформу группы, идущую вразрез с философией диалектического материализма». Наконец, было подчеркнуто, что «имеются отклонения от нормальной семейной жизни и распад семей у пяти сотрудников лаборатории».
В соответствии с этим партийное бюро постановило « осудить создание группы по изучению так называемой “ Живой этики ”, <…> прекратить деятельность этой группы , стоящей на немарксистских идеалистиче ских позициях ». Помимо прочего партийное бюро рекомендовало дирекции института « рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ , проводимых <…> в ла боратории логико - математических методов обработки геологической информации по парапсихологии и биоволновым процессам , не стоящих в планах научных исследований института …» 9.
Указанное решение партийного бюро Ин ститута геологии и геофизики было рассмот рено и одобрено на заседании бюро Совет ского райкома КПСС 13 марта 1979 г . 10
Продолжение рассматриваемых событий прослеживается в ряде последующих доку ментов партийного делопроизводства , в ча стности , в отчетном докладе партийного бюро на отчетно - выборном собрании пар тийной организации Института геологии и геофизики СО АН СССР 24 октября 1979 г . Помимо повторения ранее прозвучавших обвинений , здесь было сообщено , что руко водитель лаборатории № 151 освобожден от этой должности 11.
Оценивая контекст событий , следует иметь в виду , что к моменту их разворота научная деятельность А . Н . Дмитриева по лучала большую поддержку со стороны А . А . Трофимука , а сам он пользовался пол ным доверием лидера сибирской геологии . Сочувствие и в какой - то мере поддержку со стороны академиков А . А . Трофимука и А . Л . Яншина находили и взгляды Н . К . Ре риха .
По этому поводу А. Н. Дмитриев вспоминал: «Еще осенью 1967 г. после ознакомительных бесед с А. Л. Яншиным и А. А. Тро-фимуком мною было составлено письмо в Ригу в республиканскую библиотеку города с просьбой прислать “полное собрание томов Агни-Йоги” с целью их научного применения. Письмо ушло за подписью первого заместителя Председателя СО АН СССР акад. А. А. Трофимука. Через две недели в ИГиГ СО АН пришла полная фильмокопия всех 12 томов Агни-Йоги. А еще через месяц я показал фильмокопии отдельных томов А. А. Трофимуку» [Дмитриев, 2004. С. 256].
В таком контексте резкая реакция руко водства института на инициативу энтузиа стов Агни - Йоги , видимо , определялась пре жде всего прагматическими соображениями . Вероятно , главным « криминалом » здесь бы ли не сами по себе неортодоксальные идеи , а нарушение субординации . Действия А . Н . Дмитриева « подставляли » А . А . Тро - фимука , компрометировали его в глазах властей предержащих , что , понятно , требо вало соответствующих действий .
Разумеется , понимание смысла рассмат риваемых событий , их ретроспективное восприятие выглядит по - разному у их уча стников , находившихся по разную сторону « баррикад ». Основной « возмутитель спо койствия », А . Н . Дмитриев вспоминал : « За рьяное вхождение в это знание ( Агни Йоги . – И . К . ) я был социально наказан : по нижен в должности , зарплате <…>. Был подвергнут соответствующей проработке . И одновременно получил богатый урок , на блюдая коллективное поведение людей в режиме социальной опасности » [ Дмитриев , Русанов , 2000. С . 126–127].
О другом взгляде на рассматриваемые события можно судить по устным свидетельствам А. А. Оболенского, беседа автора с которым состоялась в феврале 2006 г. В ходе нее он в полной мере подтвердил все оценки тех лет, в том числе о создании А. Н. Дмитриевым «секты», о чрезмерном влиянии его на своих духовных подопечных. Однако, судя по его свидетельству, события не приняли бы такого острого характера, если бы не появление неоднократно упомянутой «Записки». Как сказал наш собеседник, по нынешним временам «дело не стоило выеденного яйца», однако тогда были иные «правила игры». В связи с этим он высказал предположение, что в тех условиях дело могло принять гораздо худший оборот, если бы соответствующие инстанции в полной мере реализовали обвинение в создании «подпольной религиозной группы». В ходе интервью мой собеседник не раз по- вторял: «Не понимаю, на что рассчитывал Дмитриев».
Как свидетельствовал названный вете ран , к нему как секретарю институтского партбюро по поводу « Записки » позвонил зам . заведующего отделом науки и высших учебных заведений обкома КПСС и затем « как взмыленный примчался в институт ». Вместе они пошли к А . А . Трофимуку , ко торый был крайне поражен и повторял : « Этого не может быть , Алеша не мог так поступить ».
По словам А . А . Оболенского , в ходе об суждения данного вопроса не было стрем ления к излишнему обострению ситуации . Вместе с другим известным сотрудни ком института , д - ром геол .- минерал . наук Л . В . Фирсовым , они вели многочасовые бе седы с А . Н . Дмитриевым и , в конце концов , как считал ветеран , убедили своего коллегу в неправильности его действий . По его утверждению , в отношениях между ними не осталось какой - то неприязни .
Из числа других « подписантов » наиболее длительное разбирательство выпало на до лю члена КПСС Ю . М . Ключникова ввиду его особого упорства в отстаивании своих воззрений . Первое из серии этих мероприя тий , заседание партийного бюро Сибирско го отделения издательства « Наука », имело место 8 февраля 1979 г . Как и в предшест вующем случае , члены партбюро издатель ства единодушно осудили соавтора « Запис ки ». Помимо указаний на несоответствие ее положений марксизму - ленинизму , приво дился еще ряд аргументов . В частности , секретарь партбюро заявил , что « данный факт является проявлением идеологической диверсии со стороны империализма и сио низма – в частности » 12.
В итоге члены партбюро единогласно проголосовали за исключение Ю. М. Ключникова из партии «за нарушение Устава КПСС, выразившееся в отходе от марксизма-ленинизма, за кружковщину и непризнание допущенных ошибок». Вторым пунктом постановления бюро записало: «Предложить дирекции рассмотреть вопрос о возможности использования т. Ключникова на работе в издательстве в должности редактора общественно-политической литературы» 13. В переводе с бюрократического язы- ка это означало рекомендацию об увольнении редактора.
Дальнейшее обсуждение персонального дела Ключникова развернулось на партий ном собрании издательства 22 февраля того же года . Все его участники активно осужда ли своего коллегу за отступления от мар ксистской идеологии . Кроме того , указыва ли на серьезные погрешности в его работе в качестве редактора ( недисциплинирован ность , невнимательность при редактирова нии текстов ). В итоге было вынесено два предложения – об исключении из партии и о вынесении строгого выговора с занесением в учетную карточку , однако ни одно из этих решений при голосовании не получило дос таточного количества голосов .
Далее в ходе этого мероприятия имела место весьма необычная ситуация : собрание было прервано и члены партбюро удалились на свое заседание . Секретарь партбюро объ явил : « Сложилась обстановка такая на соб рании , что большинства при голосовании об исключении Ключникова из рядов КПСС , как это решило наше бюро , мы не соберем . Предлагается изменить формулировку ре шения бюро и объявить т . Ключнико ву Ю . М . строгий выговор с занесением в учетную карточку за отклонение от требо ваний Программы и Устава КПСС по идео логическим вопросам » 14. После того как четверо из шести членов бюро поддержало этот вариант , партийное собрание было продолжено и утвердило новое предложе ние партийного бюро .
Возможно , в таком повороте событий сказались и другие факторы . Некоторые ос нования для этого дает выступление одного из членов парторганизации издательства на последующем партийном собрании 25 ок тября 1979 г . Он заявил , что его « возмути ло » поведение секретаря партбюро на соб рании по « делу Ключникова »: « пятнадцать минут он говорил об исключении , потом на него “ надавил райком ”, и он стал говорить по - другому » 15.
Оценивая правдоподобность такого рода версии , нельзя исключать , что партийные органы не стремились к обострению идео логического конфликта , можно сказать , за нимали примиренческую позицию . Как по казывает рассматриваемый далее пример
-
14 Там же . Л . 118.
-
15 Там же . Л . 61.
И . А . Калинина , в случае « раскаяния » впол не можно было ограничиться относительно мягким наказанием . Помимо прочего , такая позиция партийных органов , видимо , дикто валась нежеланием « выносить сор из избы », создавать у вышестоящих инстанций впе чатление о неудовлетворительной идеоло гической ситуации на подведомственной им территории .
Дальнейший ход событий по « делу Ключникова » выглядел следующим обра зом . В июне 1980 г . он подал заявление о снятии взыскания . О последующем можно судить по решению бюро Советского рай кома КПСС от 23 сентября 1980 г .: « Пер вичная партийная организация Сибирского отделения издательства “ Наука ” решением от 21.08.80 г . просила райком партии снять с т . Ключникова Ю . М . строгий выговор с занесением в учетную карточку <…>. Пар тийная комиссия решила поддержать прось бу партийной организации , но на бюро рай кома выяснилось , что т . Ключников Ю . М . до конца правильных выводов не сделал , по отдельным вопросам по - прежнему придер живается идеалистических взглядов , проти воречащих принципам марксистско - ленин ской философии ». В связи с этим бюро райкома постановило : « В просьбе партий ной организации о снятии взыскания с т . Ключникова Ю . М . отказать . Указать пар тийной организации Сибирского отделения издательства “ Наука ” на формальный под ход при рассмотрении персонального дела Ключникова Ю . М .» 16.
Можно предположить , что такой нега тивный поворот в ходе событий был обу словлен не только поведением Юрия Ми хайловича на указанном заседании , но и тем , что его , ввиду отсутствия И . А . Лавро ва , вел второй секретарь райкома Н . А . Со ловых ( канд . физ .- мат . наук , выпускник НГУ ). По общему мнению , это был доволь но догматичный и негибкий руководитель , не раз зарекомендовавший себя таким обра зом в различных непростых ситуациях .
Прошло еще больше года, и опальный редактор вновь попытался снять с себя партийное взыскание. О том, к чему это привело, можно судить по протоколу заседания бюро Советского райкома КПСС от 1 декабря 1981 г. Там отмечалось: «В связи с тем, что Ключников Ю. М. не сделал для себя должных выводов, его идейные воззрения остались такими же, в снятии партийного взыскания ему было отказано. Более того, было предложено рассмотреть вопрос на общем собрании о пребывании Ключникова Ю. М. в рядах КПСС, учитывая, что Ключников Ю. М. за время с марта 1979 г., данное ему для обдумывания своего отношения к марксистко-ленинской идеологии, не изменил своих взглядов в отношении теории “Живой этики”, а также философских положений Н. К. Рериха, Е. Блаватской, по-прежнему придерживается идеалистических взглядов, противоречащих принципам марксистско-ленинской философии. Увлечение “Живой этикой” и другими произведениями “восточной мудрости” не могло не сказаться отрицательно на производственной деятельности Ключникова Ю. М. За последнее время т. Ключников Ю. М. стал пренебрежительно относиться к работе <…>. При рассмотрении персонального дела на бюро и партийном собрании т. Ключников Ю. М. вел себя нетактично, грубил и допускал оскорбления в адрес коммунистов <…>. Партийное собрание решило исключить т. Ключникова Ю. М. из членов КПСС» 17.
Бюро райкома утвердило это решение , вскоре после чего Ключников был уволен со своей скромной должности редактора . Од нако далее дело приняло неожиданный обо рот , что вновь подтверждает ранее выска занное предположение о неоднозначной позиции различных партийных инстанций , их нежелании чрезмерно обострять идеоло гический конфликт .
Этот энтузиаст « Живой этики » обратился с апелляцией в Новосибирский горком КПСС , которая и была рассмотрена на засе дании бюро горкома 11 января 1982 г . В ре шении данного партийного органа были по вторены все ранее высказанные обвинения , в том числе и в « нетактичном поведении ». В качестве наиболее нетерпимого примера последнего сообщалось , что Ключников « на вопрос члена бюро Советского райкома КПСС , доктора наук , ныне члена - коррес пондента Академии наук СССР т . Накоря - кова ответил оскорблением , назвал его “ на учным мракобесом ”».
Однако после всех этих обвинений бюро горкома постановило : « Принимая во внима -
17 Там же . Оп . 22. Д . 10. Л . 33–34.
ние заявление т . Ключникова Ю . М . на бю ро горкома об осуждении своего неправиль ного поведения и заверения , что он твердо стоит на марксистско - ленинских позициях , а также учитывая его обещание впредь тру диться добросовестно и активно выполнять партийные обязанности , во изменение по становления бюро Советского райкома КПСС от 1 декабря 1981 г . восстановить Ключникова Ю . М . членом КПСС с сентяб ря 1959 г ., указав ему на неправильное , не тактичное поведение в партийной организа ции и на бюро райкома КПСС » 18.
Разумеется , заслуживает особого анализа вопрос о причинах такой « снисходительно сти » более высокой партийной инстанции в сравнении с непреклонной позицией низо вой партийной организации и райкома КПСС . Определенный свет на это проливает интервью , взятое автором данной статьи у И . Ф . Цыплакова , который в рассматривае мый период был одним из секретарей Ново сибирского горкома КПСС , – он непосред ственно « курировал » Академгородок .
Как вспоминал этот ветеран КПСС , по лучив материалы рассматриваемого « дело », он затребовал всю имеющуюся литературу по Рериху , получил ее в виде микрофильмов и несколько недель читал с помощью лупы . В результате пришел к выводу , что особого криминала в действиях « инициативной группы » не имеется , – это и определило его позицию на соответствующем заседании бюро горкома .
В принципе такая версия представляется вполне правдоподобной , принимая во вни мание человеческие и гражданские качества Ивана Федоровича Цыплакова . Он был хо рошо известен в Новосибирске не только как замечательный краевед , автор многих книг по истории нашего города , но и в выс шей степени порядочный человек .
В дополнение к этому можно высказать гипотезу, что, наряду с личными факторами, в данной ситуации могли сказаться и некоторые более существенные причины. Одна из них уже отмечалась ранее, – это незаинтересованность партийных инстанций в чрезмерном обострении вопроса, нежелание «выносить сор из избы». Возможно, здесь сказалось и дававшее порой о себе знать некоторое различие в подходах обкома и горкома: последний в политико-идеологических вопросах иной раз занимал более либеральные позиции, что также вполне объяснимо, поскольку объектом его воздействия было население индустриального мегаполиса, в том числе масса инженернотехнической и научной интеллигенции, по отношению к которой, естественно, необходима была определенная гибкость.
Разумеется , как и в ранее рассмотренном случае , объективная реконструкция истори ческой ситуации предполагает обращение не только к документам , но и к разнообраз ным свидетельствам современников . Осо бый интерес представляет в этом плане интервью , взятое автором статьи у Р . С . Ру сакова , который в рассматриваемый момент являлся директором Сибирского отделения издательства « Наука ». В своем рассказе об этих событиях Роберт Сергеевич прежде всего напомнил , что издательство в то время являлось большим коллективом , включав шим более 100 чел ., – только редакторов было 42 чел . Что касается Ю . М . Ключнико ва , то по словам ветерана , тот показал себя как « человек развитой , с разносторонними интересами ». Под его руководством выхо дила интересная стенная газета . Но он ман кировал своими обязанностями , в связи с чем заведующая редакцией общественно политической литературой Т . М . Назарянц не раз ставила вопрос о его увольнении , на что директор отвечал : « Ну как я его выго ню ». По словам Р . С . Русакова , были в Юрии Михайловиче также моменты сно бизма , высокомерия , что проявилось , на пример , в стихотворении , помещенном им в стенгазете , где члены коллектива обвиня лись в том , что они , как коровы , жуют тра ву , в то время как надо смотреть на звезды . Однако все это не выходило за определен ные рамки и не приводило к конфликтам в коллективе .
Согласно приведенным свидетельствам , обострение ситуации было обусловлено действиями соответствующих инстанций : все указания по этому делу давались в отде ле науки и высших учебных заведений об кома КПСС , куда представители издатель ства неоднократно вызывались по этому поводу . Ключевую роль в этом играл зам . за ведующего названного отдела , который от личался особенно консервативными взгля дами и всячески обострял ситуацию .
Дополнительные свидетельства « другой стороны » были получены в ходе неодно кратного интервьирования Ю . М . Ключни кова . В ходе бесед Юрий Михайлович пре жде всего подчеркивал , что основным инициатором раздувания рассматриваемой истории был тогдашний секретарь обкома по идеологии М . С . Алферов . Последний даже давил на КГБ , чтобы довести « возму тителей спокойствия » до ареста или поме щения в « психушку ». По свидетельству то гдашнего начальника « идеологического отдела » областного управления КГБ , пар тийный деятель ему не раз звонил по этому поводу . Этот работник госбезопасности хо рошо знал Ю . М . Ключникова и , убедив шись , что в письме нет « антисоветчины », сказал представителю обкома : « Это не по нашей части , а по вашей » ( т . е . по идеологи ческой ).
По словам Ю . М . Ключникова , в ходе за тянувшегося разбирательства он направил в ЦК КПСС ряд писем с разъяснением своей позиции , что лишь дополнительно « подлило масла в огонь ». Как он говорит , особое воз мущение руководящих товарищей вызвало содержавшееся в одном из писем предупре ждение , что КПСС в ближайшее время рух нет , если не встанет на предлагаемый путь духовного обновления .
В последней из этой серии бесед , которая состоялась в ходе работы над данной стать ей в ноябре 2010 г ., Ю . М . Ключников , по мимо прочего , рассказал о своих неодно кратных попытках встретиться с первым секретарем Новосибирского обкома КПСС А . П . Филатовым . Тогда Юрий Михайлович в очередной раз , записавшись на прием , не удостоился аудиенции , в связи с чем полу чил следующее разъяснение помощника « областного вождя »: « Вы тут чепухой за нимаетесь , а Александр Павлович сейчас занят важным делом – делит мясо между больницами и детскими садами ». По словам Ю . М . Ключникова , этот штрих дополни тельно убедил его в бесперспективности по литики КПСС , поскольку партийный органы такого уровня вместо выработки стратегии занимались хозяйственной рутиной .
Еще один характерный человеческий штрих: по словам Ю. М. Ключникова, в конечном итоге он благодарен своим гонителям, которые по-своему помогли ему начать новую жизнь, развернуть свой духовный потенциал. В противном случае, как он гово- рит, можно было «всю жизнь остаться серым чиновником»…
В какой - то мере по сходному сценарию проходило также весьма затянувшееся раз бирательство персонального дела Ю . Г . Мар ченко . В феврале 1979 г . на партийном соб рании Института истории , филологии и философии СО АН этому младшему науч ному сотруднику был объявлен строгий вы говор с занесением в учетную карточку 19. Через год с небольшим , в мае 1980 г ., на партийном собрании названного института рассматривался вопрос о снятии этого взы скания . Следует отметить , что к тому вре мени Юрий Григорьевич был уволен из Ин ститута ( за « невыполнение плана научной работы ») и к моменту собрания не имел официального места работы .
Созданная для рассмотрения этого во проса комиссия под председательством д - ра филос . наук В . В . Целищева высказалась против снятия выговора . В ходе собрания большинство его участников также были настроены весьма негативно . Из всех участ ников собрания за снятие взыскания выска зался только д - р филос . наук В . И . Бойко , мотивируя это тем , что « у Марченко Ю . Г . нет махрового идеализма , есть заблуждения . Вношу предложение снять партийное взы скание ».
Казалось, дело было предрешено, и тут вдруг неожиданно подал голос директор института акад. А. П. Окладников. Он сказал: «Проблема сложная, человеческая, решить ее не просто. Марченко получил свое за невыполнение плана – он не работает в институте. Он мог бы нас обмануть, но он не скрыл колебания, свои сомнения. Он старался решить проблему, марксист ли он? Это делает честь ему как человеку – готовность идти на жертву ради идеи, даже если она неправильна. Поиск в этом направлении не есть зло. В самом процессе размышления о сложности человеческой природы есть много привлекательного. За честное признание ошибок, за порядочность его обвинять нельзя. Я считаю, что лучше не подталкивать человека в пропасть, не обрывать его связи с партией, а помочь ему исправиться. Задача партбюро и парторганизации – способствовать просвещению Ю. Г. Марченко. Нужно дать ему возмож- ность творческой работы в школе, в университете, техникуме и т. д. Хорошо, что комиссия нашла мужество решить вопрос не однозначно. Решается судьба человека и очень важно решить ее правильно». Это выступление мгновенно разрядило сгустившуюся атмосферу: в ходе состоявшегося после этого голосования было принято решение о снятии взыскания (41 голос против 13) 20.
Разумеется , весьма интересен вопрос о причинах такого неожиданного демарша академика , по поводу чего среди сотрудни ков гуманитарных институтов Академго родка циркулируют определенные устные версии . В частности , отмечается , что Алек сей Павлович Окладников давно был связан с рериховским движением и , конечно , не мог не понимать , что в рассматриваемом вопросе нет идейного « криминала ». Вероят но , на предшествующем этапе его позиция определялась прежде всего прагматически ми соображениями , статусом в академиче ской иерархии . В связи с этим высказывает ся предположение , что на изменение позиции академика могла повлиять состо явшаяся незадолго перед рассмотренным собранием его поездка в Индию , общение с С . Н . Рерихом , более глубокое знакомство с духовным наследием Рерихов .
Вспоминая эти события , Ю . Г . Марченко в беседе с автором статьи основную ответ ственность за обострение ситуации возло жил на партийные органы . По его словам , особую активность здесь проявил секретарь Советского райкома КПСС ( ответственный за идеологическую работу ), который на од ном из заседаний , в частности , сказал , что ни в коем случае нельзя допускать Марчен ко к работе со студентами . Как вспоминал Юрий Григорьевич , это лишь укрепило его решимость в отстаивании свой позиции . Бу дучи уволен из академического института , он работал кровельщиком и в то же время – вел « за гроши » семинары в институтах , не редко пряча за спину порезанные на работе руки .
По его утверждению, рассматриваемые события получили определенный международный резонанс: «радиоголоса» передавали, что «в Академгородке готовится идеологический переворот». При этом ход событий находился под самым пристальным вниманием ЦК КПСС. На партийном собрании в Институте истории, филологии и философии присутствовали два представителя центральных газет, – возможно, на каком-то этапе предполагались «разгромные» публикации в прессе. После данного собрания Юрий Григорьевич, как он вспоминает, стоял в коридоре около «рериховского стенда» и слышал, как А. П. Окладников, провожая корреспондентов, обращал их внимание на то, что в ходе разбирательства Ю. Г. Марченко откровенно рассказал о своих духовных поисках и сомнениях…
Ценные штрихи в реконструкцию рас сматриваемых событий вносят устные свидетельства Л . П . Якимовой , у которой было взято интервью в феврале 2006 г . Как известно , она является известным литерату роведом , д - ром филол . наук . В то время Людмила Павловна была членом партийно го бюро названного института и ей было поручено возглавить комиссию по « делу » Марченко для доклада на соответствующем партийном собрании . Наша собеседница от метила , что достаточно хорошо помнит рас сматриваемые события , хотя никаких доку ментов по этому поводу у нее не имеется . Она подчеркнула , что в целом большинство участников обсуждений с пониманием от носились к ситуации , не склонны были обо стрять ее . Соответствующие санкции пред принимались без какого бы то ни было озлобления , в соответствии с существовав шими « правилами игры »…
Из числа авторов «Записки» И. А. Калинин был единственным, действия которого разбирались за пределами Академгородка – в соответствии с местом его производственной деятельности. Шестого марта 1979 г. бюро Дзержинского райкома КПСС рассмотрело его персональное дело. В его решении по этому поводу, в частности, указывалось: «Подписавшись под данной “Запиской”, Калинин И. А. тем самым заявил об отходе от марксизма-ленинизма, что не совместимо с пребыванием в рядах Коммунистической партии. Поэтому партийная организация треста “Химэлектромонтаж” справедливо исключила его из членов КПСС. Однако после обсуждения поступка Калинина в партийной организации и неоднократных личных бесед с ним коммунистов он написал заявление на имя райкома КПСС, в котором признает идеологические отклонения записки от марксизма-ленинизма, а также заявляет, что безотлагательно возьмется за глубокое изучение философских произведений Маркса, Энгельса, Ленина и просит оставить его в партии». В связи с этим бюро райкома решило ограничиться вынесением И. А. Калинину строгого выговора с занесением в учетную карточку 21.
Таким образом , рассмотренные материа лы дают немалую пищу для суждения о идеологических тенденциях и повседневной жизни Новосибирского научного центра в конце « застойного периода » . Разумеется , однозначную характеристику рассматри ваемых событий дать не просто . Здесь сле дует иметь в виду целый комплекс факто ров , и , прежде всего , ранее отмечавшийся общий социально - политический контекст , связанный с нарастанием в нашем обществе « застойных » тенденций , господством кон сервативных взглядов и подходов . Естест венно , что в таких условиях даже незначи тельные отступления от общепринятого воспринимались как « покушение на устои ». При этом , конечно , необходимо с понима нием относиться к зафиксированным в до кументах суждениям участников соответст вующих мероприятий . Порой они могут оставить впечатление интеллектуальной ограниченности и конформизма . Между тем нельзя забывать , что за исключением коллег И . А . Калинина , здесь фигурируют интел лектуалы Академгородка , которые , разуме ется , отличались широким кругозором . Так что зафиксированные суждения , видимо , в немалой степени , отражали существовавшие в то время « правила игры ».
Кроме того, возможно, участники обсуждений воспринимали «возмутителей спокойствия» прежде всего не как «идейных борцов», а как людей неуживчивых, амбициозных и т. п. В связи с этим следует иметь в виду две стандартные поведенческие модели, характерные для интеллигенции того времени. Одна из них – последовательные конформисты, другая – «играющие в оппозиционность». Последний тип как раз на материале Академгородка изображен в рассказе Л. П. Якимовой, которая в 1990-е гг. раскрылась не только как ученый-литературовед, но и талантливый писатель. Харак- теризуя своего «героя», она отмечает важнейшую черту его жизни, в которой «легкое фрондерство было хорошим способом выглядеть значительно» [Якимова, 1994. С. 98].
Анализируя ситуацию , следует подчерк нуть , что негативная реакция на действия « инициативной группы » в существенной мере определялась не только позицией пар тийно - идеологических структур , но и про тивостоянием внутри самого рериховского движения . В известной мере отношение к А . Н . Дмитриеву и его единомышленникам в тот момент было наиболее нетерпимым именно со стороны « официальной части » этого движения , что , в свою очередь , влияло на позицию партийных и научных функ ционеров .
О всей мере этой неприязни в кругу са мих последователей Агни Йоги можно , в частности , судить по письмам П . Ф . Белико ва . Имя П . Ф . Беликова (1911–1982) как биографа семьи Рерихов , автора многих книг , статей и исследований , хорошо знако мо общественности , занимающейся рери ховской тематикой . Как известно , он явля ется соавтором первой в нашей стране биографии Н . К . Рериха , в свое время из данной в популярной серии « ЖЗЛ » [ Бели ков , Князева , 1972].
Чрезвычайно негативно оценивая « За писку », Павел Федорович в одном из писем , в частности , утверждал : « Составители “ ме морандума ” спекулируют авторитетом Н . К ., его патриотизмом и камуфлируют его име нем свои занятия тантризмом и различного рода “ магией ” <…>. Как и всякая безответ ственная , ман [ иа ] кальная акция , “ меморан дум ” вызвал не только недоумение , но и са мые отрицательные последствия . На местах были проведены собрания , авторам “ мемо рандума ” вынесены выговоры …» [ Беликов , 2003. С . 257–261].
В заключение следует сказать несколько слов о дальнейшей судьбе героев рассмотренных событий. А. Н. Дмитриев в настоящее время – д-р геол.-минерал. наук, автор большого количества научных и публицистических работ, где остро ставятся проблемы экологии и духовного развития (см., например: [Дмитриев, Русанов, 2000; 2008; Дмитриев, Шитов, 2003; Казначеев и др., 2005]). Особое внимание в них уделяется фундаментальным изменениям в климате нашей планеты, которые, согласно его пре- дупреждениям, могут в ближайшее время изменить коренные условия существования земной цивилизации. По мнению А. Н. Дмитриева, лишь радикальное изменение жизненных ориентиров может дать человечеству шанс на выживание. В связи с этим, развивая свои исходные позиции, сформулированные еще более четверти века назад, он обосновывает несостоятельность потребительской, рыночной системы и говорит о социализме как единственно возможном пути для землян.
Ю . М . Ключников после увольнения из издательства « Наука » работал грузчиком и такелажником на новосибирских заводах . В настоящее время получил известность как поэт и публицист , его произведения неодно кратно публиковались в виде сборников и статей в центральных журналах ( см ., на пример : [2000; 2004; 2005; 2007; 2009]). Бо лее десяти лет Юрий Михайлович возглав ляет ежегодные экспедиции духовных искателей на Горный Алтай , к горе Белухе , и в Индию – к Гималаям . Он является руко водителем Духовного центра им . Преподоб ного Сергия Радонежского и Русского клуба в Новосибирске .
Ю . Г . Марченко принял активное участие в одном из первых заметных общественных движений кануна и начала « перестройки » – « трезвенническом ». Им был опубликован ряд вызвавших заметный резонанс работ , где намечались ориентиры духовного об новления Россия , – прежде всего на путях Православия ( см ., например : [ Марченко , 1990; Марченко и др ., 1990]). В настоящее время – доктор наук по специальности « Культурология ».
И . А . Калинин известен в кругах рери ховского движения как большой знаток « Живой этики », комментатор философ ских трудов Н . К . Рериха ( см ., например : [1999]).
Подводя итоги, следует еще раз попытаться взглянуть на рассматриваемые, относительно локальные события, в более широком контексте. Речь идет о наличии в нашем обществе в то время определенных реформистских сил, попыток найти выход из нараставшего кризиса на пути внутреннего обновления Системы. В связи с этим можно напомнить, что в условиях преобладания в тот период консервативных тенденций некоторые руководящие деятели страны, например А. Н. Косыгин, все же пытались в какой-то мере продолжить прогрессивные реформы, решать назревшие проблемы, не допустить полного застоя.
* * *
Видимо , эта линия находила наиболее ощутимую поддержку со стороны части на учной элиты , и здесь немалая роль принад лежала Сибирскому отделению Академии наук . Не исключено , что в период « застоя » эта авторитетная структура являлась важ нейшим генератором определенных рефор маторских инициатив ( разумеется , весьма умеренных и осторожных ). При этом сами лидеры « Сибирской академии », возможно , и не рассматривали свои предложения в каче стве альтернативы официальному курсу . Борьба за научно - технический прогресс , за решение экологических проблем , за опере жающее развитие Сибири , – все это мысли лось как « реализация политики КПСС ». Однако поскольку реальные действия пра вящих кругов все более шли вразрез с этими ориентирами , то патриотически настроен ные представители научной элиты в какой - то мере оказывались в роли оппонентов этой политики , своего рода « реформаторов поневоле ».
Некоторые из деятелей такого рода , по хоже , особенно не задумывались о широком общественном контексте своих инициатив и были абсолютно лояльны по отношению к существующей системе . К этому ряду , веро ятно , правомерно отнести акад . А . А . Тро - фимука , весьма ортодоксального по своим убеждениям , которому , однако , волей судеб приходилось идти на резкие конфликты с могущественными силами в ходе борьбы за спасение Байкала и за развитие нефтега зодобывающей отрасли . Другой вариант здесь представлял акад . А . Л . Яншин , « глав ный эколог России », у которого смелая гра жданская позиция сочеталась с оригиналь ным мировоззрением , поддержкой идей В . И . Вернадского и Н . К . Рериха .
С этой точки зрения рассмотренную инициативу сибирских энтузиастов «Живой этики» правомерно рассматривать в данном – более широком контексте реформистских поисков. Поскольку в тот период реформистский потенциал правящей партии оказался слишком слабым, это привело к торжеству консервативных тенденций, а затем к выдвижению на первый план деструк- тивных сил и в итоге – к разрушению не только существовавшей общественной системы, но и страны.
Проблемы же , поставленные в Академ городке в конце эпохи « застоя », неправо мерно рассматривать лишь как достояние истории . Напротив , за прошедшие десятиле тия их злободневность только усилилась . В настоящее время , как известно , сохраня ется опасность дальнейшей духовной дегра дации страны , а также превращения ее в сырьевой придаток и в экологическую « свалку ».
Новое измерение приобретает и пробле ма свободы научного творчества , – при этом речь идет не только о зависимости ученых от « денежного мешка ». Не секрет , что кое - кто под предлогом борьбы со « лженаукой » не прочь ограничить научные дискуссии , монополизировать истину , вновь утвердить « единственно правильное учение ». С этой точки зрения , рассмотренные идейные кол лизии в новосибирском Академгородке являются не только значимыми фактами ис тории , но и имеют определенные нити пре емственности с современностью .
NOVOSIBIRSK’S AKADEMGORODOK IN THE CONTEXT OF IDEOLOGICAL CONFLICT: THE CASE «INITIATIVE GROUP» (1979)