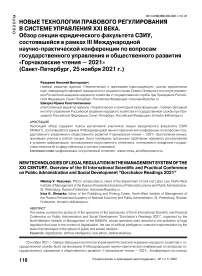Новые технологии правового регулирования в системе управления XXI века. Обзор секции юридического факультета СЗИУ, состоявшейся в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам государственного управления и общественного развития «Горчаковские чтения - 2021» (Санкт-Петербург, 25 ноября 2021 г.)
Автор: Разуваев Н. В., Шмарко И. К.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 1 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
Настоящий обзор содержит тезисы выступлений участников секции юридического факультета СЗИУ РАНХиГС, состоявшейся в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам государственного управления и общественного развития «Горчаковские чтения - 2021». Выступления ученых, принявших участие в работе секции, были посвящены актуальным проблемам правового регулирования в условиях цифровизации, использования искусственного интеллекта, интенсивного внедрения государством технологий в сферу публичных и частных отношений.
Цифровизация, искусственный интеллект, новая этика, делиберативность
Короткий адрес: https://sciup.org/14123545
IDR: 14123545
Текст статьи Новые технологии правового регулирования в системе управления XXI века. Обзор секции юридического факультета СЗИУ, состоявшейся в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам государственного управления и общественного развития «Горчаковские чтения - 2021» (Санкт-Петербург, 25 ноября 2021 г.)
25 ноября 2021 г. Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы была организована III Международная научно-практическая конференция по вопросам государственного управления и общественного развития «Горчаковские чтения — 2021». Конференция состоялась в дистанционном формате, на платформе MS Teams. В конференции приняли участие ведущие эксперты Академии государственного управления Казахстана, университетов Узбекистана, Армении, а также высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Воронежа, других образовательных, общественных и некоммерческих организаций.
ОБЗОРЫ
В секции «Новые технологии правового регулирования в системе управления XXI века», проведенной юридическим факультетом СЗИУ в рамках конференции, выступили с докладами Е. Н. Доброхотова, В. В. Денисенко, Н. С. Малютин, Д. А. Лисовицкий, Г. В. Алексеев, В. П. Есенова, И. И. Осветимская, В. Л. Вольфсон, В. В. Архипов, Г. В. Цепов, У. А. Удавихина, а также другие российские ученые, теоретики права и специалисты в сфере отраслевых юридических дисциплин. Модераторами секции выступили декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ С. Л. Сергевнин и заведующий кафедрой гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС Н. В. Разуваев.
Участники конференции обсудили вопросы трансформации субъективных гражданских прав в условиях цифровизации правопорядка, правовых принципов использования цифровых технологий в публичном управлении, реализации концепции единой публичной власти в РФ и новых подходов в сфере государственного управления территорией, применения инструментов цифровой диктатуры, реализации принципа делиберативности в публичном управлении, управления деятельностью хозяйственных обществ в цифровую эпоху и многие другие. Перед началом работы секции с приветственным словом к ее участникам обратился заместитель директора СЗИУ РАНХиГС Д. Е. Мерешкин, отметивший значимость рассматриваемой проблематики в современных условиях и пожелавший собравшимся продуктивной работы.
Учитывая научную актуальность и практическую значимость состоявшегося обсуждения, предлагаем вниманию читателей краткий обзор выступлений участников секции.
Николай Викторович Разуваев 1. Уже не первый раз в Северо-Западном институте управления обращаются к обсуждению проблем цифровизации правопорядка, ее общесоциальных и юридических последствий. Тема сегодняшней конференции свидетельствует об универсальности рассматриваемых тенденций, находящих свое проявление в любых сферах общественной жизни, будь то культурное творчество, экономика, политика или право. Цифровая трансформация в постиндустриальном обществе кардинально преобразует уже не только общественное производство (как это было в 1970-х гг., когда американские теоретики постиндустриализма ввели в оборот соответствующий термин), но и другие сферы, включая государственное управление и право. Для последних цифровизация стала мощным стимулом эволюции, преобразовавшей основные структуры правового и политического порядков и приведшей к возникновению качественно новых явлений социальной действительности.
В самом деле, еще лет десять-пятнадцать назад проблема становления права и государства постмодерна рассматривалась главным образом в контексте разрушения базовых принципов, заложенных в эпоху Нового времени, тотальной неопределенности в сфере регулирования, перманентного чрезвычайного положения и т. п. Подобные суждения, на наш взгляд, свидетельствуют не столько о распаде сложившихся структур в условиях наступления «ситуации постмодерна» (пользуясь термином французского мыслителя Ж.-Ф. Лиотара), сколько об отсутствии четких научных представлений о сущностных характеристиках постсовременных права и государства. В последние годы среди исследователей сложился своеобразный консенсус в том, что правовой и политический порядки постсовременности имеют по преимуществу цифровой характер. Причем важно отметить, что предпосылками такого единодушия стали процессы, на наших глазах происходящие не только в науке, но и на практике. Речь идет, в частности, о формировании цифровых управленческих структур, цифровизации объектов субъективных прав, а также о цифровой трансформации самих этих прав.
Все это позволяет сделать вывод, что правовое регулирование представляет собой, в первую очередь, информационный процесс, направленный на упорядочение коммуникативных отношений, складывающихся в обществе. Правопорядок в таком случае может быть представлен в качестве системы связи, структурно отвечающей классическому описанию, данному Клодом Шенноном, предложившим пятичленную конструкцию, которая включает в себя источник информации, ее передатчик, канал передачи информации, приемник и адресата сообщения2. Очевидно, что цель функционирования указанной системы состоит в совершенствовании средств коммуникации, в том числе в оптимизации способов кодирования, декодирования и передачи информации. Речь, иными словами, идет в данном случае о чисто формальных приемах, чем, собственно, и объясняется использование термина «технологии» применительно к рассматриваемому кругу отношений.
Однако не вызывает сомнений, что прогресс правового регулирования предусматривает не только совершенствование средств юридической коммуникации, включая и знаковые ее средства (а цифра, безусловно, является одним из таких средств), но и развитие содержательных аспектов, то есть, прежде всего, ценностной составляющей
ОБЗОРЫ
диалога, участники которого должны относиться друг к другу как к равноправным субъектам, обладающим личной свободой, которая выступает необходимой предпосылкой коммуникации. Игнорирование ценностной значимости права, а также воплощенной в нем человеческой ценности способно привести лишь к выхолащиванию собственно правового начала регулирования, что с неизбежностью повлечет за собой снижение его эффективности, сколь бы совершенными ни были применяемые при этом технологии.
Представляется, что самый главный вывод из всего сказанного состоит в том, что никакая цифровая трансформация не изменяет сущностных характеристик права как проявления экзистенциальной и социальной свободы субъектов коммуникации. Надеюсь, что этот вывод поддержат и другие участники сегодняшней дискуссии.
Елена Николаевна Доброхотова 3. Цифровая среда — это новая среда, с которой мы все с вами взаимодействуем. При использовании цифровых технологий мы не должны терять из виду главного предназначения права — служить добру и справедливости. И если юристы больше сосредоточены на понятии справедливости, поиске некоего оптимального сочетания публичных и частных интересов, право как искусство добра и справедливости должно быть ориентировано к общему благу. Мы живем среди людей, и хоть у нас появляются виртуальные двойники, за действия которых мы должны нести ответственность, но следует еще раз вспомнить, что право — это именно искусство, а искусство без философского осмысления не может состояться.
Сейчас нужны синергичные научные исследования с привлечением различных областей знания: философии, психологии, права, биологии, медицины. Например, медицинские знания в области охраны здоровья требуются при оценке рисков, которые возникают, когда мы переходим к работе с использованием цифровых технологий. Если говорить о согласовании публичных и частных интересов при применении новых цифровых технологий и взглянуть на эту проблему сквозь призму добра и зла, то я думаю, что больше надо сосредоточиться на оценке того, где технология причиняет нам зло или вред, а где право не выполняет свою функцию достижения всеобщего блага. Я хочу вспомнить примеры конкуренции искусственного интеллекта с естественным, случаи подмены естественного интеллекта искусственным, которые вызывали катастрофы, например, на производстве, в авиаперевозках (когда искусственный интеллект неверно реагировал на показания приборов и принимал решение совершить маневр, что приводило к крушению самолета). Человек реагирует не так быстро на меняющуюся ситуацию и реагирует в принципе по-другому, не так, как искусственный интеллект.
Поэтому в попытке согласовать публичные и частные интересы при регулировании новой реальности и новых коммуникаций, в которых уже задействован искусственный интеллект, новые технологии общения требуют задуматься о вопросах этизации права, этики нового времени, так как искусственному интеллекту сложно будет свободно осознанно или эмоционально отреагировать на ситуацию, когда, например, беспилотник такси выбирает маневр, который требуется совершить в ситуации, угрожающей человеку или нескольким людям. Какой выбор он сделает? Для человека выбор в такой ситуации невозможен, так как каждая человеческая жизнь важна и не измеряется количественно. Поэтому этизация правового регулирования при использовании новых технологий — это важнейшая проблема. Говоря о новых технологиях правового регулирования, нужно отметить, что они уже сложились и не были связаны с цифровизацией, а стали следствием общесистемных изменений в жизни: появления комплексного регулирования, замены метода правового регулирования механизмом правового регулирования.
Предметное деление права на отрасли сохраняется, а вот функционально метод заменен более сложной категорией — такой как механизм регулирования. Мы видим, что конструкции, которые ранее считались исключительно частноправовыми, например договорное регулирование, пережили определенную трансформацию и вошли в такие отрасли правового регулирования, где присутствуют участники — носители публичных, социальных и частных интересов, например в трудовом, образовательном праве и праве социального обеспечения.
Владислав Валерьевич Денисенко 4. Я бы хотел рассмотреть вопрос применения принципов делибератив-ности в публичном управлении. Само словосочетание является довольно новым, потому что у нас в учебной литературе оно не встречается, при том что какой-либо концепт считается парадигмальным, когда он входит в учебную литературу. Между тем где-то с 90-х гг. эта тема рассматривается уже в европейской и американской научной и учебной литературе по юриспруденции, политологии. Принцип делиберативности считается одним из основных в правотворчестве, при принятии публично-правовых решений. Он означает обязательность учета общественного мнения граждан, причем такой учет общественного мнения подразумевается не в виде социологического опроса, а в форме полноправного участия граждан как субъектов правотворчества, когда затрагиваются их интересы. Как пишет канадский мыслитель Уилл Кимлика, делиберативный поворот произошел где-то в 1990 г., когда началось закрепление этого принципа в конституционном законодательстве и на уровне муниципального права. Актуально ли применение этого принципа для России?
Сейчас в рамках применения новых цифровых технологий это как никогда актуально. В социологии и политологии есть такое понятие, как постправда, когда сложно определить общественное мнение и реальность в условиях информационной эпохи. То есть может быть проведено какое-то общественное слушание в электронном формате, но потом оказывается, что оно не отражает точку зрения населения. Например, два года назад имело место довольно сильное протестное движение в Екатеринбурге против строительства православного храма. До этого был проведен опрос общественного мнения, который показал, что население относится положительно к решению его постройки, но, когда начались строительные работы, граждане начали действия против них. Это говорит о том, что социологические опросы, особенно в электронном формате, не всегда отражают действительное настроение в обществе. Поэтому, когда мы говорим об участии граждан в принятии публично-правовых решений, речь идет не только о каких-то императивных действиях, к которым не привлекается население непосредственно, но и о ставших повседневными электронных формах учета мнения населения, хотя зачастую они не отражают реальной картины.
ОБЗОРЫ
Говоря о принципе делиберативности, стоит упомянуть такую популярную сейчас тему, как конституционная идентичность. В контексте данной идентичности следует рассмотреть делиберативность как возможность граждан высказать свое мнение либо на референдуме, либо в рамках алеаторных процедур, когда создаются гражданские ассамблеи, куда по принципу жребия подобно суду присяжных допускаются люди, и они в течение определенного периода обсуждают возможность реформы или принятия какого-то конкретного решения. Эти способы считаются наиболее эффективными в части решения вопросов, касающихся религии, соматических прав человека. Наилучшим образом такие гражданские ассамблеи себя показали в том, что касается культурной самобытности народов в Австралии, Ирландии и ряде иных стран Западной Европы и Латинской Америки. Например, в Бразилии на уровне муниципалитетов использование алеаторных процедур позволяет принимать решения, поддерживаемые населением. В качестве отрицательного примера, когда органы власти отказываются учитывать мнение населения при принятии решения, можно привести ситуацию в Польше, где Конституционный суд выносит решения по вопросам конституционной идентичности в связи с рассмотрением вопроса возможности прерывания беременности. Принимаемое Конституционным судом и органами власти решение по данной проблеме вызывает протесты, так как решение принимается без учета мнения общественности.
Что касается соблюдения принципа делиберативности в РФ, то можно отметить наличие в стране всех характерных черт, которые присущи общемировым тенденциям: правовая экспансия, то есть расширение предмета правового регулирования, дифференциация правового сознания, что называется концом идеологии, возникновение вопросов конституционной идентичности, которые стоят очень остро. На мой взгляд, именно процедуры алеаторного и делиберативного характера при принятии публично-правовых решений — это наиболее адекватный, апробированный опыт для административно-правовой системы и государственного управления в целом.
Малютин Никита Сергеевич 5. Проблемы новых технологий и их влияния на государственное управление очень важны. Необходимо раскрыть взаимосвязь категории единой публичной власти и новых подходов к управлению территориями Российской Федерации. Сегодня анализ действующей системы законодательства в сфере государственного управления территорией позволяет сказать, что до конституционной поправки 2020 г. у нас применялись две устоявшиеся модели управления территориями: условно можно назвать их моделями перераспределения полномочий и делегирования полномочий.
В рамках модели распределения полномочий под управлением находились территории с особым статусом: города федерального значения, ЗАТО, наукограды и территории районов Крайнего Севера. Суть этой модели состоит в том, что сама концепция осуществления власти связывается с тем, что полномочия и сфера компетенции органов публичной власти в рамках этой системы перераспределяются с муниципального на более высокий уровень, например от местного самоуправления к субъектам Федерации, а в отношении ЗАТО муниципальные и региональные полномочия переносятся на федеральный уровень. Сама по себе такая модель может вызывать вопросы, так как она выходит за рамки универсальной трехчленной (муниципальный, региональный и федеральный уровни) системы управления, и она должна рассматриваться как некая исключительная модель. Анализ существующего законодательства в целом подтверждает, что эта модель действительно применяется в исключительных случаях.
Вторая модель — делегирование полномочий — содержит в себе более острую проблему, так как к территориям применения такой модели относятся инновационные научно-технологические центры, территории опережающего социально-экономического развития, территория свободного порта Владивосток и территория Арктической зоны. Особенность управления этими территориями заключается в том, что модель единой публичной власти является недостаточно эффективной, что вынуждает саму власть переходить к иным способам управления такими территориями. Мы видим, что ключевые полномочия по управлению такими территориями переходят к негосударственным структурам: управляющим компаниям и иным негосударственным институтам. С одной стороны, очевидны достоинства такого управления, когда экономически значимые территории получают обоснованное управление
ОБЗОРЫ
негосударственными структурами, но с другой — теряется государственный элемент, связанный с необходимостью публичного управления этой территорией, несмотря на то, что управленческими полномочиями наделяются негосударственные институты. Еще одна проблема состоит в том, что фактически возникает некое неравенство в сфере общественного регулирования, так как ряд общественных институций в рамках таких территорий приобретает особую власть в публично-правовой сфере, что создает неравенство в доступе к государственным услугам и т. п.
В связи с появлением в Конституции РФ нового вида территории — федеральной территории — возникает третья, новая модель управления, не укладывающаяся в существующие модели. Она представляется эксклюзивной, так как все три уровня власти сливаются в единую новую систему, появляется новый орган управления — совет, и отсутствует единый закон, который бы регулировал создание и управление федеральной территорией как таковой, что позволяет думать, что в отношении каждой федеральной территории может быть введена собственная модель управления, максимально отражающая местные условия и территориальные особенности.
Лисовицкий Дмитрий Александрович 6. Продвижение цифровизации является инициативой во многом государственных органов. В связи с этим возникает один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание. Тот, кто выступает заказчиком цифровизации, экстраполирует все эти процессы, действительно являющиеся всеобъемлющими, стоит хотя бы посмотреть на количество госконтрактов по созданию систем. Поскольку заказчиком цифровизации выступает именно государство, то развитие этого процесса, в первую очередь, направлено на удовлетворение его потребностей. В подобной ситуации возникают определенные опасения, помимо защиты персональных данных, что в такой глобальной системе, которая, конечно, необходима, граждане выступают неким пассивным субъектом, а не актором этого процесса.
Поэтому в рамках стратегии цифровизации должны быть закреплены и реализованы некие гарантии для граждан, что их права и свободы в рамках этого процесса будут поставлены во главу угла и разработка соответствующих решений будет идти при соблюдении интересов граждан. Ключевая проблема видится в необходимости параллельной реализации двух процессов: с одной стороны, разработки и принятия правовых актов и в процессе цифровизации создание соответствующих систем, а с другой — формирование параллельной системы правового регулирования, обеспечивающей права и интересы граждан внутри самого процесса цифровизации, чтобы граждане не были его пассивными участниками.
В рамках проводимой цифровизации можно уже говорить о появлении цифрового человека как совокупности данных о человеке, который фактически стал объектом регулирования и управления. Понятие «цифровой человек» как условный аватар, существующий в цифровом пространстве, отделенный от личности, начинает жить своей товарной природой. И такая ситуация тоже требует адекватного отражения в праве. Да и само право теперь тоже становится метасферой проявления нашей жизни, и это цифровое «я» каждого из нас должно получить свой правовой статус.
Алексеев Георгий Валерьевич 7. Я бы начал с определения искусственного интеллекта как моделирования процессов, происходящих в человеческом сознании, машинами посредством математических методов. На мой взгляд, самое опасное в этом определении слово — «моделирование», так как любой искусственный интеллект в этом смысле будет симулякром того, что происходит в человеческом сознании. При этом мы не понимаем, как мыслит машина. Человеческий интеллект как качество психики складывается из способности создавать новые ситуации, способности к обучению на основе опыта, пониманию, применению абстрактных концепций, использованию своих знаний, формированию новых абстрактных понятий. Машина работает совершенно по-другому: она легко запоминает, сохраняет информацию, понимание ею затруднено, но в действительности мы не знаем, что и как она понимает и способна ли машина мыслить абстрактно. В этом смысле мышление искусственного интеллекта кардинально отличается от привычного нам человеческого мышления.
Что касается правовой культуры, которая вместе с человеческим интеллектом составляют основу происходящего в правовом поле современного общества, то право не предполагает наличия информационных технологий в том виде, в котором оно складывалось в последние две тысячи лет и более. Мы можем придумать новые институты, но заимствовать что-то, например, в римском праве, что могло бы быть релевантно цифровой реальности, мы не можем, потому что таких вопросов в то время не было. Поэтому мы не можем ничего легитимировать посредством рецепции и должны исходить из профессионального правосознания юриста. А у юриста существуют комплексные представления о развитых индустриальных субкультурах, в том числе об информационной субкультуре, которые дают ему возможность выполнять свои профессиональные обязанности в новыхусловиях, например разрешать споры в цифровой сфере.
В сферу экономики искусственный интеллект внедрен достаточно глубоко, например, в рамках биржевых торгов. С одной стороны, у нас существуют технологии машинного обучения, чат-боты, сервис-роботы, а также техно- логии распознавания лиц и другие механизмы идентификации. При этом пока нейросети моделируют работу мозга крайне плохо, кроме алгоритмов расчета. Это касается искусства, сочинения музыки, управления автомобилем.
ОБЗОРЫ
У нас есть доктринальные представления об искусственном интеллекте, о том, что он может восприниматься как некий субъект правовых отношений, либо равнозначно юридическому лицу, либо как нечто новое. Кажется, искусственный интеллект постепенно становится субъектом права, но сам он об этом не знает, и потому я полагаю, что это некая правовая утопия. Есть и другая позиция, которая состоит в том, что требуется изменение правового регулирования искусственного интеллекта, который будет на неких цифровых платформах реализовывать свою правосубъектность.
Искусственный интеллект становится также инструментом международного общения. Сегодня правительства и частные лица используют его для улучшения оказания медицинских услуг, распознавания лиц, вынесения судебных решений (например, в Дании разводы оформляются практически автоматически при помощи технологии искусственного интеллекта). С одной стороны, это удобно, но абсолютно неприменимо к большинству особых ситуаций.
Интерес для анализа представляет также деятельность корпораций в сфере интеллектуальной собственности, которые создают оцененный на рынке продукт, например создатели видеоигр с огромными годовыми оборотами (такие как Dota). Встает вопрос, насколько интегрирован искусственный интеллект в менеджмент таких корпораций. При этом развлечения могут быть очень закрытыми, создавая пространства для малых групп, адептов определенной цифровой субкультуры, и внутри таких виртуальных сообществ создаются собственные правила, законы, виртуальная реальность, в которой реализуются права и свободы членов такого сообщества.
Получается, что искусственный интеллект на сегодняшний день и его использование ориентированы прежде всего на индустрию развлечений. И это влияет на суть машинного понимания окружающей действительности. По факту выясняется, что при внедрении искусственного интеллекта возникает парадокс морали, который состоит в том, что варианты выбора моделей поведения человека, обусловленные его обычной моторикой, очень сложно понять искусственному интеллекту, а он оказывает больше влияния на повседневную действительность, чем что-то еще. И когнитивный парадокс состоит между тем, что видит искусственный интеллект, и тем, что в итоге понимает индивид в процессе участия в правовых отношениях. Все это порождает абсолютную неспособность права регулировать отношения с участием искусственного интеллекта, потому что он не знает о существовании права, и в этом смысле его поведение подчинено совсем другим математическим алгоритмам. Мне кажется, что в связи с этим аспектом искусственный интеллект опасен и мы находимся в начале пути его развития и не понимаем логики, с которой он будет принимать решения в дальнейшем.
Валентина Петровна Есенова 8. Большие базы данных о гражданах могут стать объектом торговли — на эту проблему обращал внимание Комитет по юридическим вопросам Европарламента. В условиях использования цифровых технологий человек становится не то чтобы объектом манипулирования, но объектом использования в интересах крупных корпораций. В том числе объектом становятся его персональные данные, на которые человек фактически может утратить права собственности, — как отмечал Европарламент, человек может также не знать, как используются его данные. В этом контексте стоит обратить внимание на риски, в частности необходимость контроля за возможностями создаваемого искусственного интеллекта. Например, Европейский парламент обращает внимание на формирование стандартов искусственного интеллекта и необходимость следования им. Потому что эти стандарты должны обеспечивать безопасное использование искусственного интеллекта, насколько это возможно в принципе.
Второй риск — сокращение численности рабочих мест в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта. Например, на Всемирном экономическом форуме прозвучала мысль, что в связи с внедрением искусственного интеллекта к 2020 г. количество рабочих мест должно сократиться на 5 млн. Именно в связи с этим риском родилась идея единого базового дохода. Возникает также вопрос социальных гарантий при внедрении искусственного интеллекта, в том числе и проблемы выплаты пенсий. Для минимизации этих рисков Европарламент предлагает контролировать процесс внедрения искусственного интеллекта на рабочих местах посредством установления обязанности предоставлять отчетность о замещении рабочих мест искусственным интеллектом и предоставлять информацию о размере полученных доходов в связи с заменой рабочих.
Ия Ильинична Осветимская 9. Я привыкла говорить о благах цифровизации, цифровой демократии, о том, как она упрощает связь и взаимоотношения между государством, личностью и обществом, но нельзя отрицать, что существует и опасность превращения данной системы отношений в цифровую диктатуру. И такой пример уже есть — Китай. Тотальное наблюдение за своими гражданами, сбор персональных данных в Китае осуществляется в рамках
ОБЗОРЫ
системы социального кредита. Китай быстро перешел к использованию цифровых технологий во всех аспектах взаимоотношений граждан с государством, повсеместно установлены камеры с системой распознавания лиц, разработаны мобильные приложения, интегрированные с базами данных, системой пропускных пунктов, все данные обрабатываются в качестве больших данных (big data).
Официальная позиция Китая заключается в том, что цель внедрения этой системы социального кредита — способствовать созданию именно гармоничного социалистического общества, в котором учитывают современные технические достижения, и посредством этой системы у нации воспитывается надежное и честное поведение. Таким образом в обоснование применения этой системы заложен в первую очередь не материальный, а нравственный аспект. Рейтингование охватывает всех, и физических, и юридических лиц, государственные органы, коммерческие и некоммерческие структуры. Как работает эта система? Поведение любого лица фиксируется и оценивается согласно рейтингу, присваиваются баллы за любой поступок, за плохие поступки (например, безбилетный проезд) начисляются штрафы. Профиль социального рейтинга обуславливает дальнейшее существование гражданина в государстве: на какую работу он сможет устроиться, в какую школу сможет отдать ребенка, сможет ли поступить на государственную службу, снять квартиру и т. п. То есть этот рейтинг представляет собой по сути человеческий капитал, который монетизируется и определяет в дальнейшем всю судьбу человека, гражданина, семьи и деятельности компании.
Соответственно, сторонники этой системы в принципе говорят, что в этом нет ничего плохого и что в руках самого человека находится его судьба: не совершай плохих поступков — и у тебя будет высокий рейтинг. Такой подход сравнивают с терминологией Ж. Делёза, который говорил, что идет создание системы, где человек может свободно развиваться, заниматься активной деятельностью в пределах некоего коридора с эластичными стенами. Но противники этой системы называют ее цифровой диктатурой, так как она подрывает информационную безопасность, полностью нарушается личное пространство, а в отдельных районах Китая камеры устанавливаются даже в жилых помещениях для наблюдения за человеком. Эта система — набор компьютерных программ, разрабатываемых человеком, ей не избежать ошибок, манипуляций, взломов, непонятно, как опротестовать результат решений, принятых этой системой. С точки зрения международных стандартов прав человека, такая система попирает права граждан, неприкосновенность частной жизни, затрагивают репутацию, личное достоинство гражданина и может стать карательным инструментом со стороны государства. Такое государство тотальной слежки легко превращается в экспортный товар, вызывает интерес других государств, в которых не слишком принято ценить приватность, этот опыт может перениматься, внедряться в жизнь граждан других стран, что может представлять угрозу правам человека на международном уровне. Причина тотальной слежки и цифровизации, использование инструментов цифровой диктатуры покоится на хрупкости власти, которая построена на том, чтобы бороться с инакомыслием, применять репрессии, в отличие от власти, которая строится на общественном согласии, поэтому такая неуверенная в себе власть прибегает к соответствующим инструментам. Я считаю, что человек должен быть центральным элементом всей системы отношений, которые выстраиваются с государством, и должен существовать тот предел, за который государство не должно выходить.
Владимир Леонович Вольфсон 10. Цифровизация оказывает большое влияние на частное право, и мне бы хотелось остановиться на основных проблемах, которые цифровизация представляет для охраны так называемого личного пространства.
Частное право весьма щепетильно и очень осторожно относится к охране личных прав. Оно развивалось прежде всего как режим охраны имущественных интересов, а не личных. Например, в российском гражданском праве не предусмотрен режим общей дозволительности в охране нематериальных благ. Например, если внимательно читать ст. 150 ГК, то увидим, что нематериальные блага охраняются в соответствии с законом в двух случаях: либо когда это предусмотрено специальным законом, либо в соответствии с общим порядком, установленным ст. 12 ГК. Таким образом, частное право в известной мере оказалось неготовым к цифровизации, которая стала активнейшим образом ставить перед частным правом вопрос о необходимости признания и защиты единого личного права или права на личное пространство. Такая ситуация возникла в эпоху цифровизации по той причине, что интерактивные взаимодействия между субъектами права, которые собственно являются сутью любого гражданского права, потребовали исключительно тонкого отношения ко многим интересам личности, до этого просто не принимавшимся во внимание.
Например, в п. 45 Пленума Верховного Суда РФ № 2511 от 23 июня 2015 г. дается разъяснение в отношении права гражданина на его изображение и использование этого изображения, в частности на коллективной фотографии. Создает ли факт согласия человека фотографироваться для коллективной фотографии презумпцию согласия гражданина на использование его изображения? Верховный Суд считает, что да, человек, участвующий в такой съемке, должен исходить из того, что фотограф имеет намерение выложить это в сеть, и почему-то такое намерение фотографа, по мнению Верховного Суда, имеет приоритет по отношению к праву человека отказаться от этого.
ОБЗОРЫ
На мой взгляд, современные тенденции развития российского права требуют корректировки курса. Следует по-новому посмотреть на личные права и совокупность норм по их защите в гражданском праве. Думаю, что не стоит в этом вопросе оглядываться на другие страны и правовые традиции и нужно выработать собственную концепцию права на личное пространство.
Владислав Владимирович Архипов 12. Я бы хотел поделиться одной мыслью, которая имеет определенные перспективы, на мой взгляд, а именно хотел бы обратить внимание на ту новую медиареальность, в которой мы с вами живем. Я имею в виду различные социальные медиа и иные ресурсы, в которых мы вольно или невольно участвуем. Прошло много лет с момента, как появились первые масштабные социальные сети (в 2004–2006 гг.), и сами сети претерпели определенное развитие к настоящему времени. Дело в том, что одним из главных отличий социальных медиа тогда и сейчас является то, что изначально при их появлении мы сами фактически формировали информационную повестку дня, которую изучали. Это были «стены» наших друзей, иные обновления, которые мы в общем могли относительно свободно модерировать, но пример сети Facebook показывает, какие явные изменения произошли в этой сфере. Сети изменились за счет того, что повестку дня для нас формируют теперь алгоритмы социальной сети, которые просчитывают наши действия. Получается, что одно из изменений составляет элемент дизайна современных цифровых технологий, что влечет необходимость осмысления права на неприкосновенность частной жизни, а другое изменение состоит в существенном повышении значимости социальных медиа для нашей повседневности.
Что касается права на неприкосновенность частной жизни, то, бесспорно, мы имеем много различных настроек приватности в социальных медиа, которые позволяют нам контролировать, кто видит нашу информацию, кто нет. Хотя в одной из бесед с коллегами неожиданно я услышал мнение, что кому-то некомфортно даже регистрироваться в социальных сетях, потому что в них невозможно обеспечить тот уровень публичности или приватности, несмотря на существующие настройки, которые хотелось бы применить человеку, заботящемуся о неприкосновенности своей частной жизни. Когда ты даже просто регистрируешься в социальной сети, то при полностью закрытом профиле твои данные все равно используются, обрабатываются и анализируются для вторжения в частную жизнь посредством формирования потоков интернет-рекламы. Если соединить этот факт с медиафилософской концепцией, согласно которой тело в нашем внутреннем понимании в цифровом мире представлено посредством различных цифровых интерфейсов, то получается, что, фактически используя платформы, регистрируясь в новом социальном сервисе, мы занимаем определенное положение в цифровом пространстве, которое является публичным, а не частным.
И это, мне кажется, новый модус существования человека как социального существа в рамках цифровой реальности, которую, думаю, нам следует учитывать и которая, несмотря на совершенно общий характер, может иметь далеко идущие последствия. Заводя профиль в тех сервисах, которые ориентированы на коммерциализацию пользовательских данных, мы раскрываемся в публичном пространстве.
Одним из направлений социологии, которое сейчас развивается применительно к осмыслению роли социальных медиа, называется экономика внимания, когда социологи и экономисты осознают, что ограниченным ресурсом, за который происходит борьба на рынке информационных технологий, является внимание пользователей. Поэтому многие из этих технологий построены именно на инструментах привлечения внимания. Отсюда следует другая идея — о том, что внимание в этом смысле — это обобщенный символический посредник, некий ресурс, который может конвертироваться в другие ресурсы социального капитала. Если мы рассмотрим всю эту проблематику, то можем прийти к интересным выводам на уровне междисциплинарных исследований относительно в том числе реальности правовых явлений и достоверности информации.
Таким образом, хочется подчеркнуть значимость экономики внимания, равно как и того, насколько человек становится незащищенным, исходя из объема обрабатываемой информации о нем в интернете. Данная проблема становится не узким вопросом цифрового права, а одним из основных вопросов, связанных с правами человека в современном мире.
Иванюженко Андрей Борисович 13. Цифровая реальность, цифровые общественные отношения становятся некоей очевидной данностью, поэтому все больше мы переходим в отношениях в гиперпространство, появляются соответствующие нормативные акты в этой сфере, на уровне Гражданского кодекса, федеральных законов, указов Президента, иных нормативных актов. Каким же образом должно государство подходить к регуляции этих отношений? Должны ли быть какие-то универсальные принципы, руководствуясь которыми государство должно администрировать эти отношения?
ОБЗОРЫ
Первым таким общим принципом должен быть принцип законности. Поскольку Российская Федерация признает международные акты, то должна следовать и заложенным в них принципам, например Хартии по правам человека в интернете, где говорится, что жизнь человека в цифровом пространстве должна быть обеспечена соблюдением общепризнанных прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. Хартия глобального информационного общества говорит о том, что необходимо укреплять соответствующую нормативную базу и согласовывать действия между государствами для создания безопасного киберпространства, которое защищает пользователей от преступлений.
Более узкий принцип, соблюдение которого должно быть обеспечено в рамках цифрового пространства, — это принцип процессуального обеспечения цифровых прав процедурами, которые предусмотрены законодательством как в цифровой, так и в традиционной процессуальной форме. Цифровые отношения, на мой взгляд, это аналог общественных отношений в вербальной части коммуникаций, только с добавлением нового проводника, которым является информационная коммуникативная среда. Но универсальных проводников не бывает, поэтому государство должно обеспечивать права человека в цифровом пространстве: как возможностью реализации цифровых прав, так и прав, которые могут возникнуть в нашей документарной обыденности.
Еще одним таким принципом становится признание за лицом тождества прав в киберпространстве и в реальном мире. Не все могут иметь возможность пользоваться цифровыми инструментами. Данный принцип должен обеспечивать признание наличия цифровых прав только при наличии соответствующих технических возможностей. Например, когда произошел сбой в работе мессенджера, часть отношений может стать невозможной. Поэтому государство, учитывая такие аспекты, должно признавать подобные ситуации форс-мажорными, когда реализация прав невозможна по техническим причинам.
Также должен быть учтен принцип гарантий цифровой безопасности и защиты цифрового суверенитета. Полагаю, что государствам имеет смысл задуматься о введении статуса цифрового резидентства, для чего придется заключать международные договоры, в соответствии с которыми будет введен режим цифрового резидента.
Если искусственный интеллект выступает представителем государства, то он выполняет агентскую функцию, и в этом отношении становится важным соблюдение принципа ответственности обладателя цифровой технологии за злоупотребление содержанием цифрового права. Например, достоверен ли калькулятор Пенсионного фонда? Правообладатель цифровой технологии обладает большей информацией по сравнению с пользователем. И здесь должны применяться принципы защиты лица, имеющего доступ к меньшей информации по сравнению с лицом, владеющим технологией.
Общим принципом также должен стать принцип признания и реализации цифровых прав, технологий, которые подтверждены общепризнанными сведениями об объективной реальности. Если мы пользуемся информационными технологиями, то в основе этих технологий, баз данных должны быть исключительно общепризнанные сведения об объективной реальности.
Георгий Викторович Цепов 14. В настоящее время мы находимся в эре информатизации и телекоммуникаций, и по большому счету человечество вступило в новую эпоху своего развития, столкнувшись с новыми проблемами, которые напрямую затрагивают и юридическую сферу. К настоящему времени произошли очень серьезные изменения в технологиях, которые позволили аккумулировать огромное количество информации и обрабатывать ее и осуществлять при этом практически мгновенную передачу данных. Неизбежным следствием является то, что человек утрачивает возможность в значительной степени без помощи электронно-вычислительной техники принимать разумные решения, то есть делать экономический выбор, при том, что идея свободы воли и рационального поведения составляет фундамент современной юриспруденции. Как писал С. Н. Братусь, всякое подлинное волевое решение есть избирательный акт, включающий в себя сознательный выбор и решение. На концепции свободного выбора основывается и идея привлечения к ответственности, в том числе и гражданско-правовой, которая наступает в результате правонарушения. Состав правонарушения включает и субъективную сторону — вину, за отдельными исключениями ответственности в области предпринимательской деятельности, но основной принцип заключается в установлении ответственности за виновные действия.
Возникает вопрос: как же быть в новых обстоятельствах? Насколько принцип вины позволяет достигать целей правосудия с учетом того, что в условиях увеличивающейся сложности разумный выбор человеку сделать все сложнее и сложнее. Здесь также следует вспомнить об идее ограниченной рациональности Герберта Саймона, которая стала фундаментом для развития новой рациональной экономической теории. Как оценить разумность выбора и способен ли суд оценить, насколько разумно действовало лицо в той или иной ситуации? Особое значение это имеет для регулирования деятельности руководителей коммерческих организаций, хозяйственных обществ, которые вынуждены принимать деловые решения, в случае непринятия которых они также могут быть привлечены к ответственности за бездействие. Может ли человек в принципе без специальных инструментов принимать решения в условиях сложности, оценивать деятельность соответствующих искусственных помощников? И если может и должен, то как эта ответственность должна делиться между всеми участниками процесса: производителями оборудования, программного обеспечения, теми, кто обучал нейросети, поставщиком данных, оператором данных. Можно поставить и более широкий вопрос: возможно ли вообще использование иных способов помимо традиционных способов регулирования правовых отношений, таких как нормирование, то есть использование норм права, которые создают достаточно четкое правило поведение и высокую степень определенности? При этом очевидно, что невозможно создать правила на все случаи жизни.
ОБЗОРЫ
Другой возможный подход — регулирование посредством стандартов, которые создают высокую степень неопределенности — обязывают действовать добросовестно, в интересах организации. При применении этого способа возникает большая дискреция суда. Эта проблема была поставлена американскими юристами Кейзи и Ни-блеттом15, которые обосновывали необходимость применения нового способа регулирования — микродиректив, которые не являются обязательными, но небольшой риск и ответственность в случае их невыполнения возлагается на нарушителя.
Мы можем обратиться еще к более сложной проблеме, заключающейся в том, что суд может в условиях сложности оказаться неспособным определить, действовал ли руководитель добросовестно и разумно. Какой же тогда выход? Мы можем вспомнить, что действующее законодательство допускает возможность передачи полномочий единоличного исполнительного органа другому хозяйственному обществу — управляющей организации на основании гражданско-правового договора. Управляющая организация обладает возможностями, недоступными единоличному руководителю. Таким способом можно увеличить основания и размер ответственности, возложив на управляющую организацию ответственность за предпринимательские риски, что, собственно, предусмотрено законами об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. Управляющая организация также может взять на себя расширенную ответственность, то есть обязанность возмещать обществу имущественные потери и когда нарушения управленческих функций с ее стороны нет. Безграничны ли возможности переложения экономических рисков на управляющую организацию? Здесь можно сделать вывод, что основание и объем договорной ответственности управляющей организации не могут быть безграничными и ограничиваются целями управления, так как иной подход нивелирует предпринимательский характер деятельности управляемого общества.