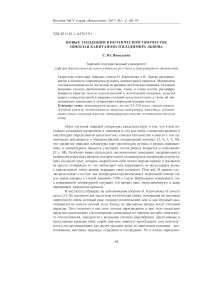Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Творчество известных тверских поэтов Н. Капитанова и В. Львова рассматривается в контексте современного русского литературного процесса. Материалом для анализа являются их последние по времени поэтические сборники. Основное внимание уделено проблематике и поэтике, языку и стилю поэтов, расшифровываются скрытые пласты идеологической и эстетической полемики, делается вывод о концептуальной и жанрово-стилевой целостности книг, а также об эволюционных изменениях в литературно-творческой позиции поэтов.
Литературный процесс, поэзия xx–xxi веков, "тихая лирика", духовный реализм, постмодернизм, тверская литература, идиостиль, субстандарт в языке, языковая агрессия, литературный концепт, поэтическая книга как жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/146122012
IDR: 146122012 | УДК: 821.161.1-1(470.331)
Текст научной статьи Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова
Опыт изучения тверской литературы свидетельствует о том, что в ней постоянно возникают интересные и значимые в том или ином отношении явления и она обладает определенной целостностью, самодостаточностью и вместе с тем органически вписывается в общероссийский литературный контекст [3; 4; 5; 7; 10], что «развитие тверской литературы идет различными путями, в разных направлениях, в литературном процессе участвуют поэты разных возрастов и поколений» [3, с. 68]. Особенно важно проследить эволюционные изменения, вызревающие в творчестве известных авторов, которые имеют сложившуюся литературную репутацию, большой опыт, которые «выработали себе четкое мировоззрение и пытаются не просто отображать то, что наблюдают или переживают, но воссоздавать жизнь с определенной точки зрения, выражать свою позицию» [Там же]. В данном случае речь пойдет о поэтах, чье литературное происхождение, творческий генезис так или иначе связаны с «тихой лирикой» 1970-х годов. Наблюдения показывают, что в современной литературной ситуации эти авторы явно эволюционируют и даже переживают творческие кризисы.
В частности, обращает на себя внимание сборник Н. Капитанова «У синего леса» [1]. Он выстроен как целостная поэтическая книга, основанная на исповеди лирического героя, который рано покинул родительский дом и, как блудный сын, отправился на поиски лучшей доли. Книга, по признанию автора, носит итоговый характер. Поэт включил в нее свои лучшие произведения и при этом тщательно продумал композицию: стихотворения, написанные по законам силлабо-тонического стихосложения, чередуются с вольными стихами (верлибрами). Двухсложные и трехсложные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест) преобладают, они используются в тех произведениях, где звучит мелодия души, ее лирическое излияние – воспоминания, мечтания, надежды, страдания и сострадание. Но в жизни лирическо- го героя случаются и мгновения кризисов и катастроф, периоды переосмысления своей жизни, раскаянья, осознания своей вины и ответственности за что-то. Герой словно спотыкается о свои ошибки и провинности, останавливается и теряет взятый изначально плавный песенный ритм, начинает честно и с горечью говорить о прозе жизни, используя стилевые возможности верлибра («Как странник, стою перед крыльцом отчего дома…»; «Из прошлого» («Время скрипит в колесах телеги…»); «Одинокая птица над полем…»; «Вбиваю гвозди в дверь старого дома»; «Уходил я из моей лесной деревни…»; «Сосед во дворе делает лодку…»; «Телега вдруг пошла с крутой горы…»; «Пришел с работы. / Не зажигая света, подошел к зеркалу…»; «Когда уходит любовь…»; «Во дворе пыль и глухие удары…»; «Когда-то в ожидании твоего прихода…»; «Уходит время…»; «Первый снег»; «Звуки»; «Пугало») [1, с. 11, 53, 66, 70, 87, 94, 102, 119, 128 и др.].
Синтаксис таких стихотворений близок к прозаическому, разговорному, сказовому. Предметная изобразительность носит подчеркнуто бытовой характер: например, первый снег радует героя и наводит на крамольные мысли («Попроситься бы, что ль, на постой / к одинокой вдове?» [Там же, с. 37]), попутчик в вагоне «режет на столе колбасу, как дорогу, / и медленно пережевывает воспоминания» [Там же, с. 43]. Стоит отметить, что часто один и тот же мотив у Н. Капитанова встречается и в верлибре, и в традиционном стихотворении: «И вот уже сижу, согрет, за чаем. / Вагон качает, будто на весу. / – Вот так живем и жизнь не замечаем, – / И мой попутчик вынул колбасу» [Там же, с. 155]. Микросюжет один и тот же, сцена в вагоне поезда одна и та же, но интонация (продиктованная синтаксической структурой и ритмом вольного стиха или же силлабо-тонического) и настроение лирического героя (остраненно-задумчивое в первом случае и сентиментальное во втором) различны и в общем контексте книги взаимодополняемы.
В каждом из стихотворений, написанных верлибром, звучит некая сентенция, поучение, притча: «Ах, как я счастлив там, / за холмом, где – деревня моя! / Но туда уже не повернуть лошадь»; «Сосед во дворе делает лодку. / <…> Зачем ему лодка? <…> сосед упорно работает, не чувствуя времени, / которое стоит у него за спиной / и ждет свою лодку»; «Сосед выбивает из половика застой и отгороженность быта. <…> Довольно, приятель! Зачем лупишь синюю даль?» [Там же, с. 66, 87, 152]. В сборнике возникает чередование философских и лирических фрагментов, подчеркнутое ритмическим контрастом силлабо-тоники и верлибра. Создается впечатление, что герой на протяжении всей книги преодолевает власть житейской прозы и в финале устремляется к музыкально-лирической стихии чувств.
Чтобы раскрыть характер своего лирического героя, Н. Капитанов использует ряд ключевых слов-символов, концептов, таких как звезда, холм, Христос, Бог, благодать, птица, судьба, родина, деревня . Поэт развивает традиции Н. Рубцова, по-своему интерпретирует такие его мотивы, как «звезда полей», «видения на холме», «пароходы». Особенно значимым становится образ звезды, который олицетворяет бытие и инобытие героя. Это звезда «безымянная», «шальная», «одинокая», «ночная», «горячая, как память», «первая». Она может взойти «мерцающим крестом», «звезда судьбы то светит, то зайдет». Она скитается среди галактик, среди «миров и столетий», во «вселенской круговерти», «на задворках миров», в «иных измереньях», «на просторах Млечного пути», «средь многих светил», среди мири-адов других звезд, по стезе, которая «протянулась… от звезды до звезды сквозь туман». Звезда символизирует единство героя с миром.
Лирический герой Н. Капитанова воспринимает мир в единстве «здешнего» и «нездешнего». Оказавшись на белом свете, он терпеливо несет «нелегкую ношу бытия»:
Как душа моя на свет явилась?
Во вселенной вспыхнула огнем.
Жизнь в меня вдохнула Божья сила
И ушла в небесный окоём.
Я остался на земле, как странник… [Там же, с. 8].
Н. Капитанов явно ориентируется на традиции Ю. П. Кузнецова, «размышляет о судьбе всей России и всего русского народа, об исторических катаклизмах XX века, об ошибках и предательстве, которые пришлось пережить в смутные времена 1990-х…» [3, с. 71]. По словам В. А. Редькина, Ю. Кузнецов боролся «за сохранность и жизненность национальных идеалов, за чистоту и красоту народной нравственности и эстетики», показывал, что «в мире идет непрекращающаяся борьба добра и зла, борьба сатанинских сил с Богом», что «понятия Неба, Солнца, Звезды несут в себе смыслы, связанные с понятиями Добра, Любви, Справедливости, Бога», и этим же путем идут лучшие тверские поэты [7, с. 100], которых роднит с Ю. Кузнецовым погруженность «в национальную русскую мифологическую традицию» [8, с. 90]. По нашему мнению, к числу таких поэтов следует отнести и Н. Капитанова.
Лирический герой книги «У синего леса» все время помнит про «немыслимую вечность», «тайные сроки земного всего бытия», «глубины бытия», «сумрак бытия», «тихую, святую благодать», он знает: «Мать и отец, ваши души / тоже витают вдали»; «бродит памятью по свету / моя старенькая мать». Герой надеется найти дорогу к Богу: «Я б умчался в твое поднебесье, / да не знаю дороги к тебе»; «Может быть, Христос меня приветит, / Когда путь проляжет мой к нему»; «Что-то пробивается сквозь згу. / И Господь тебя уже встречает / на другом, на светлом берегу» [1, с. 8, 180].
Еще один важнейший для Н. Капитанова концепт, определяющий собой своеобразие его идиостиля, как уже упоминалось выше, – это концепт синего цвета. Стоит уточнить, что сам по себе эпитет синий (и его дериваты) очень распространен и встречается едва ли не у каждого поэта. Но Н. Капитанов работает с ним целенаправленно, превращает из простого эпитета в концепт.
Можно сказать, что Н. Капитанов почти исчерпал тему, мастерски использовав и смысловые, и фонетические, и ассоциативные, и символические возможности «синего». Он реализовал знаменитую есенинскую метафору «синь сосет глаза». Взгляд поэта имеет определенный ракурс, поэт смотрит на мир сквозь своеобразный оптический фильтр и видит все вокруг «в синем свете». Есенинское «несказанное, синее, нежное» – тончайшая лирическая субстанция, символ любовно-взволнованного душевного состояния лирического героя С. Есенина – в поэзии Н. Капитанова переосмысливается, трансформируется во «вселенскую синь», становится философским символом скитальчества лирического героя, напряженности бытия его духа, предопределенности его судьбы, тесно связанной с драматической судьбой России.
Ряд примеров из стихотворений Н. Капитанова очень разнообразен и показателен. Можно привести микроконтексты, основанные:
– на лексеме лес : «леса синий цвет», «за синими пустынными лесами», «синие леса», «вдалеке голубые леса миражом широко зависают», «синева лесов», «синеющий лес»;
-
– на лексемах небо, облака, воздух, ветер : «от небес в реке – синева», «под пронзительной синью небес», «под небом голубым», «под серым небосводом», «небес голубизну», «небо словно синий лист бумаги», «темно-синее небо», «облака синеватые», «восток над лесом стал чуть синий», «это свинцовое небо», «свет василькового неба», «васильковый рассвет», «васильки, как дети опрокинутого неба», «подобием лазурной пыли / стоит в полях осенний дым», «облако сереющей косынкой / плывет по краю выцветших небес», «и небо накинет на плечи / лазурную шаль-кисею», «приподнимая неба кисею», «в воздухе синем», «воздух голубой», «старый тополь… полощет листву в голубой вышине»;
-
– на лексемах простор, даль (в том числе «даль времени»): «дали с и ни и глубоки», «тающий клин в голубом далеке», «светлые дали, что до синего леса видны», «голубая ласковая даль», «и дали / видны сквозь воздух голубой», «ветер и солнце в дали голубой», «за синий холм», «в синих долинах туманы», «горизонт далекий – к лесу – голубой», «лишь в далекой долине фиалки цветут», «где когда-то цвели незабудки»;
-
– на лексемах вечность, вселенная, космос : «бесконечные, вечные с и ни», «вселенская синь», «синь старинная», «холодеющие сини / вечных, неизведанных систем», «Землю голубую»,«вглядываюсь в глубь ультрамарина, / карту неба зная наизусть».
Встречается и синева как таковая, квинтэссенция синевы, метафизическая синь (причем в разных диапазонах спектра – от голубого до чернильного и фиолетового): «вечерняя синь», «в синих сумерках», «синеет мрак», «в густой синеве», «и синь сквозит спокойная над полем», «густой фиолет», «чернильный сумрак», «голубизна», «синим электричеством заливало лужи», «электричество с и нее молний», «отражаясь в озерах огнем голубым», «была в руке моей синица». Последний приведенный микроконтекст еще раз подтверждает, что концепт «синь, синий» – это не просто указание на цвет, это выражение целого комплекса нравственных, психологических, философских семантических компонентов, определяющих собой духовную сущность лирического героя.
Концепт «синий» ненавязчиво доминирует, становится всеобъемлющим, «вселенским», он объединяет в целостную картину лес, небо, даль, холмы, простор и становится символом самой России, всего мироздания. Синий цвет, как известно, используется для куполов Богородичных храмов, ассоциируется с образом и с Покровом Пресвятой Богородицы, с ее материнской любовью к Руси (не случайно одно из стихотворений посвящено деревне с названием Покров: «Стоит, как прежде, на земле Покров…»). И лирический герой Н. Капитанова тоже выражает свою любовь к родной земле, ощущает себя не только скитальцем во Вселенной на Млечном Пути, но и человеком, оберегаемым на этом пути Божьей Матерью.
-
Н. Капитанов воссоздает духовную реальность, передает подлинность, истинность, осуществимость жизни духа своего лирического героя. Его поэзию последнего времени следует рассматривать и осмысливать в рамках такого типа творчества, как «духовный реализм» (методологический потенциал этого термина широко и плодотворно разрабатывается В. А. Редькиным и рядом других ученых [8; 9]).
Лирический герой сборника В. Львова «Веди себя» [2], на первый взгляд, близок герою Н. Капитанова. Это деревенский житель, принадлежащий к тому же поколению, что и герой книги «У синего леса». Только он не покидал своей родной деревеньки, а всю жизнь прожил в ней – где родился, там и пригодился. Впрочем, этот же герой был характерен и для всех предшествующих изданий В. Львова, в том числе самого объемного – «Пожня». Автор в подзаголовке и предисловии к книге «Веди себя» утверждает, что включил в нее стихотворения либо «новорожденные», либо ранее не включавшиеся в его сборники. Но и в новых произведениях В. Львов не изменяет себе – вновь раскрывает нам внутренний мир и обстановку жизни простого крестьянина.
Само по себе это не вызывает сомнений: у какого же русского не дрогнет сердце при воспоминании, при одной только мысли о русской деревне? Традиция, которую продолжает В. Львов, насчитывает множество славных имен: Кольцов, Некрасов, «новокрестьянские поэты», Дрожжин, Твардовский, Тряпкин… Поэтому читатель заведомо настроен на ту теплую поэтическую волну, которая всегда шла от «крестьянского поэта» В. Львова.
Но что же нового можно увидеть в «новорожденных» сочинениях автора книги «Веди себя»? Настоящий поэт всегда в поиске, всегда развивается, осваивает новые пласты жизни или же новые художественные формы.
Не надо доказывать, что судьба русской деревни, а значит, и самой России оказалась трагической, гибельной. Облик ее стремительно изменился и продолжает меняться. Вместо колхозов и совхозов на месте заросшей пашни и дачных построек кое-где стали появляться фермерские хозяйства и агрохолдинги, вместо деревенских посиделок и клубов в моду пошли движение экологистов, поисковые отряды, исторические реконструкции, событийный и агротуризм. Вместе с тем идеология мегаполисов с их «эффективными» маркетологами и менеджерами, подобно чудовищной химере «золотого миллиарда», продолжает подавлять русскую ментальность, русскую душу, маленькие (да и немаленькие) городки и поселки вымирают. В провинции «оптимизируются» система образования и здравоохранения. Русский характер пытается теперь сохранить свою идентичность, свою «самость» в рамках новой, урбанистической цивилизации.
Как писал Чехов, «народ на Руси беден и голоден». Он же разрабатывал сюжет для небольшого рассказа: «Для Кирилла и Мефодия годится параллель между IX и XIX веками…. Нарисуйте чистенькую избушку с вывеской “школа” <…> Вокруг одетые и сытые мужики… Это IX век… А рядом с ним XIX век: та же избушка, но уже похилившаяся и поросшая крапивой… В IX веке были школы, больницы. В XIX есть школы, кабаки…» [11, т. 2, с. 97]. Ну, а параллель с XXI веком еще интереснее и сложнее! Здесь и «офис врача общей практики», один на всю округу, и «опорные (базовые)» школы на фоне множества «похилившихся», и железная дорога с недоступными сельскому жителю «сапсанами», и много иного любопытного.
Почему же все эти явления не находят отражения в творчестве В. Львова? Конечно, «лаптей и самоваров» из школьного музея в поэзии Львова уже нет, но сколько же можно на одной и той же ноте плакать о том, что «забодала тоска-кручина» и что «в этом краю мужик вырублен весь под корень»? Владимир Ильич не заметил, что «мужик» теперь живет в городе, и рано еще хоронить русский единый корень!
Впрочем, у лирического героя В. Львова все же появились новые черты. Изменился его речевой портрет, изменилась авторская позиция. Если раньше поэт воссоздавал облик своего односельчанина, с грустью наблюдающего гибель деревни, пытающегося сохранить старинные культурные и нравственные традиции, то теперь в центре внимания Львова – герой-балагур, рубаха-парень, который бравирует своим деревенским происхождением. Он свысока смотрит на горожан, словно бы обладает истиной в последней инстанции. Но на свой же вопрос: «Как людей вернуть в деревни?» – он не дает никакого ответа.
Героя В. Львова можно сравнить с персонажем из рассказа В. Шукшина «Срезал», который ставит в тупик приехавшего из города доцента непосильным философским вопросом о соотношении материи и сознания: «Как там насчет первичности?» Но мудрый Шукшин, сожалея о том, что доцент оторвался от родных деревенских корней, отнюдь не поддерживает и его оппонента, а осуждает за гордыню и высокомерие. Гордыня – это следствие ограниченности, однобокости мышления, неумения глядеть в корень, понимать глубинную суть исторических процессов. Нельзя отдельно взятого городского доцента обвинять в гибели всего русского села, глупо награждать званием последнего защитника Руси жителя деревни из трех дворов.
Высокомерие рубахи-парня в поэзии В. Львова выражается прежде всего в языке, фамильярной, ёрнической, панибратской речевой манере, в эдаком амикошонстве. Язык героя доведен до просторечия, жаргона, самых грубых форм. Эти формы агрессивны, конфликтогенны, они навязываются читателю. Автор обращается не к разуму читателя, а к его низменным чувствам и примитивным эмоциям, поэт ждет от публики радостного одобрительного гыканья и полагает, что «народ» понимает именно такой и прежде всего такой язык: «На фига мне это?», «фиг вам», «офигел он, право слово», «да, меня посылали и на фиг, и в баню, и в зад», «зафи-гачивают шунт», «А фиг ли?!», «Не думать о фигне?!», «вскарабкаться хотел на Млечный мост, / да ни фига, пардон, не получалось».
В связи с последней фразой вспоминаются знаменитые «Млечные мосты» уроженца Тверской земли Н. Тряпкина, в поэзии которого лирический герой действительно неразрывно связан и с деревенской люлькой, и с колыбелью Вселенной – и на этом фоне вирши В. Львова с их «фиговым контекстом» воспринимаются как жалкая пародия или гротеск.
Как простодушное саморазоблачение звучат строки балагура-стихоплета: Загораю на пляжу, Что попало горожу, И стихи, как баба кофту,
В голове своей вяжу [2, с. 134].
В. Львов наслаждается не тем народным, сочным, изумительным русским языком, который сохранил в своем словаре В. Даль и на котором говорили еще наши бабушки, а псевдонародным сленгом: «ветр вихры кустов дербенит», «кажись, не помёр пока я», «по утрянке», «теянтер», «апосля», «там тебе не здеся и не тута», «обшиблась маленько», «наша “жисть” хреновая ядрёна», «мы читали, слушали, балдели», «евойную гармошку», «ходють ноги не туды», «на пензии», «хрень», «ма-ти-таки», «Ухи, бляха, шомполом прочисти!», «Наши ихних дюже уважают», «её-ный бизнес», «Европу трахнул кризис <…> Нинку – наш сосед», «Ядрёна мать!»
Вместе с тем вполне понятные или даже общеупотребительные слова автор зачем-то комментирует со ссылками на В. Даля: «вволю – вдоволь», «малин-няк – малинник», «башковитый – сметливый», «ужо – после», «намедни – недавно», «нахраписто – нагло», «зыркать – смотреть», «котуль – кошелка», «ся – эта» (лучше бы «сия», но метрика не позволила), «позатот <…> век – два века тому назад» и даже так: «хоть выжимай рубаху – до седьмого пота».
Раздражают в книге В. Львова хромающий на обе ноги синтаксис (неоправданное нарушение порядка слов, двойной родительный, искусственное удлинение строки ради соблюдения стихотворного размера): «я люблю наши ночи эти», «и мне себе могилу впору рыть», «отличать от лукавого правого», «нам давали те истоки знания железные», «Я не первый об этом пишу, / Не последний хотелось бы чтоб»; прямое нарушение грамматики: «моей души крепчала связь с двуста веками», «всколыхнутые <…> чувства», «святство», «жили хорошей»; неоправданная, бессмысленная тавтология: «условное слово “словно”»; смешение стилей: «если вирши не складутся», «нет, мы друг в друге вовсе не анклавны», «ветр <…> дербенит»; избыточность синонимов (плеоназмы): «привкус мятный / сластит нектаром».
В. Львов заранее высмеивает критика, который будет придираться к мелочам и не увидит в его стихах главного: «Деревня! Не там запятая. / А не там запятая поставлена – значит, мура!» Но главное отнюдь не в запятой, а в продуманной языковой и литературной программе поэта, который пошел по пути балаганного юмора, популизма, постмодернистской словесной игры, нагнетания отрицательной экспрессии. Мы видим имитацию деревенской речи, которая в своем исконном виде почти уже заглохла теперь и в изводе В. Львова будет непонятна молодому поколению, особенно городским жителям. Или городского читателя заведомо отсекает от себя В. Львов? Коверканье русской речи, нарушение правил грамматики, оборванные фразы – признак постмодернистской эстетики (вспомним слоган «Как я провел этим летом»). И неожиданно на уровне языковой политики «крестьянин» В. Львов смыкается с «интеллектуалом» В. Юриновым (напомним его фразу: «Делать там хорошо, где нам есть» [12, с. 78]).
Справедливости ради отметим, что В. Львов не одинок в своем стремлении к стилю «а ля рюс». Талантливейший Л. Филатов в своем сказе «Про Федота-стрельца, удалого молодца» использовал его тонко, с чувством меры, а главное, в юмористическом, шуточном произведении. К сожалению, В. Львову шутка не удается, чувство меры изменяет ему. Псевдонародность оборачивается имитацией, подделкой, фальсификатом, беспомощным подражательством, как бы мы ни любили за прошлые заслуги «молодца» В. Львова.
Вульгаризация стиля, активизация грубо-просторечного пласта нелитературного языка в речи как героя, так и автора, снижение высокого, детабуирование ранее запретного, обсценного – такова стилевая политика и литературная практика, таково речевое поведение Львова. А ведь говорила мама маленькому Володе: «Веди себя хорошо!»
Ориентация поэта на субстандарт в языке приводит и к использованию субстандарта в тематике и проблематике. Фальшь проявляется не только в языке и стиле поэта и его героя, она заметна и в содержании произведений В. Львова.
В заключительной части сборника «Веди себя» помещены поэмы. Этот жанр имеет для поэта такое же значение, как для прозаика роман. К жанру поэмы обращаются тогда, когда появились возможности для серьезных обобщений, когда у автора сформировался эпический взгляд на мир, действительность, человека. Не случайно известный тверской писатель-романист В. Крюков когда-то призывал Львова «возвыситься» до уровня некрасовского эпоса. В. Львов попытался создать свои версии этого жанра, но далеко не все, к сожалению, ему удалось. На «вечный» вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» ответ у него получился мелкотравчатый, узкий. Автор не «возвысился» до пафоса Некрасова, а деградировал как художник.
Так, например, поэма «Нинкин бизнес» разочаровывает упрощенным толкованием судьбы современной русской крестьянки (селянки). Бизнес, то бишь дикий капитализм, разорил народ, Россию. Но описать бизнес владельцев «норильских ни- келей» или «сургутнефтегазов», да даже более скромных региональных деятелей, – задача трудная (надо иметь доступ к соответствующей информации, эрудицию, надо уметь глубоко осмыслить новейшую социальную и политическую историю России) и/или рискованная (попробуй покритикуй сильных мира сего!). Поэтому В. Львов обратил свои взоры на безответную жертву нашего времени – женщину легкого поведения. Ее бизнес показался поэту почему-то особенно зловредным для нашего общества. Злосчастная Нинка «без зазренья совести рожает» от всех своих соседей без разбору и при этом обогащается, покупая «на декретные» то холодильник, то телевизор, то стиральную машину, а то и – о ужас! – кофту и колбасу с селедкой. Автор (герой-повествователь) так и не разобрался, в чем же вина Нинки – в том, что «Ненасытна бабская порода» («Ну и что? Хотела и дала»), или же в том, что «Раньше так собой не торговали». Нинка слишком любвеобильна или же слишком продажна? Просто блудница или же проститутка? Неясно, но зато ясно, что из-за таких, как Нинка, по мнению автора, гибнет Россия, грядет всемирный потоп, почти апокалипсис.
Поэту (рассказчику) обидно, что все в России идет прахом, что власть с народом обращается безжалостно: «Кинут в котелок, потрусят солью, / И варись, как курица в борще» [2, с. 174]. Но обвиняется во всех бедах почему-то Нинка. Именно она становится символом неправедной сытости, вызывающего зависть благополучия, бесстыдного процветания в масштабах Куршавеля и шокирующей продажности: «Мне до Нинки дела никакого, / Но не от таких ли вся беда? <…> Нинка-то здорова, / Нинку даже время не берет!» [Там же, с. 183].
Позиция рассказчика в этой поэме – это позиция учителя, дидакта, опытного, солидного руководителя то ли клуба, то ли сельсовета. Попав в больницу и ужаснувшись больничным порядкам, рассказчик развлекает своих соседей по палате скабрезным рассказом о Нинке и делает назидательный вывод:
Да и мы такие ж точно Нинки: Разметали по морю икринки… Не себя ль, ребята, продаем? [Там же, с. 186].
Вывод внешне глубокомысленный, но читателю непонятен. Что имеет в виду уважаемый автор? Осуждает ли он новейшую эмиграцию, «утечку мозгов» за море-окиян? Ратует ли за сохранение нашего суверенитета над Курилами? Призывает ли народ брать власть в свои руки из рук олигархов и – «почта, телеграф, телефон»? Или все просто – советует не иметь дела с Нинками, а сохранять верность добропорядочным женам? Но в таком случае поэт стреляет из пушки по воробьям!
Трудно представить себе больничную палату, где болящие, забыв о своих грыжах и анализах, с увлечением слушают про какую-то Нинку. Эка невидаль! В каждой деревне есть своя Нинка. Да ведь и Сонечку Мармеладову, и Настасью Филипповну Барашкову Достоевский оправдывал, считал жертвами общества! И Александр Блок в поэме «Двенадцать» в гибели Катьки видел гибель самой России и обвинял в этом как Ваньку, так и Петруху!
Да Нинкин ли «бизнес» в наше время порок и разврат, когда к толерантности нас призывают законодатели, депутаты, сатирики, инсталляторы, галеристы, фотохудожники и режиссеры – защитники прав секс-меньшинств? Сама приверженность традиционным отношениям в наши дни – эталон моральной стойкости и свободомыслия из эпохи первых мучеников-христиан!
Так стоит ли всю ответственность за происходящее в стране возлагать на русскую женщину, тем более что она сама не снимает с себя такой ответственно- сти? Нинка растит своих детей, «ходит, как на праздник, на работу». Выполняет демографическую программу! Ювенальная юстиция и органы опеки претензий к ней не имеют. А вот если бы Нинка не купила холодильника и колбасы, то детей-то у нее «уполномоченные по правам ребенка» забрали бы в приют, отдали бы усыновителям из Голландии или Америки! Не стоит делать Нинку козлом отпущения только потому, что в Москве живут «празднично» и «первопрестольно», а в деревне – как «туземцы». Плохо живут «туземцы» – а куда же смотрит замечательный герой Львова, который, по горделивому признанию самого автора, «должен быть на свете молодцом»? Почему же он занял позицию стороннего наблюдателя, а не борца за справедливость и ограничивается тем, что с завистью подсматривает за Нинкиными «успехами»?
Одним словом, не получилось у В. Львова сделать Нинку аллегорией продажной российской власти. Рассказ о ней примитивен и отдает откровенной пошлостью: «У соседа конусом ширинка, / А у Нинки мячиком живот» [Там же, с. 177]. На стороне Нинки оказывается вся великая русская литература, которая в женщине видела хранительницу и спасительницу России.
Другая поэма в сборнике имеет патриотическое заглавие «За Родину» и представляет собой тверские вариации на тему знаменитого военного эпоса А. Твардовского о Василии Теркине. Одна из глав поэмы даже называется «Переправа» и предваряется эпиграфом из «Переправы» Твардовского. Читатель справедливо надеется, что автор предложит что-то новое, свое, хотя бы и «в духе» Твардовского. Но сделать это очень сложно, и, к сожалению, у В. Львова опять получается траве-стированное продолжение, выворачивание наизнанку классического произведения. Весь юмор опять вращается вокруг того, что находится ниже пояса.
Вспомним роман М. Шолохова «Они сражались за Родину». Там в тяжелейшей, горестной ситуации поражения и отступления солдаты тоже шутят на «домашние», «семейные» темы, но какое тонкое чувство меры у автора, который умеет и передать народную речь, и выразить народную душу, и не скатиться в болото пошлости! А Владимир Львов в поэме «За Родину» не только редуцировал шолоховское заглавие – он обеднил и сюжет, и нравственное содержание произведения: солдаты рубят деревья для наведения переправы через Волгу и при этом сравнивают на ощупь сосенки и осинки с женками и соседками, делятся друг с другом богатым мужским опытом, используя рискованные рифмы-намеки:
Бабы… это… не боятся,
А березы – топора… [Там же, с. 145].
В поэме В. Львова «За Родину» лес рубят – только юмористические щепки летят, и попадают эти неприятные щепки в душу читателю, саднят, как занозы:
– А моя, орлы, осинка,
Ну, точь-в-точь соседка Зинка –
Ух, податливая! / – Не чета соседке Фросе, /
Та податливей вдвойне? [Там же, с. 146].
В «чистоте нравственного чувства» русского солдата были убеждены и Лев Толстой, и Шолохов, и Твардовский. В поэме В. Львова вроде бы и есть намек на это чувство (сюжет о роженице на поле боя в главе «Знамение»), но он заглушается ёрническим спором двух солдат о том, у кого «портянки чище». Нарочитый натурализм этого диалога («под народ») усугубляется искусственным гиперболизмом обобщения: «Ни один солдат России / Этот случай не забыл» [Там же, с. 147]. Разве все солдаты воевали на Калининском фронте? Каждый ли побывал в бою на том пятачке под Кашином? Объявил ли об этом случае на весь Советский Союз по радио сам Левитан? Читаешь эти страницы, и остается впечатление утрированной народности, лубочного патриотизма, суррогата поэзии. В лучшем случае – школьной стенгазеты.
Подводя итог разговору о книге В. Львова, проведем одну параллель между его поэзией и поэзией Н. Капитанова на примере общего для обоих авторов мотива. В. Львов часто использует в своих стихах материнский завет «Веди себя…», обнажая суть высказывания путем усечения фразеологизма. В частности, поэт связывает эти слова прежде всего с отношениями подростков и уверяет, что его герой действительно «вел себя хорошо», и с девочкой они «целовались», но «не заблудились»:
Псалмы вековечной морали
Кузнечики пели в ушах,
Мы взрослую жизнь примеряли
В прибрежных хмельных камышах.
От нас еще не было толку,
Но было что складывать впрок, И мы прибирали на полку
Свой первый любовный урок [Там же, с. 112].
Назидательность, риторичность, прямолинейность авторской позиции идут в ущерб образной системе поэзии В. Львова. Автор вроде бы говорит о тех основах народной нравственности, которые были непреложными и впитывались ребенком и юношей не столько благодаря родительским наставлениям, сколько благодаря всему жизненному укладу народа. Но говорит поэт на странном языке, словно стесняется (будучи отнюдь не стеснительным, как мы видели выше) назвать вещи своими именами и потому прибегает к каким-то экивокам. Совершенно очевидно, что не «псалмы морали», не «прибранный на полку любовный урок»(?) и даже не материнские «два словечка» вели человека по жизни, а сама жизнь среди народа.
Поэтому Н. Капитанов, рисуя такую же сцену, что и В. Львов (любовное свидание), оказывается более органичен и естественен, так как уходит от намеков и иносказаний. Его стихи более выразительны и убедительны, потому что образны, а не дидактичны:
Помню лестницу, тот сеновал.
Звезды августа, крупные, яркие. Я к зазнобе всю ночь приставал И стремился в объятия жаркие.
– Все, пора уходить по домам! – Встала, платье тугое поправила. Ночь вдвоем, и судьба пополам – Это есть деревенское правило [1, с. 100].
Трудно вообразить, что имел в виду в своем стихотворении В. Львов, но картина, реалистично и достоверно нарисованная Н. Капитановым, живьем стоит перед глазами читателя. А нравственный вывод возникает сам собой, естественно и просто.
Надо сказать, что В. Львова читатели любят за его умение мастерски рисовать яркие образы и реалистические картины из народного быта. Но в книге «Веди себя» автор занял ошибочную позицию учителя жизни, который, подобно чеховскому «ученому соседу», с одной стороны, поучает читателя, иронизирует над ним, высмеивает его невежество, а с другой – явно подстраивается под читателя, потакает его дурному вкусу, заигрывает с ним и предлагает ему «низкие истины», высказанные эклектичным стилем, исковерканным русским языком, агрессивным просторечием.
Описанные изменения в творческой программе В. Львова следует оценивать как проявление постмодернистских тенденций.
Список литературы Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова
- Капитанов Н. У синего леса. Клин: Клинская типография, 2015. 196 с.
- Львов В. И. Веди себя: сборник новых стихотворений и поэм. Тверь: Тверская обл. типография, 2013. 192 с.
- Николаева С. Ю. «Когда минет злоба дня и настанет будущее…»: новые книги тверских поэтов и литературный процесс//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 68-81.
- Николаева С. Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г. Р. Державина до Ю. П. Кузнецова): монография. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2010. 252 с.
- Николаева С. Ю. Поэтическая книга как жанр в творчестве Георгия Степанченко//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 1. С. 88-95.
- Николаева С. Ю., Редькин В. А. Традиции А. А. Блока в поэзии Ю. П. Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 68-77.
- Редькин В. А. Наследие Ю. Кузнецова в творчестве тверских поэтов//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. № 1. С. 93-101.
- Редькин В. А. Онтологические проблемы в творчестве Сергея Есенина//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. № 14. С. 52-57.
- Редькин В. А. «Русская идея» Юрия Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 1. С. 48-68.
- Редькин В. А. Творческая индивидуальность тверской поэтессы Любови Гордеевой//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 3. С. 86-93.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т.: Т. 1-18: Сочинения; Т. 19-30: Письма. М.: Наука, 1974-1983.
- Юринов В. Попытка поэзии: стихи. Тверь: Седьмая буква, 2014. 160 с.