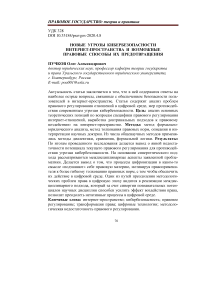Новые угрозы кибербезопасности интернет-пространства и возможные правовые способы их предотвращения
Автор: Пучков Олег Александрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Проблемы развития государства и права в условиях цифровизации
Статья в выпуске: 4-1 (62), 2020 года.
Бесплатный доступ
Актуальность статьи заключается в том, что в ней содержатся ответы на наиболее острые вопросы, связанные с обеспечением безопасности пользователей в интернет-пространстве. Статья содержит анализ проблем правового регулирования отношений в цифровой среде, мер противодействия современным угрозам кибербезопасности. Цель: анализ основных теоретических позиций по вопросам специфики правового регулирования интернет-отношений, выработка доктринальных подходов к правовому воздействию на интернет-пространство. Методы: метод формально-юридического анализа, метод толкования правовых норм, описания и интерпретации научных доктрин. Из числа общенаучных методов применялись методы диалектики, сравнения, формальной логики. Результаты: По итогам проведенного исследования делается вывод о явной недостаточности потенциала текущего правового регулирования для противодействия угрозам кибербезопасности. На основании синергетического подхода рассматриваются междисциплинарные аспекты заявленной проблематики. Делается вывод о том, что процессы цифровизации в каком-то смысле «подчиняют» себе правовую материю, мотивируя правоприменителя к более гибкому толкованию правовых норм, с тем чтобы обеспечить их действие в цифровой среде. Один из путей преодоления методологических проблем права в цифровую эпоху видится в реализации междисциплинарного подхода, который за счет синергии познавательных потенциалов научных дисциплин способен усилить эффект воздействия права, позволит преодолеть негативные процессы в цифровой среде.
Интернет-пространство, кибербезопасность, правовое регулирование, трансформация права, цифровые технологии, методологическая недостаточность правового регулирования
Короткий адрес: https://sciup.org/142234074
IDR: 142234074 | УДК: 328
Текст научной статьи Новые угрозы кибербезопасности интернет-пространства и возможные правовые способы их предотвращения
Юридический уровень среды Интернет – это постоянно отстающая правовая реальность. Связно это не только с новейшими технологиями в виртуальном мире, воздействие которых не успевает отследить и урегулировать законодатель, но и с просчетами законодателей, пытающихся выстроить систему правового регулирования отношений в виртуальном мире. Но виртуальный мир плохо ложится в прокрустово ложе правовых норм, так как он, хотя и не имеет меры в пространственном отношении, безмерен в плане киберкультуры, internet-культуры. Поэтому акцент следует делать на правовом регулировании деятельности появляющихся виртуальных сообществ с их новыми системами ценностей и притязаний, на новых угрозах безопасности интернет-пространства.
Современная цифровая действительность позволяет по-новому оценить политические, экономические, социальные, биологические и медицинские риски. Они настолько очевидны, что в настоящее время речь может идти об оцифровке самого права, когда виртуальная реальность так воздействует на право, что оно начинает регулировать то, что с реальной действительностью не соотносится и существует в отрыве от нее. Так, Е.П. Ищенко полагает, что технические новшества в виртуальном мире порой создают социальные проблемы, оказывающиеся «вне рамок любой из существующих ныне правовых систем» [1, с. 25]. В связи с этим, отмечает далее исследователь, происходит усложнение нормативной системы противодействия преступности, технологизация которой объективно опережает правотворческий процесс [1, с. 25].
Аналогичной точки зрения придерживается В.С. Овчинский. Он полагает, что на фоне драматического отставания юридической и политической системы государств от технического развития эффективность существующих институтов (в том числе правовых) объективно снижается в контексте тех сфер, которые традиционно не регулируются правом; речь идет, в частности, о правовом режиме искусственного интеллекта, достижений синтетической биологии и т. п. [2, с. 54].
П.У. Кузнецов считает, что законодатель только тогда сможет справиться с правовым регулированием виртуальной реальности, когда эмоциональные, идеологические и знаниевые представления об информационно-технологических и правовых явлениях не будут существовать в отрыве друг от друга, а проявятся как «когнитивно-синергийное соединение» [3, с. 176–177], в результате чего и пользователь виртуального мира, и законодатель будут пребывать в реалиях информационного уровня правосознания.
И.П. Малинова приходит к выводу, что в информационном пространстве законодатель сталкивается с необходимостью «моделирования последствий разрабатываемых … проектов» [4, с. 15], поскольку причинно-следственные отношения в сложных самоорганизующихся системах носят нелинейный характер: в них «факторы запланированного прямого воздействия, как правило, производят негативные побочные эффекты, стоящие дороже, чем поставленные цели» [4, с. 15].
С.В. Масленченко, анализируя социальные роли в субкультуре хакеров, приходит к выводу, что право не успевает уследить за трансформациями виртуального мира, приспособившегося поставлять человеку весь спектр ощущений, благодаря чему размывается грань между виртуальным и реальным мирами. Речь идет о современных технологиях виртуальной реальности, которые позволяют оцифровать движения человека, создать его виртуальную модель, которая, в свою очередь, опосредует «эффект механического присутствия человека в виртуальной среде» [5]. Наблюдается ситуация фактически полного включения человека в информационные потоки. Такие пограничные состояния менее всего исследованы правоведами.
В.Б. Нагродская полагает, что новые цифровые продукты (блок-чейн, смарт-контракты, криптовалюты, краудсорсинг и краудфандинг, кэш, токены, искусственный интеллект и др.) требуют формирования новых путей законодательного регулирования и при этом именно таких, которые позволят им находиться «на службе права» [6, с. 3].
Энтропийные процессы, нарастающие в цифровой среде без новых способов правового регулирования возникающих цифровых продуктов, объективно приводят к сдаче позиций законодателей и правоохранителей в этой среде. Так, В.Б. Вехов еще в 2010 г. отмечал серьезные недостатки работы правоохранителей, связанные с расследованием преступлений в сфере киберпространства. Автор утверждал, что с «определенной долей успеха расследуется лишь около 49 % преступлений. Обвинительные приговоры выносятся лишь в 25,5 % случаев от общего числа возбужденных уголовных дел. Средний показатель количества уголовных дел, по которым производство приостановлено, составляет 43,5 %» [7].
Современный законодатель в сфере цифровой среды ориентирован не на новые объекты регулирования права, которые должны находиться в состоянии непрерывного развития, а на глобальную задачу – «автономизацию российской части Интернета и передачу контроля над ним правительству» [8, с. 51]. Например, к началу 2019 г. в России планировалась разработка нормативно-правовой системы, концептуальную матрицу которой можно охарактеризовать как «цифровой суверенитет». Под цифровым суверенитетом предлагается понимать совокупность суверенных прав государства в части определения экономической, информационной и технологической политики в национальном интернет-сегменте. Кроме того, на 2020 г. запланировано внесение поправок и дополнений в федеральное административно-деликтное законодательство, касающееся ответственности должностных лиц за неиспользование сертифицированных средств шифрования при организации соединений по защищенным протоколам. Также в настоящее время осуществляется разработка стандартов безопасного информационного взаимодействия, внедрение которых планируется в подавляющем большинстве субъектов Федерации к 2025 г. [8, с. 51]. Но вряд ли попытка «одомашнить» Интернет обернется успехом без овладения новыми технологиями правотворчества. Также следует отметить, что такая попытка похожа на раздел того, что в принципе неделимо.
Пока же Россия движется к правовому регулированию цифрового пространства, устанавливая стратегические цели. Так, в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 1 перечислены основные угрозы в сфере информационной безопасности. В их числе наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях, использование различными террористическими и экстремистскими организациями механизмов «информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности и т. п. В п. 19 названной Доктрины констатируется самая главная угроза – отсутствие необходимого международно-правового регулирования межгосударственных отношений в информационно-телекоммуникационном пространстве.
Таким образом, круг стратегических вопросов постепенно расширяется и будет расширяться, пока юристы не овладеют новыми методами конструирования нормативно-правовых актов в цифровую эпоху. Стратегические цели, безусловно, важны, но, если не реагировать сразу на только что появившиеся новые угрозы в сфере безопасности в цифровой среде, они успеют нанести колоссальный ущерб безопасности государства и личности до того как станут очередной стратегической целью.
Итак, каковы же новые угрозы, продуцируемые цифровым миром?
На наш взгляд, так называемая «цифровая демократия» на самом деле политико-юридическая фикция, так как хотя она практически вполне оправдана, но тем не менее не имеет непосредственных аналогов в действительности. Интернет тотален по своей сути. Как известно, тотальность (целостность) выражает, прежде всего, самодостаточность, автономность. Такие объекты внутренне активны, для них характерна противопоставленность окружению и свои закономерности развития и функционирования. Безусловно, Интернет создан человеком, но, будучи созданным им, он интернировал в себя человека, наделив его универсальными способностями, чувствами, ощущениями. Попытки государств «подчинить» себе Интернет, адаптировать его к своим национальным интересам, безопасности и т. д. не могут увенчаться успехом. Это связано с тем, что цифровой мир – это «система, призванная коренным образом изменить все: государственное управление, бизнес, здравоохранение, медицину, науку, образование … и это – тотальный "контроль за всем и вся"» [8, с. 48].
В цифровой среде живет теперь цифровой человек, цифровая личность и цифровые граждане. Цифровой мир способен компенсировать им многое: отсутствие целей, ограниченные физические возможности, отсутствие статуса в обществе и т. д. В.В. Иванов и Г.Г. Малинецкий [9], В.С. Овчинский [2], В.М. Алиев [8] и многие другие исследователи определили эту новую реальность, в том числе и правовую реальность, и неэффективность правовых средств по ее регулированию.
В.М. Алиев утверждает, что в современной социокультурной ситуации контексты социального взаимодействия все больше смещаются в виртуальную сферу, в связи с чем фундаментальный интерес составляет уже не столько сам человек, сколько его цифровая проекция. В этой связи нельзя не вспомнить фразу из романа Е.И. Замятина «Мы»: «Самое мучительное – это заронить в человека сомнение в том, что он – реальность» [10, с. 71]. Следует констатировать, что реалии цифровой эпохи таковы, что следы деятельности человека в виртуальном пространстве так или иначе навсегда остаются в цифровой матрице, и в этом смысле виртуальный образ человека начинает замещать его самого. Ярким примером является технология «больших данных», представляющая собой имманентно самонаполняющийся массив информации о поведении пользователей сети Интернет и позволяющая на основании анализа этого поведения создать своего рода «социально-цифровой портрет» личности: ее увлечения, социальные связи, имущественные интересы, данные о сделках, иных юридических актах (в том числе и противоправного характера) и т. п. [8, с. 49].
Это уже сформировавшаяся закономерность цифрового мира, которая должна быть осмыслена законодателями.
Психологические основания подчинения, как это ни парадоксально, заложены в цифровом мире. Обратимся в этой связи опять к произведению Е.И. Замятина. Для обычных пользователей цифровой мир необъятен, непреодолим; они его в равной мере как боятся, так и любят: «боишься – потому что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе» [10, с. 43].
Возникает проблема размывания границ между реальным и виртуальным мирами. И здесь право не всегда справляется с необходимостью в нормативном порядке разграничить эти миры. Характерным примером является толкование ст. 135 УК РФ, данное Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16. В п. 17 данного постановления Пленум Верховного Суда РФ причислил к развратным действиям «и такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей» 1 .
Созданная субкультура цифрового мира, на которой основана вся медиаиндустрия, – это поиск новых способов (технологий) погружения человека в виртуальную реальность. Эффект физического присутствия человека в цифровой среде – результат этих технологий-имитаций. Проблема размывания этих границ, на наш взгляд, может усугубиться в связи с набирающей по всему миру ход тенденцией роботизации юридических процессов. В.Б. Нагродская на международной конференции «Skolkovo Legal Tech» систематизировала данные по роботизации юридических процессов. Сейчас представлено несколько проектов в этой сфере: PLATFORMA, «Симплоер», Flexbby и др. [6, с. 114].
Нет сомнения в том, что такая роботизация может принести пользу. Но речь идет о другом: в реальном мире уже предприняли попытки создания юристов-роботов, судей-роботов. В этом и усматривается опасность все большего размывания границ между реальным и виртуальным мирами. Вряд ли роботизация претензионно-исковой работы (26 % юридических департаментов к этому уже приступили), взаимодействия с контролирующими органами (11 из 84 % юридических департаментов уже роботизируют этот процесс) [6, с. 114] смогут заменить юриста.
Киберпространство – это особая сфера жизнедеятельности человека, в которой постоянно идет война. А война, как известно, оправдывает любые средства достижения цели цифровой личности, цифрового общества, цифрового государства. Н.В. Кардава, рассматривая киберпространство как новую политическую реальность, приходит к выводу, что в киберпространстве «кипят битвы, от исхода которых во многом зависит политический и экономический суверенитет государства» [11]. Автор полагает, что безопасность страны в этой связи заключается не в отключении обычных пользователей от Интернета и не в цензуре над ним, а в создании особых сетей для обмена информацией между наиболее важными политическими и экономическими акторами [11]. То есть, по сути дела, речь идет о создании локальной информационной сети, не связанной с Интернетом.
Наряду со многими другими недавно появившимися угрозами безопасности интернет-пространства есть и такие, на которые не отреагировали законодатели ни одной страны мира. Речь идет о компьютерных вирусах – убийцах человека. В компьютерных сетях зарождается новая жизнь – единственная форма жизни, созданная человеком. Появилось понятие «компьютерная вирусология», но оно не охватывает воздействия вирусов на здоровье человека. Право не готово реагировать на эту новую угрозу в связи со сложностью ее осознания, определения и прогнозирования развития, в очередной раз проявляя свою методологическую недостаточность. С. Хокинг называл компьютерные вирусы живыми, поскольку, как и другие живые существа, они способны к саморазвитию, совершенствованию и самовоспроизводству. Ученый справедливо полагал, что раз сейчас уже известны небелковые формы жизни, то почему же человечество сбрасывает со счетов те физические процессы, которые происходят в компьютерах и во Всемирной сети в целом. «Срываются ли со своих орбит электроны, взаимодействуют ли друг с другом электромагнитные поля? Не рождаются ли при этом какие-то неожиданные сигналы или команды?» [1, с. 79].
«Небелковые формы жизни имеют вид силовых полей, подпитывающихся энергией солнца, космических излучений или магнитного поля нашей планеты. Бестелесные, они обладают своим разумом, своей волей, своей логикой поведения. Об этом писал еще великий провидец Циолковский, а в конце прошлого века их зафиксировали, в том числе и с помощью приборов, ученые Италии, США, России, Канады» [1, с. 79].
Не все, что создается природой, враждебно человеку, но то, что компьютерный вирус создан самим человеком, и то, что его цель – разрушать, означает, что рано или поздно он найдет способ разрушить и самих операторов. Е.П. Ищенко, анализируя проблему компьютерных ви- русов, приходит к выводу, что вирус 666 – «это почти верх совершенства. В 666 байтах реализована не только система поражения, но и механизм размножения» [1, с. 80].
Автор задумался над методологически нерешенными вопросами: как нет четкого юридического понятия, что такое жизнь, так нет и четкого определения, что такое вирус, который постепенно балансирует между живой и неживой материей. Как вирус в биологии, являющийся мельчайшей внеклеточной частицей, размножаясь в живых клетках, использует их ферментативный аппарат и переключает клетку на синтез вирионов – зрелых вирусных частиц, так и компьютерный вирус, являясь бестелесной, на первый взгляд, программой, несомненно, рано или поздно обнаружит себя в особой телесности, абсолютно неизвестной человечеству, а потому неуправляемой.
На симпозиуме в Бостоне в 1994 г. С. Хокинг заявил, что компьютерные вирусы, хотя и не имеют обмена веществ, но делают то же самое – паразитируют на зараженном компьютере. Великий ученый полагал, что «компьютерные вирусы – это единственная созданная человеком форма жизни и служит исключительно для разрушения. К сожалению, мы создали жизнь по своему образу и подобию, это говорит об истинной природе человека» [12]. Хотя среди ученых нет однозначного мнения, что это новая форма жизни, тем не менее в Российской академии наук создан специальный отдел, занимающийся изучением этого явления.
Человеческий мозг непостижимым образом подготовлен к вторжению в него вредоносных компьютерных вирусов. Как это может происходить? Известно, что понятийный аппарат кодовой теории самоорганизации сложных систем «дает возможность исследовать нейрокодовое (церебральное) опосредование воздействия семикодовых (знаковых) текстов на натур-кодовые функционально-регулятивные программы человеческого организма и психики» [4, с. 14].
И.П. Малинова полагает, что проводниками такого рода синергий-ных взаимодействий являются спирит-коды. Хотя автор не раскрывает их содержания, мы полагаем, что это и есть особая бестелесная субстанция, существующая вне зависимости от телесной сущности мозга. Тем не менее основная функция спирит-кода – перенос. И здесь раскрывается множество вариантов того, что можно перенести.
Автор утверждает, что информационная мощность наполнения тех или иных кластеров в ментальном пространстве возрастает также «в зависимости от степени их спирит-кодовой заряженности, т. е. способности инспирировать автореферентные состояния сознания – удовольствие, от- вращение и другие, являющиеся модусами отношения индивида к поступающей информации» [4, с. 14–15].
Таким образом, в цифровом мире возможно любое воздействие технологий на сознание и физическое самочувствие человека. И человеческий мозг к этому готов. Это самое удобное вместилище для неизвестных науке вирусов, созданных в цифровом мире. Никто же не сможет отрицать тот факт, что существует виртуальная память, виртуальные перемещения и виртуальные частицы [13, с. 227]. Эта новая угроза способна перечеркнуть все наши знания о терроризме, войне и способах уничтожения противника. В этой войне противником выступит сразу все человечество.
Единственный путь преодоления методологической недостаточности права в цифровую эпоху – это та междисциплинарная синергия, которая возьмет от каждой сферы исследования самое нужное и усилит эффект воздействия этих нужных элементов, покажет их взаимодействие и возможности преодоления негативных процессов в цифровой среде. Именно синергия – совместное действие многих наук, даже, на первый взгляд, не имеющих к этому явлению непосредственного отношения, – способна создать новые методы в праве в современной цифровой среде. Активное взаимодействие с биологией, генетикой, физикой, медициной и другими областями знаний покажет, что в методологическом плане используют эти науки, как это возможно применить в праве и как, таким образом, право сможет регулировать новую правовую материю, которая далеко не всегда материальна. На наш взгляд, речь должна идти о новой сфере правового взаимодействия, которая существует и будет существовать на стыке виртуального и физического миров.
Список литературы Новые угрозы кибербезопасности интернет-пространства и возможные правовые способы их предотвращения
- Ищенко Е.П. Виртуальный криминал. М.: Проспект, 2014. 228 с.
- Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 351 с.
- Кузнецов П.У. Синергетические основания правового обеспечения информационных реалий // Синергетика и герменевтика в правоведении и социально-правовом регулировании: моногр. / под ред. А.Н. Кокотова, И.П. Малиновой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 166-183.
- Малинова И.П. Категория "синергия" в понятийном ряду юридической науки // Синергетика и герменевтика в правоведении и социально-правовом регулировании: моногр. / под ред. А.Н. Кокотова, И.П. Малиновой. М.: Норма: ИНФРА, 2020. С. 15-18.
- Масленченко С.В. Анализ социальных ролей в субкультуре хакеров // "Аналитика культурологии". Сетевое электронное научное издание. 2008. № 1 (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sotsialnyh-roley-v-subkulture-hakerov.