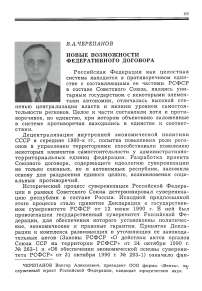Новые возможности федеративного договора
Автор: Черепанов Виктор Алексеевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 1-2 (42-43), 2003 года.
Бесплатный доступ
Проведен анализ развития Российской Федерации как целостной социальной системы, возникновения и разрешения социальных противоречий в федеративных отношениях, федеративного согласия как средства достижения согласия и разрешения противоречий между федеральным центром и регионами.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222057
IDR: 147222057
Текст научной статьи Новые возможности федеративного договора
Российская Федерация как целостная система находится в противоречивом единстве с составляющими ее частями. РСФСР в составе Советского Союза, являясь унитарным государством с некоторыми элементами автономии, отличалась высокой сте пенью централизации власти и низким уровнем самостоятельности регионов. Целое и части составляли хотя и противоречивое, но единство, при котором объективно заложенные в системе противоречия находились в единстве и соответствии.
Децентрализация внутренней экономической политики СССР в середине 1980-х гг., попытка повышения роли регионов в управлении территориями способствовали появлению некоторых элементов самостоятельности у административно-территориальных единиц федерации. Разработка проекта Союзного договора, содержащего идеологию суверенизации не только союзных, но и автономных республик, заложила основу для раздвоения единого целого, возникновения социальных противоречий.
Исторический процесс суверенизации Российской Федерации в рамках Советского Союза детерминировал суверенизацию республик в составе России. Исходной предпосылкой этого процесса стало принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. В ней был провозглашен государственный суверенитет Российской Федерации, для обеспечения которого установлены политические, экономические и правовые гарантии. Принятие Декларации и комплекса развивающих и уточняющих ее законодательных актов (Законы РСФСР «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР» от 24 октября 1990 г. № 263-1 и «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» от 31 октября 1990 г. № 293-1) означало фак-
ЧЕРЕПАНОВ Виктор Алексеевич, президент ООО фирмы «Вента», заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук.
тически выход России из правового пространства Советского Союза и провозглашение равного с союзным государством конституционно-правового статуса Российской Федерации. Данные нормативные акты, принятые в нарушение Конституции СССР (ст. 11, 73, 74, 76), оказали, на наш взгляд, определяющее влияние на суверенизацию республик, входящих в РСФСР Правовой нигилизм, продемонстрированный Российской Федерацией в отношении союзного государства, субъектом которого она являлась, нашел благодатную национальную почву в автономных республиках. Крылатое выражение Б.Н.Ельцина «берите суверенитета столько, сколько проглотите» стимулировало аналогичные действия ряда автономных республик в отношении Российской Федерации.
Большинство из них приняли декларации о государственном суверенитете, в которых объявили себя суверенными республиками, отказались от статуса автономий и заявили о своем желании быть участниками Союзного договора. Такие процессы, при которых «части единого государства действуют независимо от него, не считаясь с его интересами, законами, волей», по справедливому мнению Д.В.Доленко, «привели к переходу децентрализации в новое качественное состояние — дезинтеграцию» и возникновению феномена «убегающих» республик1. Для нахождения их в составе единой социальной системы самостоятельность национально-территориальных образований достигла критического размера.
В российской конституционной практике сложилось и получило развитие противоречие между государственным суверенитетом Российской Федерации и суверенитетом (суверенностью) составляющих ее субъектов.
В то же время края и области не имели даже автономного статуса и оставались административно-территориальными единицами унитарного государства. В связи с этим зрело их недовольство в отношении неравноправия с республиками, закладывались основы для возникновения еще одного противоречия, связанного с неравенством конституционно-правового статуса различных составляющих Российской Федерации.
Для разрешения сложившейся ситуации и избежания распада Российского государства необходимы были решительные и незамедлительные политико-правовые действия федерального центра. Они выразились в подготовке и подписании 31 марта 1992 г. Федеративного договора, который 10 апреля 1992 г. был одобрен Постановлением Съезда народных депутатов Российской Федерации и инкорпорирован в Конституцию 1978 г.
Роль и значение Федеративного договора оцениваются неоднозначно. Одни, отмечая «этнодискриминационный характер» Федеративного договора, рассматривают его как очередной этап дезинтеграции Российского государства, победу этнократической номенклатуры в борьбе за власть, ресурсы и собственность, которая вынудила федеральный центр пойти на подписание «своего» варианта Федеративного договора2 По мнению И.А.Умновой, Федеративный договор стал первым этапом федерализации России путем достижения согласия с субъектами федерации и существенно сблизил позиции центра и регионов. С его подписанием Россия и формально, и фактически из унитарного государства преобразовалась лишь в полуфедерацию (квазифедеративное государство). Автономные республики приобрели статус субъектов федерации, остальные участники договора «завоевали» статус автономных образований, получив ряд прав и гарантий, обеспечивающих автономию. Неравноправие территорий, закрепленное Федеративным договором, получило дальнейшее развитие в конституционной практике3. Такое понимание Федеративного договора представляется более обоснованным.
Достигнутый компромисс разрядил социальную напряженность в национально-территориальных образованиях и снял противоречие между государственным суверенитетом Российской Федерации и суверенитетом входящих в нее республик. В этом процессе «удерживается и синтезируется “положительное из отрицательного”», в результате чего в качественных изменениях возникают направленность, поступательнонеобратимое движение от старого к новому, обогащение развития»4 В качестве такого «положительного в отрицательном» можно выделить принцип ограниченного, или разделенного суверенитета республик в составе Российской Федерации, получивший также свое закрепление в Конституции 1978 г. Таким образом, Федеративный договор осуществил интеграцию республик в рамках федеративной системы, позволил приостановить развитие дезинтеграционных процессов, конституционно, причем с согласия самих субъектов федерации, ограничил их самостоятельность и тем самым удержал в составе Российской Федерации. Впервые в новейшей истории России согласие выступило основным инструментом укрепления социальной системы. В этом, пожалуй, заключается основное позитивное значение Федеративного договора.
Однако две республики (Татарстан и Чечня) не подписали Федеративный договор, их противоречия с федеральным цент- ром не нашли разрешения, а наоборот получили дальнейшее развитие. В отношениях с Чеченской Республикой оно достигло крайней фазы вооруженного конфликта и на долгие годы вывело эту территорию из правового поля России.
Договорами с краями, областями, городами федерального значения, автономной областью и автономными округами был закреплен их автономный статус и ряд обеспечивающих его прав и гарантий. Было осуществлено разграничение компетенций между ними и федеральным центром, предоставлена возможность самостоятельного правового регулирования, в том числе по предметам совместного ведения (для краев, областей, городов федерального значения установлено также право на опережающее правовое регулирование), заложены некоторые подходы к согласованию интересов федерации и регионов. Однако продолжала сохраняться значительная централизация государственной власти, характерная для унитарного государства. Руководители исполнительных органов краев и областей назначались Президентом Российской Федерации (а не избирались, как в республиках), их деятельность детально регламентировалась федеральным законодательством, осуществлялся жесткий контроль над региональным правотворчеством.
Автономный статус был значительно ниже республиканского по многим направлениям. 'Различное правовое положение республик и других территорий детерминировало развитие нового социального противоречия между федеральным центром, с одной стороны, краями и областями — по поводу неравноправия различных субъектов федерации, неравенства их конституционно-правового статуса, — с другой. Разрешив одно противоречие, Федеративный договор породил другое, которое привело к борьбе краев и областей за уравнивание в конституционных правах с республиками, вплоть до односторонней республиканизации (попытка создания Уральской Республики в октябре 1993 г.).
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., провозгласила принцип равноправия всех субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральным центром (ч. 4, ст. 5), в отличие от Федеративного договора закрепила равный объем их прав по предметам совместного ведения (ст. 72, 76), одинаковые возможности регионального правотворчества (ст. 76) и организации региональной государственной власти (ст. 77). Тем самым на формально-юридическом уровне было преодолено обострившееся противоречие по поводу неравноправия субъектов федерации. Часть норм Федеративного договора была инкорпорирована в текст новой Конституции, оставшиеся положения продолжали действовать в части, ей не противоречащей. Одновременно ч. 3 ст. 11 установила, что разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными органами власти осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами. Такие договоры получили значительное распространение в конституционной практике: за период с 1994 по 1998 гг. их подписали 46 субъектов Российской Федерации.
Ни Конституция РФ, ни федеральные законы не могут учесть всей специфики субъектов федерации, различающихся между собой по численности, национальному составу, социально-экономическому и геополитическому положению. Договоры как раз и позволяют учесть эти особенности и осуществить правовое регулирование федеративных отношений во всем многообразии регионов России, поэтому насущная необходимость в договорном процессе очевидна.
Договоры на практике доказали свои возможности в снятии социальной напряженности при обострении противоречий, перерастающих в политические конфликты между центром и территориями. Договор с Татарстаном 1994 г. при всей неоднозначности его оценок можно рассматривать как своеобразное «присоединение» республики к Федеративному договору.
Вместе с тем договорному процессу присуща внутренняя противоречивость по ряду вопросов конституционных норм. Активная суверенизация регионов неизбежно привела к тому, что различные субъекты приобрели различный объем прав в федеративных отношениях с центром. Вопреки конституционному принципу равноправия возникло фактическое неравенство субъектов Российской Федерации5.
В результате к середине 1999 г. доминирующее влияние приобрели процессы децентрализации, грозившие перерасти в дезинтеграцию федеративной системы. В целях предотвращения возможных негативных последствий были предприняты широкомасштабные меры по централизации государственной власти, укреплению Российской Федерации. Образованы семь федеральных округов, усилен федеральный контроль за исполнительной и законодательной властью субъектов федерации, создан институт федерального вмешательства, региональные законы приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Федеральным Законом «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ закреплены основные принципы разделения государственной власти в Российской Федерации, определена процедура и установлены жесткие пределы заключения договоров и соглашений субъектов с федерацией.
Однако в законе не удалось определить объем федерального регулирования по предметам совместного ведения. При их разграничении федеральный законодатель так глубоко и тщательно стремится регламентировать общественные отношения, что субъектам федерации ничего не остается. Федеральные законы по предметам совместного ведения нередко принимаются как законы по предметам исключительной компетенции федерации и не оставляют возможности субъектам Российской Федерации для дальнейшего регулирования с учетом национальных, геополитических, экономических и иных особенностей6.
В связи с этим, по мнению Д.Н.Козака, возникает необходимость «решения одной из непростых задач: какова степень, глубина федерального регулирования по тем или иным вопросам совместного ведения?»7. Комиссия по разграничению полномочий подготовила законопроект «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», который внесен в Государственную Думу Российской Федерации. В законопроекте закладываются основы разделения государственной власти по вертикали, выделяются полномочия, которые субъекты обязаны выполнять за счет средств своего бюджета и за исполнение которых несут ответственность перед населением. Остальные полномочия по предметам совместного ведения остаются за федеральным центром и могут передаваться субъектам федерации только с соответствующими финансовыми средствами. Федеральное правовое регулирование этих полномочий является рамочным: федеральные законы определяют общие принципы правового регулирования по этим вопросам. Детальное регулирование с учетом региональной специфики осуществляется субъектами РФ. ТКесткая «увязка» полномочий с обязанностями, ответственностью и финансовыми возможностями, предложенная в законопроекте, может стать эф- фективным механизмом разграничения властных полномочий на современном этапе развития российского федерализма.
Однако закрепляемые за субъектами полномочия затрагивают не все предметы совместного ведения, а только незначительную их часть. В нарушение ст. 72 и 76 Конституции РФ большинство предметов совместного ведения передаются в ведение Российской Федерации, что уменьшает объем полномочий регионов. Происходит дальнейшее усиление централизации государственной власти.
Усиление централизации государственной власти отчетливо проявляется и в решениях Конституционного суда Российской Федерации. Важнейшим для развития федеративных отношений стало Определение Конституционного Суда «По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия — Алания и Республики Татарстан» от 27 июня 2000 г. № 92-0, в котором отмечено, что Конституция Российской Федерации не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации, в силу Конституции РФ, исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета, даже ограниченного, ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что имеются достаточно весомые аргументы, позволяющие сомневаться в категоричности сделанных выводов7
Представляется, что принцип ограниченного суверенитета республик в составе Российской Федерации, закрепленный в Федеративном договоре как согласованная воля этих республик (для Татарстана и Чечни — закрепленный в их конституциях), является важным фактором, интегрирующим российскую федеративную систему, а не разрушающим ее.
Тенденция к централизации государственной власти не может быть беспредельной в федеративном государстве. Смягчая одно из противоречий по поводу неравноправия субъектов, она неизбежно обостряет другое, связанное с их самостоятельностью и суверенностью. Сотрудничество и кооперация, поиск согласия в отношении степени (меры) централизации и децентрализации в федеративной системе должнь!
стать другой общей тенденцией в развитии российского федерализма9. Представляется, что решение этой проблемы находится в сфере не законодательного, а договорного процесса, участниками которого являются все субъекты Российской Федерации.
Федеративный договор 1992 г. исчерпал себя как действующий источник конституционного права. Возможности же Федеративного договора как формы регулирования федеративных отношений, предусмотренной Основами конституционного строя Российской Федерации, достаточно широки. Назрела насущная необходимость в заключении нового Федеративного договора, который сформирует и закрепит общее согласие федерации и образующих ее субъектов по основам федеративного устройства Российского государства. При этом в пределах конституционно дозволенного могут быть урегулированы различные сферы общественных отношений, в первую очередь, принципы вертикального разграничения государственной власти в Российской Федерации. В новом Федеративном договоре представляется целесообразным осуществить систематизацию предметов совместного ведения отдельно для законодательной и исполнительной власти; закрепить принцип ограниченного суверенитета (суверенности) субъектов Российской Федерации, обозначить объем обеспечивающих прав и гарантий; определить глубину федерального проникновения законодательной и исполнительной власти по каждому предмету или группе предметов совместного ведения; конкретизировать сферу применения договоров субъектов с федерацией по предметам совместного ведения, скорректировать процедуру и порядок их принятия; пересмотреть порядок участия субъектов федерации в обсуждении и принятии федеральных законов по предметам совместного ведения; установить конституционно-правовую ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение Федеративного договора.
В этом документе могут быть также рассмотрены вопросы объединения субъектов федерации, изменения статуса сложносоставных субъектов, упорядочения системы и структуры территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и т.п.
Таким образом, наметившаяся в последние годы тенденция к централизации государственной власти должна быть уравновешена дополняющей ее тенденцией к достижению социального согласия в обществе. Заключение нового Федера- тивного договора между Российской Федерацией и образующими ее субъектами как раз и позволит в рамках существующей конституционной модели достичь общего согласия по важнейшим вопросам федеративного устройства, разрешить копившиеся годами социальные противоречия в федеративных отношениях, перейти на качественно иную стадию саморазвития федеративной системы, при которой центр и регионы находятся во взаимосогласованном единстве. Появляется уникальная возможность, при которой «общегосударственная воля» становится свободной волей российских земель.
Список литературы Новые возможности федеративного договора
- Доленко Д.В. Политико-территориальные процессы в постсоветском пространстве на рубеже веков // Регионология. 2001. 1. С. 51-53.
- Аринин А.Н. Проблемы развития российской государственности в конце XX в. // Федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 53-54
- Филиппов В.Р. Договорная федерация и эксклюзивная этничность // Федерализм. 2002. № 4. С. 192-193.
- Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 2000. С. 62-77.
- Материалистическая диалектика. Т. 1. Объективная диалектика. М., 1981. С. 341.