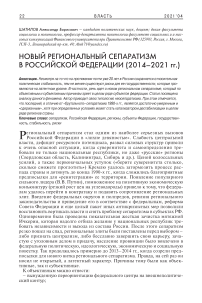Новый региональный сепаратизм в Российской Федерации (2014-2021 гг.)
Автор: Шатилов Александр Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на то, что на протяжении почти уже 20 лет в России сохраняется относительная политическая стабильность, тем не менее существуют риски для ее государственности, которые проявляются на латентном уровне. В частности, речь идет о новом региональном сепаратизме, который по объективным и субъективным причинам зреет в целом ряде субъектов федерации. Статья посвящена анализу данного феномена. Автор приводит свою типологию неосепаратизма. При этом отмечается, что последний, в отличие от «брутального» сепаратизма 1990-х гг., является достаточно умеренным и «сдержанным», хотя при определенных условиях может стать катализатором дестабилизации в целом ряде регионов страны.
Сепаратизм, российская федерация, регионы, субъекты федерации, государственность, стабильность, риски
Короткий адрес: https://sciup.org/170177342
IDR: 170177342 | DOI: 10.31171/vlast.v29i4.8369
Текст научной статьи Новый региональный сепаратизм в Российской Федерации (2014-2021 гг.)
Р егиональный сепаратизм стал одним из наиболее серьезных вызовов Российской Федерации в «лихие девяностые». Слабость центральной власти, дефицит ресурсного потенциала, развал силовых структур привели к очень опасной ситуации, когда суверенитета и самоопределения требовали не только национальные республики, но даже «русские» регионы (Свердловская область, Калининград, Сибирь и др.). Ценой колоссальных усилий, а также первоначальных уступок («берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить») Кремлю удалось затормозить процесс распада страны и дотянуть до конца 1990-х гг., когда сложились благоприятные предпосылки для «реинтеграции» ее территории. Появление популярного сильного лидера (В.В. Путин), помноженное на позитивную экономическую конъюнктуру (резкий рост цен на углеводороды) привело к тому, что федералам удалось перейти в контратаку и подавить сопротивление региональных элит. Введение федеральных округов и полпредов, ревизия регионального законодательства и приведение его в соответствие с федеральным, реформа Совета Федерации и еще целый пакет иных антикризисных мер позволили восстановить вертикаль власти и снять проблему сепаратизма в субъектах РФ. Одновременно была проведена показательная жесткая зачистка мятежной Ичкерии, которая надолго отбила желание у национальных республик требовать независимости и выхода из состава России. После этого сепаратизм резко пошел на спад, региональные элиты были поставлены перед выбором – либо признать централизм, либо бесславно завершить свою карьеру, зачастую с уголовным делом в придачу, население провинции было вовлечено в федеральную политическую, идеологическую, экономическую и социальную повестку. Так продолжалось примерно до 2013–2014 гг., когда созрели предпосылки для нового витка регионального сепаратизма. Правда, на сей раз он носил не открытый, а латентный характер. Причины тому были как объективные, так и субъективные.
К объективным можно отнести:
– вынужденную переориентацию федерального центра на внешнеполитический контур;
– диспропорции в социально-экономическом развитии страны в пользу столиц и мегаполисов;
– снижение вовлеченности большинства регионов в федеральную повестку дня;
– подрывные действия зарубежных спецслужб, а также институтов «мягкой силы».
Что же касается субъективных причин, то они видятся таким образом:
– подспудная, но весьма активная игра региональных элит против федерального центра;
– формирование у населения провинции ощущения «брошенности» и обиды на Кремль за недостаточное внимание к местным проблемам;
– постепенное распространение западных либеральных идей «многосостав-ности» и «полиидентичности»;
– создание и культивирование новых региональных квазисепаратистских мифов и образов.
В итоге, анализируя новый региональный сепаратизм в Российской Федерации периода 2014–2021 гг., можно выделить следующие типы: сепаратизм административно-политический, культурно-исторический и этнокультурный, этнорелигиозный, криминальный, автаркический.
Сепаратизм административно-политический связан с латентной игрой многих региональных элит против федерального центра. При этом такая игра ведется где-то с целью возврата себе ресурсов и полномочий, где-то с целью свалить ответственность за ухудшение жизни на региональном уровне на Москву. Особое распространение он получил после 2014 г. в условиях социально-экономического кризиса и «войны санкций»1. Стремясь избежать ответственности перед местным населением, региональное руководство через подконтрольные СМИ стремилось (и стремится) переложить вину за проблемы на центр, а достижения федерального происхождения (например, введение в школах бесплатных обедов2) приписать своему мудрому и эффективному управлению. И хотя федеральный центр пытается активно противодействовать такой двуличной политике регионалов (путем регулярной ротации кадров, назначения на губернаторские позиции федеральных чиновников и пр.), в целом ситуация существенно не меняется.
Сепаратизм этнокультурный и культурно-исторический наблюдается в тех субъектах РФ, которые в исторической ретроспективе так или иначе противопоставляли себя Москве или шире – Российскому государству. Причем он касается как национальных республик, так и собственно «русских» регионов. В частности, в республиках местные элиты для консолидации вокруг себя населения нередко обращаются к спорным, а иногда «подрывным» темам и мифам (вроде «русского разорения Казани»3 или «имперского геноцида народов в ходе кавказских войн»4). Такого рода акцентировки откровенно бьют по межнациональной стабильности в РФ, подпитывают национальные обиды и претензии, мешают выработке общероссийской идентичности.
Интересно, что идеи «самобытности» и региональной «особости» культивируются и в ряде «русских» областей. Так, например, в Калининградской обл. в местном истеблишменте сложилась и активно заявляет о себе «партия Кенигсберга»; в Твери до сих пор существует культ князя Михаила Тверского, «умученного от москвитян»; в целом ряде сибирских регионов имеют место неообластнические настроения под бело-зеленым флагом [Зайнутдинов 2012].
Еще более проблемной является ситуация в Республике Крым, где форсированная реинтеграция привела к тому, что серьезных кадровых чисток среди местной элиты не произошло, и многие управленческие позиции (в т.ч. ключевые) до сих пор занимают проукраинские и русофобские элементы1.
Подспудным сепаратизмом характеризуется также деятельность целого ряда казачьих организаций и структур в ряде субъектов РФ (особенно на Кубани и в Ростовской обл.). Это выражается в целом ряде моментов:
– в жестком противопоставлении казаков «иногородним»;
– требованиях признания особой казачьей национальности;
– требованиях широкого казачьего самоуправления;
– демонстративном культивировании специфических сторон казачьего быта и особого «казачьего языка»2;
– продвижении идей «Казакии» – сепаратистского проекта ряда казачьих лидеров времен Гражданской войны и эмиграции;
– попытках реабилитации казаков-коллаборационистов, во время Великой Отечественной войны примкнувших к гитлеровцам (атаман П.Н. Краснов, Г. фон Паннвиц, А.Г. Шкуро), а также в стремлении придать коллаборационистам образ мучеников (трагедия в Лиенце)3.
При этом надо отметить тот факт, что федеральные и региональные власти явно недооценивают казачий латентный сепаратизм. Более того, многие представители регионального руководства так или иначе включены в казачьи проекты, в т.ч. идеологически сомнительные. Чего стоит только инициатива Ростовстата (региональный орган Федеральной службы госстатистики), который создал словарь национальностей к переписи населения 2021 г. В нем более двух тысяч возможных вариантов ответов на вопрос о национальной принадлежности. Из них с использованием слова «казак» – тринадцать вариантов. В справочник включены словосочетания «донские казаки», «русские казаки», «православные казаки»4.
Этнорелигиозный сепаратизм в настоящий момент связан в основном с прозелитской и миссионерской деятельностью иностранных акторов на территории РФ. При этом если федеральной власти в целом удалось отвадить от российских регионов радикалов (ваххабитов, ИГИЛ5 и пр.), то ситуация с зарубежными представителями «мягкой силы» гораздо хуже. В частности, в настоящее время российское Поволжье активно осваивается различного рода зарубежными организациями светско-религиозного толка в диапазоне от пан-тюркистов до гюленовцев. При этом местные власти (например, в Татарстане)
[Диков 2016] обычно не только не чинят препятствия таким миссионерам, но даже весьма интенсивно с ними взаимодействуют, поощряя их «благотворительную» и «гуманитарную» деятельность1.
Определенный латентный сепаратистский потенциал таит в себе не до конца искорененный региональный криминалитет . В начале нулевых годов федеральная власть в целом сумела справиться с преступностью на местах. Некоторые ОПС и ОПГ были разгромлены («Общак» на Дальнем Востоке, «Слоны» в Рязани, тамбовские в Санкт-Петербурге, ореховские и измайловско-гольяновские в Москве), другие абсорбированы и де-факто легализованы в обмен на гарантии своей декриминализации («Уралмаш» в Свердловской области, солнцевские в Москве, быковцы в Красноярском крае). Тем не менее, как показала практика, зачастую региональная преступность не столько «перевоспиталась», сколько мимикрировала и затаилась в ожидании лучших времен. Однако с 2014 г. наблюдаются попытки консолидации оргпреступности, в т.ч. на региональном уровне. Это было связано, с одной стороны, с переориентацией федеральной власти на решение внешнеполитических проблем, с другой – с социально-экономическим кризисом, который больнее всего ударил по российской провинции. Кроме того, усугубляя ситуацию на местах, оргпреступность активно использует недовольство населения «высокомерием» и «эгоизмом» федералов (москвичей). При этом деятельность регионального криминалитета нередко приобретает политические формы. Так, в 2020 г. федеральная власть была вынуждена запретить функционирование неформального криминального движения АУЕ (расшифровывается как «Арестантское уголовное единство»), которое приобрело значительное распространение среди региональной молодежи2.
В ответ в 2020 г. оргпреступность попыталась дать власти политический бой. Воспользовавшись арестом губернатора Хабаровского края С.И. Фургала (в свое время имевшего отношение к ОПС «Общак»), местный криминалитет и аффилированная с ним часть местной элиты сумели спровоцировать массовые беспорядки, которые приобрели не только региональный, но федеральный и даже международный резонанс. В итоге ценой колоссальных усилий Москве с трудом удалось «заморозить» конфликт, но напряженность в ее отношениях с местной элитой осталась.
Активизация регионального криминалитета не осталась без внимания силовиков, которые провели ряд превентивных жестких мероприятий. Так, например, ими была осуществлена «зачистка» красноярского «авторитетного» предпринимателя Анатолия Быкова, который в 2000–2019 гг. вел интенсивную политическую деятельность в Красноярском крае (успешно участвовал в выборах в региональное Законодательное собрание, публично поддерживал избирательные блоки «Евразийский Союз» и «Патриоты России», направлял обращения с изложением «народных чаяний» В.В. Путину и т.д.). Итогом такой явно избыточной активности (особенно с учетом имевшегося на него у правоохранителей серьезного компромата) стало его задержание сотрудниками МВД и ФСБ России 5 мая 2020 г. по обвинению в совершении тяжких преступлений.
Очень своеобразным является автаркический сепаратизм , который связан с отдаленностью отдельных территорий и их внутренней консолидацией на основе местного патриотизма и культа «малой исторической Родины». Отчасти такие тенденции характерны для населения и элит Камчатки, Сахалина,
Дальнего Востока, которые воспринимают себя, с одной стороны, как особый пограничный форпост России, с другой – как особую общность, фактически отрезанную от Большой земли [Маркелова 2016]. Наиболее характерно данный вид латентного сепаратизма проявился в конфликте «Архангельская область vs Ненецкий автономный округ». В нулевых годах Москва неоднократно предпринимала усилия по объединению данных регионов, однако каждый раз натыкалась на единодушное сопротивление «северян» – руководства и населения НАО. Более того, на референдуме 1 июля 2020 г. НАО стал единственным субъектом РФ, который проголосовал против поправок в Конституцию, причем глава округа Юрий Бездудный открыто заявил, что такое протестное волеизъявление последовало в ответ на «интеграционные» инициативы центра1.
Подводя итоги обзора, следует сказать, что пока региональный сепаратизм в РФ носит латентный характер и не угрожает ее государственности. Однако такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока руководству страны удастся поддерживать относительную стабильность в политике и социально-экономической сфере. В случае же обострения (по тем или иным причинам) обстановки данный протосепаратизм может стать катализатором центробежных тенденций.
Список литературы Новый региональный сепаратизм в Российской Федерации (2014-2021 гг.)
- Диков А.Б. 2016. Региональное президентство и институты сепаратизма в тюркских республиках России: современный этап. - Вестник МГОУ. Сер. История и политические науки. № 4. С. 101-112
- Зайнутдинов А.Э. 2012. Цивилизационная идентичность Сибири: от областничества рубежа XIX-XX веков к современному сибирству. - Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 15. № 2. С. 81-97
- Маркелова А.А. 2016. Проблема регионального сепаратизма в современной России (на примере Сибири и Дальнего Востока) - Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе: материалы III Международной научно-практической интернет-конференции. Пермь: Изд-во ПГНИУ. С. 215-217