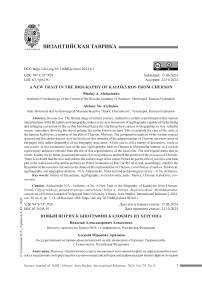Новый штрих к биографии Калокира из Херсона
Автор: Алексеенко Н.А., Аржанов А.Ю.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Византийская Таврика
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Ограниченность круга письменных источников на фоне их определенной изученности и различных интерпретаций в изучении византийской просопографии каждый новый сфрагистический памятник, способный дополнить и обогатить наши представления о тех или иных исторических личностях (уточнить их карьеры или биографии), ставит в разряд наиболее ценных источников, порой позволяющих существенно расширить известные ранее данные. К таковым, безусловно, относятся и печати известного херсонского аристократа Калокира.
История византии, сфрагистика, моливдовулы, печати, таврика, херсон, калокир, протевонты
Короткий адрес: https://sciup.org/149147553
IDR: 149147553 | УДК: 94“4/14”:929 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.1
Текст научной статьи Новый штрих к биографии Калокира из Херсона
DOI:
Введение. Изучение биографий отдельных лиц – далеко не новый метод в исторических исследованиях. К жизнеописанию тех или иных деятелей прошлого историки обращались еще со времен античности. В эпоху Средневековья к сагам и семейным хроникам добавились жития многочисленных святых и произведения религиозно-философского содержания. Как правило, это были истории героев, деяния правителей или описания духовных подвигов столпов веры. Не стали исключением в этом смысле и византийские писатели. Однако в их поле зрения значительно реже попадали «обычные» люди. Если известных государственных деятелей, важных придворных, высокопоставленных гражданских и военных функционеров на страницах хроник еще можно встретить достаточно часто, то сведения о представителях других классов византийского общества лишь отрывочны и мало информативны, не говоря уже о провинциальных чиновниках, о которых зачастую мало что известно. Нередко служебная карьера отдельных личностей становится доступной лишь благодаря памятникам сфрагистики.
Особое значение это приобретает тогда, когда круг письменных источников существенно ограничен, достаточно изучен и не- однократно интерпретирован. В таких случаях вновь выявленные страницы биографии или этапы служебной карьеры отдельных личностей порой способны значительно дополнить и обогатить наши представления о том или ином историческом персонаже. Тем более если речь идет о представителях провинциальной аристократии, которые зачастую обделены вниманием византийских хронистов и авторов нарративных произведений.
Все вышесказанное в полной мере относится к истории византийского Херсона. По письменным источникам, памятникам эпиграфики и сфрагистики известно несколько знатных семейств, представители которых в X–XI вв. имели непосредственное отношение к городским властям и фемной администрации византийского Херсона. К примеру, письменные источники называют нам Петрону Каматира [22, p. 182–184 (4225-55)], Иоанна Вогу (Вогаса) [24, n. 9, line 99–100] и Георгия Цулу [20, р. 464; 26, р. 354], а памятники эпиграфики – Льва Алиата [11]. Существенно дополняют сведения о представителях херсонского нобилитета данные памятников сфрагистики. В то же время случаи, когда находки печатей позволяют открывать отдельные страницы биографии некоторых упомянутых в письменных источниках лиц, непосредственно связанных с историей Херсона, достаточно редки. В X в. к таковым можно отнести лишь двух местных фигурантов. Во-первых, это упоминаемый кремонским епископом Лиут-прандом стратиг Керкиры патрикий Михаил Херсонит [13, с. 147, 148], три печати которого уже в статусе стратига Херсона [2, с. 257, 258, 264, № 2–3; 5, с. 343, 344, III.1.59.1–3] теперь известны не только в Херсоне, но и на Тамани [15, с. 90, 91, № 49; 16, с. 73]. Ну и, конечно же, патрикий Калокир, участник посольства Никифора II Фоки к русскому князю Святославу в 967 г., которого Скилица и Зонара называют сыном херсонского протевонта (...ἐκ Χερσῶνος πρωτεύοντος υἱòν...) [26, р. 27727–31; 27, р. 875]. Благодаря моливдовулам стали известны некоторые дополнительные сведения из его жизнедеятельности [4].
Методы. Основным методом нашего исследования является сравнительный анализ данных письменных источников и известных ранее данных памятников сфрагистики, имеющих отношение к этому представителю херсонских властей, которые в известной степени позволяют приоткрыть завесу таинственности с отдельных страниц его биографии, а также введение в научный оборот новой сфрагисти-ческой находки, уточняющей по крайней мере один из эпизодов его карьеры.
Анализ. Находка новой ранее неизвестной печати Калокира (раскопки 2021 г.) вновь возвращает нас к его жизненному пути, достаточно противоречивому, по свидетельствам византийских авторов, и до сих пор сохраняющему множество белых пятен и тумана. Напомним, что первоначально к рассматриваемому персонажу был отнесен лишь один из моливдовулов, происходящих с территории херсонесского городища, на котором владелец имел статус протевонта Херсона («первенствующего» из городских магистратов), неожиданно соседствовавший c переданным, к сожалению, в сокращении рангом византийского военачальника (стратилата) или наместника-администратора (стратига). Неполная сохранность буллы в то время не позволяла уверенно реконструировать имя ее владельца (Калокир!), да и первый статусный термин вызывал много вопросов [1, с. 166, 167, № 15; 3, с. 158; 5, с. 418, III.8.4.1; 18, р. 85; 19, р. 220, 221, nr. 137.1]. Впоследствии дублетный экземпляр той же пары матриц снял вопрос об имени собственника буллы и дал возможность сделать практически полную реконструкцию легенды: Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Καλοκύρῳ πατρικίῳ καὶ στρατ(ηγῷ) καὶ πρωτευόντι Χερσόνος [4, с. 296–300, № 1; 5, с. 419, III.8.4.2]. В отношении указанного на печати первым сокращенного термина (STRAT) отметим, что первоначально была выбрана точка зрения о возможности присутствия здесь ранга – стратилата [1, с. 166]. Однако в дальнейшем, с учетом специфически местной административной системы, которую наглядно иллюстрируют херсонские молив-довулы, наиболее очевидное решение было отдано в пользу стратига, хотя совмещение функций византийского наместника и муниципального протевонта в одном чиновнике – достаточно неожиданное явление [19, р. 220, 221, nr. 137.1; 4, с. 299]. В то же время отметим, что предложенный вариант реконструкции сокращения СТРА как должность стратига поддержал В.А. Сидоренко [14, с. 39]. Более того, здесь, очевидно, следует обратить внимание на замечание исследователя по поводу указанного в источниках статуса Калокира. По мнению ученого, «текст Скилицы был дополнен конъюнктурой “сын”», и «следовавший логике переписчик принял выступавший в значении местоимения член в генетиве, поставленный перед предлогом, за несвязанный в падеже ни с одним существительным, что и побудило согласовать с ним должность протевонта, логически дополнив фразу и восстановив аккузативный член перед именем», и «в оригинале у Скилицы могло быть вполне связное сообщение: τòν τοῦ ἐκ Χερσῶνος πρωτεύοντο<ς υἱòν τò>ν Καλοκυρòν – протевонта Калокира, самого из Херсона» (см.: [14, с. 39]). Следовательно, в хронике может повествоваться, собственно, не о сыне «первенствующего», а самом протевонте из Херсона, отправленном посланником на Русь. В этой связи, очевидно, можно вспомнить и высказанное в свое время предположение А.Л. Якобсона о том, что патрикий Калокир, «получивший важное дипломатическое поручение, был вместе с тем назначен на должность херсонского стратига» [17, с. 53]. Действительно, упомянутые выше печати, если наши реконструкции легенды верны, в какой-то мере могли бы свидетельствовать в пользу такого вывода, и остается только надеяться, что со временем появятся сведения, способные снять все дискуссионные вопросы.
Учитывая повышенный интерес к персоне Калокира, особое значение приобретает новая находка его моливдовула в Херсоне, дающего дополнительную информацию о его служебной карьере.
В ходе недавних раскопок в Южном пригороде Херсонеса, проводимых под руководством ИИМК РАН, была найдена печать с оригинальной легендой 1, которая в известной степени может подтверждать наблюдение В.А. Сидоренко. Археологический контекст находки – участок № 10, слой перемещенного грунта, содержащего как современные предметы, так и археологический материал, возможно, происходящий из отвалов ранних раскопок городища.
Н-24306. ГИАМЗ «Херсонес Таврический» (см. рисунок).
Диаметр – 23 мм; толщина заготовки – 3 мм; вес – 8,2 г.
Сохранность удовлетворительная; оттиск слегка смещен и частично выходит за край заготовки.
Аверс. В ободке из слившихся в линию жемчужин греческая надпись в четыре строки, украшенная внизу четырьмя (?) точками в ряд:
.0YKE Θ(εοτό)κε
.OHY0EI [β]οήθει
.TOSO τộ σộ
DOUL δούλ(ῳ)
Реверс. В ободке из слившихся в линию жемчужин греческая надпись в четыре строки, начинающаяся небольшим крестиком:
+KALO0K Καλοκ
0URA2SPA. ύρ(ῳ) (πρωτο)
TOPROTXE σπα[θ(αρίῳ)]
RSONOS τộ προτ(ευόντι) Χε ρσόνος
Как видим, по категории изображений новая булла также, как и известные ранее печати Калокира, относится к печатям билатериаль-ного (археографического) типа, то есть несет двухстороннюю надпись, однако указывает иной статус владельца. В эпиграфике данный экземпляр также имеет сокращения, но на этот раз достаточно традиционные, относительно уверенно поддающиеся реконструкции. В то же время легенда имеет весьма специфическую орфографию. Как видно из текста, мастер повторил одну и ту же подмену букв ( омикрон вместо омеги ) в трех последовательных словах. Однако нет оснований сомневаться, что присутствие омикрона в легенде печати – это либо обычная ошибка резчика матриц, либо традиционное, широко применяемое на практике в разных регионах империи замещение литер, отражающее классические вариации, которые возникли в результате процесса итацизма, сокращения долгих гласных, монофтонгизации дифтонгов, ассимиляции согласных и упрощения групп согласных [9, с. 98, 100]. Графемы

Печать Калокира из Херсона
Seal of Kalokyros from Cherson
омикрона и омеги, йоты и эты достаточно часто фиксируются и на моливдовулах (см., например, [6, с. 251; 7, с. 103, № 6] и др.), и в памятниках эпиграфики [8, с. 87–97].
Также думается, что нет оснований видеть и в сокращении TOPROT указание на родовое имя владельца. А тем более связывать его с клерикальной должностью протоса. Хотя в подобной орфографии и известен моливдовул из собрания Dumbarton Oaks (BZS.1958.106.212), владельцем которого являлся протос монастыря Папикиона 2. Присутствующее в конце легенды рассматриваемой печати имя Херсона вместе с наличием у владельца ранга прото-спафария абсолютно исключает возможность ее отнесения к церковным буллам.
Таким образом, судя по всему, здесь мы имеем дело с наиболее ранней печатью Калокира, датировка которой должна предшествовать тем буллам, где он уже был удостоен высокого звания патрикия. Ее легенда в правильной орфографии, очевидно, должна была выглядеть следующим образом: Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Καλοκύρῳ πρωτοσπαθαρίῳ τῷ πρωτεύοντι Χερσῶνος 3 – Богородица, помоги своему рабу Калокиру, протоспафарию и протевонту из Херсона.
Следует отметить, что именно статус протоспафария достаточно традиционен для херсонских чиновников, в том числе и первенствующих (протевонтов) Х столетия. Об этом красноречиво свидетельствуют их моливдо-вулы (cм.: [5, с. 414–423, № III.8.1–7]). И как мы помним, по сообщению источников, до дипломатической миссии к Святославу Калокир еще не имел высокого звания патрикия. Таким образом, новый экземпляр его буллы следует относить к периоду до 967 года. Датировку печати началом второй половины Х в. подтверждает один из датированных моливдовулов, принадлежавший Василию, проедру синклита и паракимомену «христолюбивого деспота» [25, p. 73, 74, nr. 69], которого Н. Икономидис отождествляет с одноименным евнухом и побочным сыном Романа I Лакапина, впервые возведенным Никифором II Фокой в ранг про-едра сената, и которому в источниках того периода неизменно сопутствует прилагательное ἐνδοξότατος (славнейший, величайший) [23, p. 49, 94; 26, р. 284; 21, p. 440–443 (Сap. 97)]. Его булла датирована 963–976 годами.
Примечательно, что на этом моливдовуле присутствует характерный декоративный элемент в оформлении изображений (ободок вокруг легенды в виде ряда крупных жемчужин между двух ободков из мелкой зерни), который присутствует не только на двух экземплярах печати патрикия Калокира, где он представлен как стра(тиг) и протевонт Херсона [5, с. 418, 419, № III.8.4.1–2], но и на некоторых печатях херсонских стратигов [5, с. 317, № III.1.37] и местных аристократов второй половины Х – рубежа X/XI вв. [19, p. 236, 237, nr. 157–158]. В пользу датировки новой печати Калокира началом второй половины Х в. свидетельствует и использованный шрифт легенды, который также очень близок шрифту памятников сфрагистики этого времени.
Выводы. Таким образом, сопоставляя свидетельства византийских хронистов о Калокире из Херсона и данные новой хер-сонесской находки, нам представляется возможность достаточно уверенно обозначить отрезок его карьеры, предшествовавший его дипломатической миссии на Русь.
Напомним лишь отдельные, имеющие к нашей истории непосредственное отношение, сведения. К примеру, Лев Дьякон в четвертой книге своей «Истории», сообщая о Калокире, не называет Калокира сыном протевонта и даже не указывает его херсонское происхождение ([23, p. 68]; пер.: [12, с. 36, 37]). Здесь мы не будем вдаваться в подробности соответствий и противоречий в сведениях Льва Дьякона, Скилицы или других авторов, это прекрасно показал в свое время П.О. Карышковский [10]. Заметим лишь то, что в комментариях важных для нас событий, описанных Львом Дьяконом, М.Я. Сюзюмов и С.А. Иванов отмечают, что «Лев в своем повествовании объединил два похода Святослава в один, так что, помимо прочих недоразумений, произошло смешение целей начальной и последующей деятельности Калокира» [12, с. 188, примеч. 8].
Из пятой главы Истории Льва Дьякона следует, что Калокир не только завязал дружбу и «соединился узами побратимства» с русским князем, но и склонял его выступить против ромеев ([23, p. 77–79]; пер.: [12, с. 43–45]).
Как известно, первый поход Святослава на болгар Скилица относит к концу лета 968 г.
(август 11 индикта), а второй – состоялся годом позже ([26, p. 277, 288]; ср.: [10, с. 138]), но еще при жизни Никифора II Фоки.
Мнение исследователей относительно Калокира далеко не однозначно, чему в первую очередь способствовал факт отсутствия сведений в источниках о его судьбе после походов Святослава. Очевидно, нет необходимости вдаваться в подробности придворных интриг, связанных с кончиной Никифора II Фоки и воцарением Иоанна I Цимисхия, а также говорить о той роли, которую мог играть патрикий Калокир в ходе этих событий. Библиография на эту тему достаточна обширна.
В нашем случае здесь наиболее важны главные, и что особо ценно, беспристрастные источники – памятники сфрагистики, фиксирующие реальное положение вещей современной им эпохи без каких-либо прикрас и фальши. Благодаря одному из них, введенному в научный оборот сегодня, не приходится сомневаться, что херсонский аристократ по имени Калокир, прибывший в столицу ко двору императора, согласно данных новой печати в ранге протоспафария, и занимавший в то время пост местного протевонта, а отнюдь не бывший сыном городского «первенствующего» магистрата, осенью 967 или ранней весной 968 г. удостаивается высокого придворного титула – патрикия, получает важное поручение василевса и отправляется с посольством на Русь. При этом не исключено, что вместе с рангом патрикия он мог получить и должность стратига Херсона. Или, по крайней мере, обрести ее в результате успешной дипломатической миссии после первого похода Святослава на болгар летом 968 года. Для ставленника и приверженца Никифора II Фоки, успешно выполнившего ответственное поручение императора, такое назначение вполне логично и, наверное, даже оправдано. Более того, известный по другой печати еще один высокий ранг Калокира – анфипат [4, с. 300, 301, № 2] так же мог быть связан с очередными наградами и почестями, последовавшими после увенчавшегося успехом посольства к Святославу. Вряд ли отложившийся от империи мятежник мог быть удостоен подобной привилегии. Комментаторы «Истории» Льва Дьякона справедливо отмечают, что известие византийского исто- рика о действиях Калокира против империи при поддержке войска Святослава могли произойти лишь после известия о смерти Никифора, поскольку при Иоанне Цимисхии он вряд ли мог рассчитывать на успехи в своей карьере [12, с. 188, примеч. 8]. Скорее, при новом василевсе его ожидала опала и соответствующее наказание за попытку при помощи русов поднять мятеж и захватить власть. Как представляется, своеобразной иллюстрацией этому как раз-таки и может служить молив-довул с титулом анфипата, на котором весьма вероятно отражен и соответствующий результат попавшего в немилость несостоявшегося мятежника – монашеский сан владельца. Если предполагаемая реконструкция легенды моливдовула верна (возможно, со временем будет открыта печать более лучшей сохранности, что позволит точно реконструировать текст надписи), то, не исключено, что после провала своих амбициозных планов и попыток захвата власти Калокир был вынужден принять постриг и так или иначе доживать свои дни в монашеской обители. Хотя память о своих высоких достижениях (анфипат и патрикий) он и предпочел сохранить на своих моливдовулах. В истории империи известно достаточное количество примеров, когда высокопоставленные особы, попав в опалу, если не попадали на эшафот, то подвергались жесточайшим пыткам и увечьям или же заканчивали свои дни в монастырях. Возможно, одним из таких примеров и оказалась судьба родовитого херсонита, патрикия Калокира. И кто знает, какие еще открытия и сюрпризы уготовлены нам в дальнейшем...
Список литературы Новый штрих к биографии Калокира из Херсона
- Alekseienko N.A. Novye nakhodki pechatey predstaviteley gorodskogo upravleniya Khersona [New Finds of Seals of Representatives of the City Administration of Cherson]. Materialypo arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria], 1996, vol. V, pp. 155-170, 539-540.
- Alekseienko N.A. Khersonskaya rodovaya znat X-XI vv. v pamyatnikakh sfragistiki [Cherson Patrimonial Nobility in the 10th - 11th Centuries in Monuments of Sigillography]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria], 2000, vol. VII, pp. 256-266.
- Alekseienko N.A. Protevony Chersona X v. po dannym pamyatnikov sfragistiki [Protevontes of Cherson in the 10th Century According to the Data of Monuments of Sigillography]. Antichnaya drevnost i srednie veka [Antiquity and the Middle Ages], 2001, vol. 32, pp. 154-162.
- Alekseienko N.A. Patrikiy Kalokir: etapy karery khersonskogo aristokrata [Patrice Kalokyros: The Career Stages of Cherson Aristocrat According to Sigillography]. Chersönos themata. Sbornik nauchnykh trudov [Chersonos themata. Collection of Scientific Works], vol. 01. Sevastopol, Arefev, 2013, pp. 293-312.
- Alekseienko N.A. Vizantiyskiy Kherson VI-XIII stoletiy v pamyatnikakh sfragistiki. 1. Chinovniki Khersona VIII-XI vv. [Byzantine Cherson of the 6th -13th cc. in the Monuments of Sigillography. 1. Officials of Cherson of the 8th - 11th cc.]. Sevastopol, Kolorit, 2017. 474 p. (Krym v istorii, kulture i ekonomike Rossii [Crimea in the History, Culture and Economy of Russia]).
- Alekseienko N.A. Molivdovul kommerkiariya Amisa iz vizantiyskogo Khersona [The Molybdoboullos of the kommerkiarios of Amisos in Byzantine Cherson]. Bosporskie issledovaniya [Bosporos Studies], 2018, vol. 36, pp. 248-257.
- Alekseienko N.A. Rannevizantiyskoe chinovnichestvo v Yugo-Zapadnoy Tavrike v svete sfragisticheskikh dannykh iz Khersona i ego okrugi [Early Byzantine Officials in the Southwestern Taurica According to the Seals from Cherson and Its Environ]. Vestnik Volgogradskogogosudarstvennogo universiteta. Seriya 4, Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History, Area Studies. International Relations], 2019, vol. 24, no. 6, pp. 95-110. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu4.2019.6.8
- Evdokimova A.A. Yazykovye osobennosti grecheskikh graffiti Sofii Kievskoy: dis.... kand. filol. nauk [Linguistic Features of Greek Graffiti of Saint Sophia Cathedral in Kyiv. Cand. philol. sci. diss.]. Saint Petersburg, 2008. URL: https://cloud.mail.ru/ public/yQda/5CESZixUR
- Evdokimova A.A. Lingvisticheskie i pa-leograficheskie osobennosti vizantiiyskikh monet s grecheskoy legendoy iz kollektsii Dumbarton Oaks [Linguistic and Palaeographic Features of the Byzantine Coins with Greek Legends from the Dumbarton Oaks Collection]. Alekseienko N.A., ed. PriPON-Tiyskii menyala: dengi mestnogo rynka: materialy VIII Mezhdunar. numizmat. simp. [Pontic MoneyChanger: Money of the Local Market. Proceedings of the 8th International Numismatic Symposium]. Simferopol, Arial Publ., 2021, pp. 97-102.
- Karyshkovskiy P.O. O khronologii russko-vi-zantiyskoy voyny pri Svyatoslave [On the Chronology of the Russian-Byzantine War Under Svyatoslav]. Vizantiiskii vremennik [Byzantina chronika], 1952, vol. 5, pp. 127-138.
- Latyshev V.V Etyudy po vizantiyskoy epi-grafike [Studies on Byzantine Epigraphy]. Vizantiiskii vremennik [Byzantina chronika], 1895, vol. 2, pp. 184188.
- Lev Diakon. Istoriya [History]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 239 p.
- Dyakonov I.V., ed. Liutprand Kremonskiy. Antapodosis. Kniga ob Ottone. Otchet o posolstve v Konstantinopol [Antapodosis. The Book of Otto. Report on the Embassy to Constantinople]. Moscow, "SPSL" - "Russkaya Panorama", 2006. 192 p.
- Sidorenko V.A. Litye Khersono-vizantiiskie monety IX-XII vv. [Cast Chersono-Byzantine Coins of the 9th - 12th Centuries]. Chersonos themata: Imperiya i polis. IVMezhdunarodnyy Vizantiyskiy Seminar. Tezisy dokladov i soobshcheniy [Chersonos themata: Empire and Polis. The 4th International Byzantine Seminar. Abstracts]. Sevastopol, s.n., 2012, pp. 37-43.
- Chkhaidze VN. Vizantiyskiepechati iz Tamani [Byzantine Seals from Taman]. Moscow, IA RAN, 2015. 201 p.
- Chkhaidze V.N. Kontakty Khersona i Tama-tarkhi po dannym sfragistiki i numizmatiki [Contacts of Cherson and Tamatarkha According to Sigillography and Numismatics]. VIIMezhdunarodnyy Vizantiyskiy Seminar «Chersonos themata: Imperiya i polis»: materialy nauch. konf. [The 7th International Byzantine Seminar "Chersonos themata: Empire and Polis". Proceedings of the Scientific Conference]. Sevastopol, s.n., 2015, pp. 73-75.
- Yakobson A.L. Rannesrednevekovyy Kher-sones [Early Medieval Chersonesos]. Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR [Materials and Research on Archaeology of the USSR]. Moscow, Izd-vo Akademii Nauk SSSR, 1959, vol. 63. 364 p., 17 il.
- Alekséenko N. Les prôteuontés de Kherson au Xe siècle. Studies in Byzantine Sigillography, 2002, vol. 7, pp. 79-86.
- Alekseyenko N. L'administration Byzantine de Cherson /Catalogue des sceaux. Paris, ACHCByz, 2012. 268 p.
- Bekkerus I., ed. Cedrenus Georgius. Historiar-um Compendium. Bonnae, Weber, 1839, vol. II. 638 p.
- Reiskius I.I., ed. Constantini Porphyrogeniti. De ceremoniis aulae byzantinae libri duo graece et latine. Bonnae, Weber, 1829, vol. I. LXII, 807 p.
- Moravcsik Gy., Jenkins J., eds. Constan-tine Porphirogenitus. De administrando imperio. Washington, Dumbarton Oaks, 1967. 341 p.
- Hasius C.B., ed. Leonis Diaconi Caloensis Historiae. Bonnae, Weber, 1828. XXXVI, 624 p.
- Jenkins R., Westerink L., eds. Nicholas I, Patriarch of Constantinople. Letters. Washington, Dumbarton Oaks, 1973. xxxvii, 631 p.
- Oikonomides N. A Collection of Dated Byzantine Lead Seals. Washington, Dumbarton Oaks, 1986. 175 p.
- Thurn I., ed. Scylitzes Ioannis. Synopsis His-toriarum. Berolini; Novi Eboraci, De Gruyter, 1973. LVI, 3, 580 p.
- Dindorfius L., ed. Zonaras Ioannes. Epitome Historiarum. Lipsiae, Teubner, 1871, vol. IV. VII, 388 p.