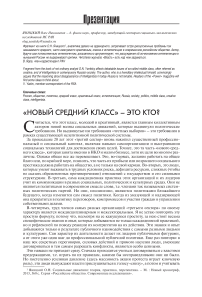"Новый средний класс" – это кто?
Автор: Яницкий Олег Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Презентация
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Фрагмент из книги О.Н. Яницкого[1], аналитика далеко не ординарного, затрагивает остро дискуссионные проблемы так называемого среднего, часто именуемого креативным, класса и интеллигенции в современном российском обществе. Автор, будучи сам потомственным интеллигентом, доказательно аргументирует, что рассуждения об исчезновении интеллигенции в нынешней России не выдерживают критики. Читателю журнала «Власть» есть над чем задуматься. В. Ядов, член-корреспондент РАН
Россия, общество, политика, средний класс, креативный класс, интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/170166776
IDR: 170166776
Текст научной статьи "Новый средний класс" – это кто?
«НОВЫЙ СРЕДНИЙ КЛАСС» - ЭТО КТО?
С читается, что этот класс, молодой и креативный, является главным коллективным актором новой волны социальных движений, которые выдвинули политические требования. Но выдвинутые им требования «честных выборов» — это требования в рамках существующей нелегитимной политической системы.
За прошедшие 20 лет этот «третий сектор» вновь накопил существенный профессио-нальный и социальный капитал, включая навыки самоорганизации и выстраивания социальных технологий для достижения своих целей. Точнее, это та часть «нового сред -него класса», которая занята именно в НКО и малом бизнесе, хотя их цели во многом раз -личны. Однако общее все же перевешивает. Это, во - первых, желание работать на общее благо или, по крайней мере, помнить, что часть их прибыли или возросшего социального престижа должна работать на общество, а не только на свой карман. Во - вторых, это люди, которые умеют выживать в трудных условиях риска, дефицита ресурсов, сложных (чтобы не сказать обремененных противоречиями) отношений с государством и его силовыми структурами. В - третьих, сама каждодневная практика этих организаций и их лидеров учит их коммуникации в разных социальных, политических и культурных средах. Они не являются политиками в современном смысле слова, т.е. членами так называемых систем -ных политических партий. Но они, несомненно, являются политиками ближайшего будущего, когда изменится сам смысл политики. Когда из указующей и надзирающей она превратится в политику переговоров, компромиссов и участия граждан в управлении собственными делами.
В -четвертых, труд членов самых разных организаций «третьего сектора» по своему характеру является междисциплинарным и межсекторальным. Я не устаю повторять эту простую формулу, потому что, несмотря на ее кажущуюся простоту, за нею стоят весьма специфические знания и опыт, которые добываются не только каждодневной практикой, но и рефлексией по поводу реакции их контрагентов на их действия. Эти знания и опыт добываются только в результате публичного взаимодействия с самыми разными людьми и культурами. Сам характер их деятельности делает их лидеров публичными фигурами, а от этого уже один шаг до профессиональной публичной политики. Еще раз повторю: в наш век секретных переговоров, силовых действий и прямого насилия люди, умеющие договариваться и тем самым разрешать конфликты, являются особо ценными.
Эти навыки не приходят сразу. Сначала приходится учиться договариваться с властями предержащими, т.е. играть по их правилам, какими бы несправедливыми они ни были. Но постепенно усиливая давление (здесь массовость акции протеста играет ключевую роль), эти люди вынуждают власти прислушиваться к голосу «снизу», а потом и учитывать их требования. Если меня бы спросили, кто является социальной базой политиче -ских реформ, я ответил бы, не колеблясь: именно эти самостоятельные и самоотвер -женные лидеры «третьего сектора».
Интеллигенция умерла?
Креативный класс или не креативный, а что же интеллигенция — исчезла совсем с политической арены? «Самым сильным ударом по будущему России, — пишет Л. Шевцова, — стал конец российской интеллигенции... Функция интеллигенции в России — как морального эталона и оппо-нента самодержавия — оказалась исчер -панной <...> российские интеллектуалы потеряли себя. Большинство из них так и не рискнуло стать антиподом новой персо налистской власти»1.
Начать с того, что власть моральная не может быть «антиподом» власти реаль ной. Что интеллигенция и интеллектуалы — не одно и то же. И «функция» русской интеллигенции никогда не сводилась к роли «антипода самодержавия», как, впрочем, и «думающего меньшинства». Наконец, разве «между» самодержавной властью и этим меньшинством не было думающих людей вообще? Далее Шевцова пишет: «Очередная ирония: до сих пор мы выживаем благодаря СССР». Но разве это «благодаря» не означает: благодаря уму и таланту советской интеллигенции?
Шевцова называет «Кущевку», «Сагру», «Кадырова», «Булгарию», «прокурор ские казино» и др. ключевыми маркерами процесса упадка. Но разве «Солдатские матери», «Матери Беслана», «Город без наркотиков», Байкальский и Химкинский синдромы не свидетельствуют о том, что российская интеллигенция существует и действует2? И это только то, что просочи -лось в СМИ. А сколько ученых, педагогов, учителей, врачей, инженеров имеют полное право назвать себя интеллигентами! Или г же Шевцовой милее разделение россиян на «думающее меньшинство» и «бездумное большинство»?
Мне же, потомку членов «Народной воли», эсеров, каторжников Шлис- сельбурга, да и самому еще в юности хлеб нувшему немало от сталинского режима («дело врачей») и его последышей, хорошо известно, что реально значит быть «анти подом» любой формы самодержавия.
А теперь — по порядку. Во - первых, роль русской интеллигенции никогда не своди лась к политическим целям. В массе своей это были, прежде всего, просветители и служилые люди, пекущиеся о благе народа. Да и в конце XIX в., и в XX в. был огром -ный слой служилой интеллигенции, начи ная от членов земского движения и до тех, кто восстанавливал русскую культуру после трех разорительных войн и сталинского террора. Известно ли г же Шевцовой, что выжившие после ссылки и каторги члены «Народной воли» шли работать в советские учреждения врачами, учителями, стати стиками? Служилая интеллигенция, на которой держалась и держится вся система науки, образования, здравоохранения и просвещения, и «интеллигенция, служа щая самовластию» — не одно и то же.
Во вторых, о «думающем меньшинстве». В той же статье Л. Шевцова признает, «что мы... так и не вышли за пределы чисто кри-тической функции, которая без проектного мышления оказывается всего лишь спосо бом выхода пара». О каких проектах идет речь? Политических проектов - то была масса, но кто их должен был выполнять? Кто бы захотел взять на себя эту непо сильную ношу? 20 лет назад я как раз был в среде подобных проектантов, но все их проекты были не более чем «норматив ными» упражнениями. Все писали о заси лье административно командной системы, но не было ни одного проекта, который показал бы, как ее сломать и кто это будет делать! Как известно, «гладко было на бумаге...».
В - третьих, «думающее меньшинство» было и будет всегда, но оно практически действенно при двух условиях: когда это единое «меньшинство» и когда его поли -тический или социальный проект будет поддержан тем думающим, но доселе мол чащим большинством, о котором г жа Шевцова предпочитает не упоминать. Я уже говорил, что в теории социальных дви жений существует такой важный термин, как constituency , т.е. социальная база под -держки проекта перемен.
В - четвертых, мир изменился. Разве серия переворотов и революций, про катившаяся по Северной Африке, была задумана и спроектирована «думающим меньшинством» этих столь разных стран? Или она была спроектирована какими-то спецслужбами извне? Или это был прорвавшийся гнойник покорности огромного большинства «думающих-по-другому»? И на какой политической платформе «думающее меньшинство» (если оно там действительно было) должно будет соединиться со столь пестрым по типу хозяйственного уклада, религии, образа жизни и т.п. большинством?
В-пятых, русская интеллигенция всегда была создателем и носителем какой-то идеологии: западничества, славянофильства, конституционной монархии, социалистической, коммунистической и т.д. Я намеренно ставлю их в один ряд, потому что без приверженности какой-то идеологической доктрине русская интеллигенция не могла бы называться таковой. Пока у властей предержащих с идеологией дело обстоит из рук вон плохо.
А что теперь, когда политические партии, эти носители идеологии, фактически отмирают? Когда СМИ правят миром? Когда ООН и другие наднациональные структуры фактически утеряли как свой моральный авторитет, так и силу принуждения? Когда мир управляется несколькими десятками гигантских транснациональных корпораций? И одновременно он пронизан информационными сетями, где в конкурирующих сетевых сообществах варится Бог знает какая идеологическая каша? Когда нормы морали все чаще детерминируются экологическими и техногенными катастрофами? Когда, наконец, евро-атлантическая цивилизация пронизана и умеренным, и радикальным исламизмом? Какую позицию должна занять не только русская интеллигенция, но интеллигенция мира вообще?
Мировой капитализм, включая российский, очевидно, переживает глубокий кризис, и, по моему мнению, грядет конец жизни в кредит и потребительской идеологии вообще. Если мы не хотим (не способны) ограничить себя сами, то среда нашей жизни заставит нас сделать это. Не пора ли подумать о стабилизирующей (но отнюдь не нивелирующей) роли глобальных сетей «разумного меньшинства» в этом качающемся мире, где волны протеста накатываются одна за другой?
Предварительные итоги
То, что происходило в течение последних
20 лет и в т.ч. в течение последнего полугодия, подтверждает концепцию регрессивной цикличности российского общества1. То есть, наличия малых и больших циклов. А именно: рывка демократизации/модер-низации, медленного и болезненного отката – и снова рывка.
Мягкий авторитаризм, опирающийся на ресурсную экономику, – основа стабильности политической системы. Исторически то, произошло в последнее время, – это откат к изоляционизму и культурной архаике. Но не к временам сталинизма, а еще дальше – к временам конца XIX в. Отличие в том, что если сталинизм форсировал индустриализацию как залог независимости СССР, то сегодня мы увеличиваем свою зависимость от мира по всем направлениям.
Более того, мы находимся в планетарной ловушке: по сути, социальная стабильность в обществе поддерживается за счет экономической нестабильности, основой которой является непредсказуемость рынка углеводородов. Следующая волна нестабильности, скорее всего, будет связана со вступлением России в ВТО.
Экономический кризис, как правило, ведет к укреплению национального государства и его политических институтов. Изоляционизм, больший или меньший, рассматривается государствами и/или их национальными анклавами как средство избежать и/или преодолеть кризис (Греция, Великобритания, Фландрия, Каталония, Россия).
Несколько выводов социальнополитического характера. Данный политический кризис выявил глубокое размежевание в российском обществе: между богатыми и бедными, центром и периферией, экономически и социально активной частью населения и «бюджетниками», «ТВ-народом» и «сетевым сообществом». Обобщая, это можно квалифицировать как противостояние меньшинства модернизаторов и большинства консерваторов, охранителей. Костяк первого – это либеральная интеллигенция, профессура, ученые, студенты, нарождающийся средний класс. Костяк второго – это ВПК, нефтегазовый и агропромышленный комплексы, армия2. Мотивы у богатых и бедных консерваторов могут быть разными, но в моменты кризи-сов они объединяются по принципу наи -меньшего риска («не было бы хуже!»). С этой точки зрения понятие «властной вер -тикали» не соответствует действительно -сти. Скорее, мы имеем дело с социальной пирамидой, всецело зависимой от тандема власти — собственности.
Разделение общества на «обывателей» и социально активных методологически ошибочно: в зависимости от социально -политического контекста они переходят друг в друга. Искейп, уход из поля соци-альной коммуникации в себя, наконец, молчание — это не «обывательщина», а способ сохранения своего внутреннего мира, способ сохранения себя как лично сти в катастрофических обстоятельствах1. Противопоставление властвующей элиты и толпы, массы, интеллигенции и народа, «активных» и «обывателей» лишь усили вает идеологию нетерпимости в обществе и тем самым разрушает его культуру.
Акции массового протеста создали сети гражданских лидеров. Но для изменения политической системы такой сети недо статочно — нужна сеть профессиональ-ных политиков. Или, что, с моей точки зрения, то же самое, нужна новая поли тическая элита. В эти сети гражданского протеста не вошли лидеры и активисты большинства существующих социальных движений (экологического, женского, благотворительного, краеведения, сохра нения памятников природы и культуры). Общественная палата как квазиграждан -ская организация также устранилась от политической борьбы. Эти факты под -тверждают мой тезис о различии социаль ных движений и некоммерческих орга низаций и их сетей. НКО тоже живут по принципу «не было бы хуже».
В тонком слое интеллигенции также произошло размежевание: на все сокра щающийся слой демократически ориенти -рованного меньшинства и на охранительно ориентированное большинство, по сути превратившееся в часть сервис класса. Это размежевание усиливается с появле нием на публичной арене когорты моло дой рыночно ориентированной «образо ванщины» (А. Солженицын), смотрящей в рот мэтрам политически ангажированной части интеллигенции.
Теперь — о современности. За последние 20 лет в России произошли существен -ные изменения, которые пока очень мало изучаются нашими социологами. И главное из них — формирование сетевого гражданского общества, причем не про сто виртуального, но вполне заземленного в сотнях точек локальных конфликтов. Тусоваться в сетях — одно дело, а исполь-зовать сеть как инструмент самооргани зации и демократизации — совсем другое. С таким обществом вынуждена считаться наша «суверенная демократия». Это стало очевидным после лесных и торфяных пожаров 2010 г., когда сетевая мобили -зация ответственных и неравнодушных (называя их добровольцами, или волонте рами, власть, как всегда, старается уйти от морально этических дефиниций) спасла не одну тысячу жизней. Поскольку капи тализм стал глобальным, у граждан нет иного способа защищать свои интересы, как стать частью глобальной сети.
На Западе над этой трансформацией социальные науки уже напряженно рабо тают почти 10 лет2. Но у нас — тишина. За 20 лет по проблеме социальных движений в России вышло не более десятка работ. Частично потому, что эта проблематика официально не признана, ее нет, напри мер, в паспорте специальности 02.00.04 «Социальные структуры и процессы» очень редко читаются спецкурсы по этой теме. Не было соответствующих секций и в программах съездов российских социоло гов. Но суть, конечно, не в этом, а именно в том, что наши социологи и политологи, как демократы, так и консерваторы, не считают нужным изучать, как демократия «произрастает снизу» (аналог grassroots ), невзирая ни на какие «вертикали».
После думских и президентских выбо -ров российское общество находится на новой развилке: реформы или контрре-формы? Однако, думаю, инерционность нынешней политической системы столь высока, что резких перемен ожидать не стоит. Так или иначе, это тоже предмет для обсуждения.
Расширеный вариант фрагмента книги О.Н. Яниц-кого смотрите на сайте журнала.