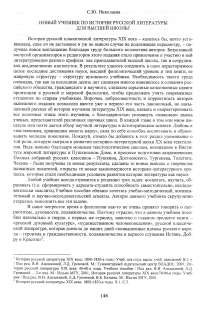Новый учебник по истории русской литературы для высшей школы
Автор: Николаева С.Ю.
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Рецензии
Статья в выпуске: 1, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120381
IDR: 146120381
Текст статьи Новый учебник по истории русской литературы для высшей школы
НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ*
История русской классической литературы XIX века - казалось бы, нечто устоявшееся, едва ли не застывшее и уж во всяком случае не подлежащее пересмотру, - получила новое воплощение благодаря труду большого коллектива авторов. Безусловной заслугой организаторов и редакторов этого издания стало привлечение к участию в ней литературоведов разного профиля: как преподавателей высшей школы, так и сотрудников академических институтов. В результате удалось соединить в одно нерасторжимое целое последние достижения науки, высший филологический уровень и тип книги, ее жанровую структуру - структуру вузовского учебника. Необходимость такого труда очевидна, так как за последние десять лет слишком многое изменилось в сознании российского общества, гражданского и научного, слишком серьезные качественные сдвиги произошли в русской и мировой филологии, чтобы продолжать учить современных студентов по старым учебникам. Впрочем, добросовестность и корректность авторов нынешнего издания позволили ввести уже в первую его часть лаконичный, но насыщенный рассказ об истории изучения литературы XIX века, назвать и охарактеризовать все основные этапы этого изучения, с благодарностью упомянуть «знаковые» имена ученых, представителей различных научных школ. В каждой главе о том или ином писателе или поэте дается обзор научной литературы в истоторическом аспекте. Любовь к «наставникам, хранившим юность нашу», сама по себе способна воспитывать и образовывать молодое поколение. Пожалуй, стоило бы добавить в этот раздел упоминание о той роли, которую сыграла в развитии историко-литературной науки XX века текстология. Ведь именно благодаря мощным текстологическим школам, возникшим в Институте мировой литературы и Пушкинском Доме, в процессе подготовки академических Полных собраний русских классиков - Пушкина, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова - были получены те новые результаты, сделаны те новые выводы о творчестве названных писателей, открыты те новые закономерности историко-литературного процесса, которые стали необходимым условием развития истории литературы как науки.
Любой учебник всегда стремится к решению трех задач: воспитать, научить, образовать (т.е. сформировать у адресата-студента способность самостоятельно, исследовательски мыс лить).Учебное пособие обязано сочетать учебно-методический, воспитательный и научно-исследовательский аспекты. Авторы данного учебника скрупулезно старались выполнить все эти задачи.
В наше непростое время в филологии как-то не очень принято говорить о патриотизме, духовности, подвижничестве. Поэтому отрадно, что в данном учебном пособии изначально и твердо, с первых же страниц, заявлено о главном предмете книги -«русской духовной культуре», «художественном человековедении», русской классической литературе, которая донесла до наших дней «возвышенные идеалы русского народа - героизма и гражданственности, подвижничества и верного служения Истине, Добру и Красоте»2.
Главное достоинство рецензируемого учебника с точки зрения учебнометодической - это неуклонное следование принципу историзма в самом широком плане. Особенно уместным этот принцип оказывается в традиционно трудном разделе о периодизации литературного процесса. В абсолютно точных формулировках здесь дается представление о разных подходах к этой проблеме, о разных принципах периодизации (персональном, хронологическом, «по направлениям») и их вариантах, возникавших на разных этапах развития литературной критики и филологической науки. Но самое существенное - то, что принципы и подходы эти осознаются как исторически подвижные, зависящие от характера литературно-исторической эпохи. Авторы подчеркивают дискуссионность данной проблемы и точно направляют мысль читателя: «Цель периодизации - не создание жесткой схемы, а обозначение ряда главных ориентиров на каждом этапе литературного движения»3.
Важнейшую учебно-методическую роль играют такие структурные составляющие учебника, как обширная библиография в каждом разделе, учитывающая новейшие, в том числе зарубежные, публикации; наличие именных указателей (к сожалению, именной указатель отсутствует в первой части, и это единственное, что несколько нарушает целостность издания); обширные синхронистические таблицы, отличающиеся полнотой привлекаемого материала и позволяющие соотнести литературный процесс с ходом русской и мировой истории, с развитием критики, публицистики, журналистики, эстетики, музыки, живописи, архитектуры, скульптуры. Обращаясь к этим таблицам, студент видит все многообразие и многосложность культурной и общественной жизни, он понимает, что славянофилы и западники, либералы и консерваторы, «Русская беседа» и «Современник», «Ясная поляна» и «Эпоха», «Полярная звезда» и «Атеней» - все это звенья одной цепи, которые невозможно оторвать друг от друга, несмотря на существующие различия между ними. Составители таблиц знакомят читателей с яркими публикациями в журналах, выдающимися явлениями русской культуры, рассказ о которых невозможно было поместить в основной текст книги из-за ограниченности объема.
Функцию расширения объема изучаемого материала выполняет, наряду с синхронистическими таблицами, и система заданий для самостоятельной работы студентов. Темы и вопросы сформулированы так, чтобы развернуть или дополнить, а подчас и ввести новые, не затронутые в главах, но актуальные для той или иной отрасли науки (пушкиноведения, некрасоведения, чеховедения и др.) проблемы.
Ценное качество издания, состоящего из трех частей и четырех томов, - это его структурное и идейное единство, соразмерность частей и глав. Участники издания -ученые разных школ, вкусов, стилей, но они остаются единомышленниками в широком смысле слова, у них есть «чувство локтя», они умеют, сохраняя индивидуальность, соотнести свою позицию с позициями других и с общей концепцией учебника. Книга превращается в коллективную монографию. Особенно это заметно при объяснении сложных, не до конца решенных вопросов науки.
Например, в главе о жанре «Мертвых душ» Гоголя говорится об уникальности художественной природы этого шедевра, но эпитет «уникальный» не остается только оценочным - он наполнятся конкретным литературоведческим содержанием: автор вводит информацию о гоголевских определениях романа и эпопеи в «Учебной книге словесности для русского юношества», уточняет жанровые признаки «Мертвых душ» и делает вывод о синтезе различных художественных и жанровых традиций как основе великой «поэмы»4. В этом фрагменте учебника нет отсылки к статье Л. Толстого «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», но глубинная связь «гоголевской» и
«толстовской» глав ощущается: ученые в равной мере тщательно и любовно стараются выявить суть замыслов Гоголя и Толстого5, не подчиняя эту суть новейшим терминологическим изыскам (например, определению жанра «Войны и мира» как «книги»), но соотнося авторские эстетические искания с современными литературоведческими представлениями.
Удивительно и в то же время знаменательно, что крупнейшие исследователи, представители «высокой» науки, не превращают творчество «своих» художников слова в мертвый материал для препарирования, как это часто бывает, но умеют передать читателю свое восхищение, заразить его своей любовью и научить понимать человеческую сущность гения. Просты и потрясающи слова о «потребности любви» как основе жизни и творчества Льва Толстого6, о том, что Гоголь «горячо верил в способность человека “быть лучше” и особые надежды возлагал на русского человека»7, о том, что Некрасов не «некрасив», но «прекрасен», а масштаб его эпического видения - «от седой былинной древности до мерцающего в будущем золотого века России»8, о том, что Чехов в своей последней пьесе «зафиксировал то состояние русского общества, когда от всеобщего разъединения... до окончательного распада и всеобщей вражды оставался лишь один шаг»9. Можно усомниться в том, что Чехов показывал, будто «никто не знает настоящей правды», «разбивал иллюзии», «не давал ни на чем успокоиться», «ни в чем найти утешение»10. Но нет сомнений в том, что те, кто писал эти слова, глубоко знают, любят и могут раскрыть тот литературный феномен, изучению которого посвятили свою жизнь.
В учебнике высказано множество свежих идей, снят пласт политико-идеологических шаблонов, исключено прямолинейное социологизирование при всем внимании к историческим и общественным явлениям. Например, неожиданно, но верно звучит мысль о том, что ленинская концепция творчества Л. Толстого как «зеркала русской революции» выявила не столько противоречия великого художника, сколько противоречия самой революции и предопределила противоречивость литературоведческих трактовок толстовского наследия, все крайности и «перегибы» некоторых построений толстоведов11. Главы об Островском, Некрасове, Чернышевском и многих других рисуют новые портреты этих художников, демонстрируют глубину, сложность и неоднозначность их мировоззренческих установок, заставляют понять неоднозначность их творческих решений и отказаться от упрощенного восприятия Островского как обличителя купеческого самодурства, Некрасова как апологета Гриши Добросклонова, Чернышевского как «политического» писателя.
Признавая, что весь XIX век прошел под знаком «народности и патриотизма»12 и поэтому в прежних историях литературы доминировала «мысль народная», не отрицая плодотворности такого подхода, авторы учебника вместе с тем корректируют его и вводят в структуру книги «мысль семейную». В частности, удачей следует считать главу о семействе Аксаковых - к сожалению, этот опыт характеристики родового литературного «гнезда» остался единичным, хотя и репрезентативным, т.е. ярко свидетельствующим о том огромном значении, которое имели в русской культуре семейные традиции, литературные салоны и кружки.
Следует отметить такие интересные и новые, необычные для вузовского учебника разделы, как раздел о читателях эпохи первой четверти XIX века и о книгоиздательской деятельности А.Ф. Смирдина, о сложившихся к 1880-1890-м годам литературоведческих школах, об авторах, ранее не включавшихся в историю литературы XIX века (К.К. Романов, В.В. Розанов).
Наконец, нельзя не сказать о великолепном, на уровне изучаемых писателей и поэтов, языке и стиле, которым написаны все без исключения главы учебника. Язык -душа народа и человека, принадлежащего к этому народу. Язык и душа нового учебника прекрасны и потому необходимы для современного студенчества.