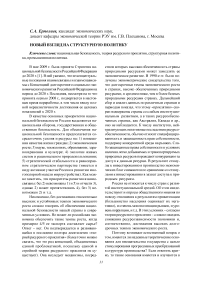Новый взгляд на структурную политику
Автор: Ермолаев С.А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 1 (24), 2012 года.
Бесплатный доступ
Достижение целей, заданных в Стратегии национальной безопасности РФ, невозможно без преодоления чрезмерной ресурсозависимости российской экономики. В статье структурная политика рассматривается как необходимый инструмент для решения данной задачи, анализируются теоретические аргументы для ее проведения в рыночной экономике. Сравниваются «широкий» и «узкий» подходы к структурной политике; делается вывод, что в условиях слабости государства первый подход более предпочтителен.
Национальная безопасность, теория ресурсного проклятия, структурная политика, промышленная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/142178672
IDR: 142178672
Текст научной статьи Новый взгляд на структурную политику
В мае 2009 г. была принята Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [1]. В ней указано, что ее концептуальные положения взаимосвязаны и взаимозависимы с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Последняя, несмотря на то что принята осенью 2008 г., подвергается в настоящее время переработке, в том числе ввиду полной нереалистичности достижения ее целевых показателей к 2020 г.
В качестве основных приоритетов национальной безопасности России выделяются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. Для обеспечения национальной безопасности предполагается сосредоточить усилия и ресурсы на: 1) повышении качества жизни граждан; 2) экономическом росте; 3) науке, технологиях, образовании, здравоохранении и культуре; 4) экологии живых систем и рациональном природопользовании; 5) стратегической стабильности и равноправном стратегическом партнерстве (имеется в виду активное участие России в развитии многополярной модели мироустройства). Как можно заметить, эти приоритеты развития взаимосвязаны: без 2) невозможны 1) и 5) и отчасти 3), однако 2) может препятствовать 4), без 3) невозможен 2) и т.д.
Несомненно, без достижения относительно высоких и устойчивых темпов экономического роста сложно говорить об обеспечении национальной безопасности нашей страны в современных условиях. Но может ли российская экономика обеспечить такие темпы роста, когда примерно 4/5 ее экспорта составляет сырье? Ответ - нет. Он подтверждается и развивающейся в последние полтора десятилетия «теорией ресурсного проклятия» (более точно можно сказать, что это ряд концепций, объединенных единой проблематикой, поскольку единой и стройной теории ресурсного проклятия не существует). Она исследует механизмы, посред- ством которых высокая обеспеченность страны природными ресурсами может замедлять ее экономическое развитие. В 1990-е гг. были получены эконометрические свидетельства того, что долгосрочные темпы экономического роста в странах, высоко обеспеченных природными ресурсами, в среднем ниже, чем в более бедных природными ресурсами странах. Дальнейший сбор и анализ данных по различным странам и периодам показал, что этому «проклятию» скорее подвержены страны со слабым институциональным развитием, а в таких ресурсообеспеченных странах, как Австралия, Канада и др., оно не наблюдается. К числу институтов, нейтрализующих негативные последствия ресурсо-обеспеченности, обычно относят специфициро-ванность и защищенность прав собственности, поддержку конкурентной среды на рынках. Слабо защищенные права собственности в условиях наличия легко добываемых и транспортируемых природных ресурсов порождают конкуренцию за доступ к данным ресурам. В результате стимулы к инвестированию в производство экономических благ снижаются по сравнению со стимулами к инвестированию в захват доступа к природным ресурсам.
Россия не относится к числу стран с развитой институциональной средой. Об этом свидетельствуют и опросы общественного мнения по поводу отношения к результатам приватизации (большинство населения оценивает их негативно), и степень монополизации рынков, и уровень коррупции, и т.д. В этих условиях - согласно теории ресурсного проклятия - сложно ожидать снижения ресурсозависимости экономики и, соответственно, достижения высоких долгосрочных темпов экономического роста.
Поэтому возникает естественный вопрос о том, имеются ли надежные теоретические основания для вмешательства государства с целью стимулирования прогрессивных преобразований в структуре производства? Если ответить кратко, то такие основания имеются и изучаются в теории промышленной политики (industrial policy), в качестве синонима которой часто используется структурная политика (далее в статье они также будут использоваться как синонимы).
Мнения по поводу ее целей широко варьируются. Так, в качестве них указываются, например, поощрение выпуска определенных промышленных товаров, увеличение производительности и относительной важности целевых секторов, содействие экономическому росту, основанному на повышении производительности, обеспечение сбалансированного развития экономики, повышение конкурентоспособности товаров и услуг национальных производителей. Существование нечетких или конфликтующих целей может являться причиной возникновения высоких издержек структурной политики.
Многие развивающиеся страны проводят промышленную политику, желая достичь долгосрочного роста производительности ресурсов в экономике. Кроме того, такая политика может проводиться и в период, когда ресурсы данной страны (трудовые, материальные) задействованы слабо, и повышение производительности в этом случае не является главным приоритетом – более актуальным является повышение степени использования ресурсов. В данном случае в качестве целей могут выступать, например, достижение краткосрочной занятости или увеличение технологических возможностей страны. Правительства могут ставить и неэкономические цели – повышение национального престижа или развитие стратегических секторов внутри страны. Некоторые развивающиеся страны ставят цели роста производительности предприятий приоритетных секторов, принадлежащих только местному капиталу [2].
Некоторые авторы (например, Г. Пак [3]) объектом проведения этой политики считают только обрабатывающую промышленность. Такая трактовка пр едставляется нам чересчур узкой. Обрабатывающая, добывающая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, как известно, тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому невозможно изолированно от других секторов разрешить проблемы обрабатывающей промышленности. Создание приоритетных условий для обрабатывающих отраслей может привести к определенному «ущемлению» интересов остальной экономики. В частности, это способно подорвать инвестиционные воз- можности сельского хозяйства и добывающих отраслей, а вследствие этого – и возможности для развития самой обрабатывающей промышленности в будущем. И. Гросфельд и С. Сеник-Лейгони справедливо отмечают, что промышленная политика может относиться ко всему механизму производства и распределения ресурсов [4].
Понятие структурной политики можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле. Критерием для их разделения является четкость выделения объекта этой политики. Если в качестве такового выделяется какой-либо конкретный сектор либо группа секторов, тогда можно говорить об узкой трактовке данного понятия. А когда меры экономической политики имеют ярко выраженный селективный эффект, но при этом целевые сектора точно не заданы, трактовка становится широкой. В первом случае можно сказать, что используются инструменты «тонкой» настройки, а во втором – «грубого» действия.
Набор инструментов, используемых в мире при проведении структурной политики, изменился в последние десятилетия . Еще два десятилетия назад государства, проводящие селективное вмешательство, делали акцент на использование тарифов, субсидий (в том числе экспортных). С конца 1980-х гг. большее внимание стало уделяться рынкам факторов производства, и особенно прямым иностранным инвестициям. Это было во многом связано с надеждой на то, что прямые иностранные инвестиции – это «связка» активов, которые отсут ствуют в данной стране. В то же время деятельность транснациональных корпораций может и препятствовать экономическому развитию страны, поэтому в некоторых случаях требуется селективное вмешательство государства. Главные изменения, с которыми столкнулись развивающиеся страны, – это ограничения, налагаемые различными кодексами Генерального соглашения по тарифам и торговле (под эгидой данного соглашения прошло восемь раундов торговых переговоров, в результате которых был значительно снижен средний уровень таможенных тарифов [5]), которые возникли перед переговорами на Уругвайском раунде в 1986–1990 гг., – в особенности Кодексом по субсидиям и компенсации пошлин (1979 г.). Последний сильно ограничил возможности стран-членов Все- мирной торговой организации по субсидированию экспорта. Многосторонние торговые соглашения, появившиеся во время Уругвайского раунда переговоров, еще больше уменьшили возможности применения селективного государственного вмешательства [6].
В последнее время - в рамках «широкого» подхода - появилась новая трактовка структурной политики (называемая горизонтальной промышленной политикой), в которой упор делается на создание институциональных условий для роста национальной экономики. Конкретная комбинация этих условий может включать в себя создание более эффективной системы стимулов (через задействование денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики), разработку мер по развитию человеческого капитала, оказание содействия отечественным фирмам в продвижении их продукции за рубежом, финансирование научно-исследовательских программ. Подобные институты должны включать в себя правила, законы и регламенты, которые создают среду, стимулирующую экономические организации (фирмы, банки) к адаптации в качественно новых условиях. Горизонтальная промышленная политика нацелена на уничтожение искажений системы относительных цен, обеспечивая нормальное функционирование рынков труда и финансовых рынков, положительно влияя на стимулы к экономической активности. Например, различные институциональные факторы, такие как политическая нестабильность, высокий уровень коррупции, насилие, неисполнение законов и неуважение к контрактам, - это все то, что препятствует развитию сложных видов деятельности, создающих высокую добавленную стоимость.
Однако опыт реализации предложений «Вашингтонского консенсуса» показал, что подобных мер недостаточно для развития - а иногда и просто для сохранения - секторов с высокой добавленной стоимостью.
Роль государства как инициатора структурных преобразований в значительной степени зависит от меры активности и самой направленности действий других агентов структурных преобразований экономики - компаний, профсоюзов, политических партий и т.п. Оценивать деятельность этих субъектов можно, очевидно, двумя способами: как с точки зрения того, на что они способны, так и с точки зрения того, что они делать не в состоянии. В последнем случае вопрос сводится к проблеме фиаско рынка применительно к его «желанию» и возможности осуществлять позитивные структурные преобразования.
Неоклассическая теория, как известно, имеет дело с развитым рыночным хозяйством, где существуют суверенный потребитель, гибкие цены, где решения принимаются рационально и по критериям предельной полезности для каждого участника рынка, где на всех рынках товаров и ресурсов поддерживается равновесие. В середине 1950-х гг. К. Эрроу и Ж. Дебре идентифицировали несколько условий, которые должны выполняться, чтобы рынки работали эффективно [7]. Они включают в себя, во-первых, отсутствие внешних эффектов и общественных благ; во-вторых, наличие совершенной конкуренции; в-третьих, полный набор рынков, включая рынки, бесконечно расширяющиеся в будущее и покрывающие все риски. Если какое-либо из этих условий не выполняется, то ресурсы будут распределяться не самым эффективным образом.
Приверженцы данной теории либо вообще отрицают необходимость структурной политики, полагая, что необходимы развитые рыночные институты, действие которых должно в целом «выправить» структурные деформации в экономике, либо занимают более умеренную позицию: сначала - становление рыночных институтов, а потом - активность в структурной политике.
Современная теория структурной политики оправдывает селективность там, где провалы рынка воздействуют на некоторые виды деятельности больше, чем на другие, и сохранение равновесия требует большего вмешательства в определенные виды деятельности.
Эти рыночные провалы можно классифицировать следующим образом:
-
- слабые и несуществующие рынки: на ранних стадиях развития рынки часто не существуют или работают плохо, поэтому цены не могут давать хороших сигналов для распределения ресурсов;
-
- высокие издержки входа или существование минимального масштаба производства с уменьшающимися средними издержками (оба случая связаны со статической экономией от масштаба). Эти «провалы» рынка заключаются
в том, что лишь несколько фирм способны войти в отрасль (первый случай) или достичь масштаба производства, начиная с которого они смогут получать прибыль (второй случай);
-
- существование ярко выраженной кривой обучения (внутрифирменное обучение действием): фирмы, имеющие производственный опыт в данной отрасли, получают выигрыш в производительности по сравнению с теми, кто только начал работу в ней;
-
- внешние эффекты, связанные с инвестициями в исследования и разработки: создание знаний требует значительных инвестиций в исследования и разработки, но при этом другие фирмы могут получить доступ к созданным знаниям без значительных затрат;
-
- внешние эффекты, вызванные инвестициями в человеческий капитал: фирма может потерять обученные ее кадры, вследствие чего имеет недостаточно сильные стимулы для подобного инвестирования (если не предусмотрены механизмы компенсации таких затрат);
-
- внешние эффекты, связанные с обучением действием, которое является внешним для фирмы (внутриотраслевым). Это один из самых старых и наиболее популярных доводов в пользу протекционизма, утверждающий, что «молодая» отрасль с объемом производства ниже оптимального не способна выдержать иностранную конкуренцию в начальный период своего развития;
-
- информационные внешние эффекты: перед тем как выйти на новые рынки, фирмам зачастую требуются значительные инвестиции, чтобы выяснить, является ли работа на них прибыльной. Однако конкуренты могут узнать это без затрат, просто наблюдая за данной фирмой;
-
- внешние эффекты координации: если экономия от масштаба значительна и экспорт ограничивается транспортными издержками или торговыми барьерами, вход потенциального производителя в отрасль может стать невозможным из-за недостатка покупателей его продукции. В то же время другой потенциальный производитель не сможет войти в другую отрасль, потребляющую данную продукцию, изза невозможности достичь предложения этой продукции по приемлемой цене;
-
- несовершенства рынка капиталов: асимметричный доступ к информации у кредиторов и заемщиков. Заемщики знают больше о «природе» и степени риска и вероятных доходах в
различных альтернативных ситуациях и о собственной способности «ручаться» за успех в новом виде деятельности. Этот несимметричный доступ к информации был бы не важен для кредиторов, если бы долговые контракты обеспечивали возврат ссуды при всех обстоятельствах. Но обычно существуют законы об ограниченной ответственности заемщиков, которые подвергают кредиторов опасности, состоящей в том, что заемщик может объявить себя банкротом;
-
- несовершенства рынка товаров (в частности, репутация их качества как входной барьер в отрасль).
Были ли селективные провалы рынка порождены исходным положением различных отраслей к началу рыночных реформ? Сама по себе величина каких-либо провалов рынка может быть одинаковой во всей экономике, но поскольку различные сектора имеют разную эффективность при переходе к рыночному ценообразованию, то и эти провалы оказывают на них дифференцированное воздействие. Как нам представляется, практически ко всем отраслям отечественной обрабатывающей промышленности подходит аргументация в поддержку «молодой» отрасли, поскольку эти сектора, несмотря на то что существовали и до реформ, не работали ранее в условиях рынка. Следовательно, опыт их работы в планово-регулируемой экономике не может считаться равноценным опыту работы в условиях рыночной конкуренции. Этим секторам требуется определенный период времени, для того чтобы достичь конкурентоспособного уровня издержек. Аргумент в пользу «молодой» отрасли является, как нам представляется, главной точкой соприкосновения ресурсно-технологического подхода и подхода, основанного на рассмотрении селективных «провалов» рынка, поскольку первый из них также полагает, что отечественной обрабатывающей промышленности требуется время для проведения ее модернизации.
В настоящее время в России принято множество концепций развития развития различных отраслей. Даже исходя из этого, нельзя сказать, что структурная политика в нашей стране не проводится. Она проводится, более того, проводится очень активно. Вопрос заключается, однако, в том, какие критерии применяются в отношении выбора поддерживаемых секторов и предприятий , какие создаются сти мулы, чтобы поддержка неэффективности не продолжалась вечно.
К сожалению, теория структурной политики не дает пока исчерпывающих ответов на вопро- сы о том, какие сектора, на какое время, в каком объеме и в каких формах следует поддерживать для максимизации общественного благосостояния. И в этом состоит большой интеллектуальный вызов экономической науке.
-
1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 // Российская газета. 2009. 12 мая.
-
2. Bora B., Lloyd P.J., Pangestu M. Industrial Policy and WTO // Geneva: WTO Secretariat. Centre William Rappard. 1999. P. 2.
-
3. Pack H. Industrial Policy: Growth Elixir or Poison? // The World Bank Research Observer. 2000. Vol. 15. №1. P. 49.
-
4. Grosfeld I., Senik-Leygonie C. Industrial Policy in the Russian Transition. What can the State do for Industrial Firms? // Экономическая и социальная реформа в России: европейско‐российский диалог: материалы конференции. М., 1998. С. 2.
-
5. Словарь современной экономической теории Макмиллана. М., 1997. С. 201.
-
6. Bora B. Industrial Policy and WTO. Geneva, 1999. P. 3.
-
7. Lall S. Industrial Success and Failure in a Globalizing World // International Journal of Technology Management and Sustainable Development. 2004. Vol. 3(3). P. 210.
-
8. Stiglitz J.E. Some lessons from the East Asia Miracle // The World Bank Research Observer. 1996. Vol. 11(2). P. 155.
Список литературы Новый взгляд на структурную политику
- О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537//Российская газета. 2009. 12 мая.
- Bora B., Lloyd P.J., Pangestu M. Industrial Policy and WTO//Geneva: WTO Secretariat. Centre William Rappard. 1999. P. 2.
- Pack H. Industrial Policy: Growth Elixir or Poison?//The World Bank Research Observer. 2000. Vol. 15. №1. P. 49.
- Grosfeld I., Senik-Leygonie C. Industrial Policy in the Russian Transition. What can the State do for Industrial Firms?//Экономическая и социальная реформа в России: европейско-российский диалог: материалы конференции. М., 1998. С. 2.
- Словарь современной экономической теории Макмиллана. М., 1997. С. 201.
- Bora B. Industrial Policy and WTO. Geneva, 1999. P. 3.
- Lall S. Industrial Success and Failure in a Globalizing World//International Journal of Technology Management and Sustainable Development. 2004. Vol. 3(3). P. 210.
- Stiglitz J.E. Some lessons from the East Asia Miracle//The World Bank Research Observer. 1996. Vol. 11(2). P. 155.