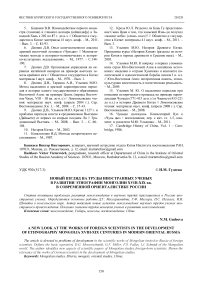Новый взгляд на труды иностранных ученых в развитии этнографии Монголии XVIII-XIX вв. в современной ориенталистике России
Автор: Гудеева Наталья Михайловна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам развития монголоведения в научных трудах приглашенных в Россию иностранных ученых. Определяются основные работы Д.Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа, И.Я. Шмидта о монгольском мире. Автор выделяет новые аспекты монголоведных научных трудов ученых иностранного происхождения. Показано значение трудов немецких ученых в развитии монголоведения.
Монголоведение, сибирь, монголы, востоковедение
Короткий адрес: https://sciup.org/148181203
IDR: 148181203 | УДК: 930
Текст научной статьи Новый взгляд на труды иностранных ученых в развитии этнографии Монголии XVIII-XIX вв. в современной ориенталистике России
Проблемы кочевниковедения, как отдельной науки ориенталистики, составной частью входят во все исследования иностранных ученых досоветского и советского периода истории. Эти проблемы затрагивают важнейшие аспекты, связанные с этнографией монгольского народа. В ходе научного исследования сделана попытка пересмотра взглядов советских ученых с позиции современных принципов объективности и историзма.
В отечественной историографии изучения истории Монголии необходимо выделить значительный вклад приглашенных в Россию иностранных ученых. Начало процесса складывания первых данных о монгольском мире необходимо связать с командированием в Сибирь (как в приграничную территорию с Монголией) иностранных ученых самим Петром I. Семь лет длилась (1720-1727) первая поездка по Сибирскому краю до Забайкалья немца по рождению Даниила Готлиба Мессершмидта.
Это была одна из первых научных экспедиций по изучению огромного и в целом неведомого края. В ходе поездки Д.Г. Мессер-шмидтом были даны первые научные записи диалектной речи аборигенов, зафиксированной от качугских бурят-эхиритов, всего 195 слов [8, с. 19]. За это время исследователь собрал большое количество естественноисторических, этнографических, картографических материалов. К сожалению, часть собранного материала исчезла при пожаре в Академии наук в 1874 г. В свою очередь большая часть материала «Обозрение Сибири, или Три таблицы простых царств природы» в 10 томах осталась неопубликованной.
В оценке научных, политических воззрений Д.Г. Мессершмидта среди российских исследователей не было единства. Так, по характеристике В.Г. Мирзоева в «Историографии Сибири» он выступает как воинствующий шовинист, презирающий русский народ, как жестокий крепостник и, наконец, мистик». Такую оценку оспаривает Э.П. Зиннер, считая ее односторонней и неправильной. Возможно, Мирзоев учел эту критику, пишет исследователь Т.Б. Батуева. Во всяком случае в новом издании названного труда, вышедшего после книги Зиннера в 1970 г., приведенная ранее оценка Мессершмидта отсутствует [2, с. 4].
Нельзя не упомянуть в нашем исследовании Иоганна Георга Гмелина, который не имел непосредственных контактов с монголами. Но в своих экспедициях посетил районы Западной и Восточной Сибири, граничащие с монголь- скими княжествами, и описал на немецком языке быт и историю бурят, сходные к тому времени с монгольской. В историографическом плане при оценке трудов этого исследователя следует учитывать тот факт, что из-за резких выпадов автора против населения России Академия наук отказалась перевести ее на русский язык и тем более опубликовать его труд «Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 г.». Но в естественно-историческом плане, несомненно, заслуживает внимания труд И.Г. Гмелина о природно-климатических особенностях Сибири «Флора Сибири» в четырех томах.
Последующие годы в научном освоении монгольского мира характеризуются 33-тысячеверстной десятилетней Экспедицией (1733-1743) и опубликованными работами академика Герарда Фридриха Миллера (17051783). Собранные коллекции копий документов по русской, монгольской, тангутской и др. истории составили т.н. портфели Миллера, которые с того времени постоянно изучаются исследователями различных специальностей и не изучены до конца и в наше время. «История Сибири» в двух томах до сих пор является «выдающимся событием в русской и мировой исторической науке того времени» [7, с. 5].
В рассматриваемой нами исторической тематике привлекают внимание впервые опубликованные сведения о сношениях русских с западными монголами, в частности с Алтан-ханами, джунгарскими ханствами. Г.Ф. Миллер собрал значительный материал по этнографии и языкам сибирских народов, в том числе и бурят. В «латинско-татарско-аринско-котско-камасинско-бурятский словарь» Г.Ф. Миллера включено около 300 бурятских слов, зафиксированных им в 1735 г. [8, с. 20].
Историограф В.Г. Мирзоев, к мнению которого присоединяется Т.Б. Батуева, считает: «Подняв колоссальный материал, Миллер лишь восстановил исторические события, но не сумел обобщить и привести их в стройную систему. Философия истории оказалась чуждой Миллеру. В историографии Миллер представляет собой классическую фигуру историка-собирателя фактов: в нем в наиболее законченной форме нашел свое выражение XVIII век сибирской и монгольской историографии – период накопления источников» [10, с. 11].
В трудах этих ученых изложена история завоевания монголов и их связи с русскими. Они написаны под великодержавным углом зрения, в них выдвигался тезис о сопротивлении «диких сибирских племен» культурной миссии колонизаторов, которые якобы пытались приобщить их к благам цивилизации. Несмотря на подобного рода «цивилизаторские» размышления, в работах того же Миллера достаточно много сведений о деяниях русских атаманов в приграничной с Россией Северо-Западной Монголии [15, с. 4].
Политические и экономические интересы Российского государства в период преобразований Петра I и его активной внешней политики потребовали еще более обширных и точных сведений о Монголии и Китае. Эту задачу выполняли посольства и торговые караваны, ходившие в Китай в конце XVII – первой половине XVIII в. Первым посольством, направленным Петром I в Китай в 1692 г., было посольство, во главе которого находился Избрант Идес. Все путешествие заняло три года, результатом которого явился отчет, где кроме описания Китая содержались также некоторые сведения о Монголии.
В 1768-1774 гг. в Сибирь совершает свое путешествие знаменитый естествоиспытатель академик Петр Симон Паллас (1741-1811). Результатом его поездок были опубликованные труды по зоологии, палеонтологии, ботанике, этнографии и др. В своих экспедициях П.С. Паллас добирался до монгольской границы в Кяхте. Двухтомное сочинение П.С. Палласа «Собрание исторических сведений о монгольских народностях», изданное на немецком языке, явилось одним из первых специальных исследований, которое было посвящено истории и этнографии калмыков на Волге и монголов, преимущественно их западной ветви – ойратов. П.С. Палла-са интересовал и бурятский язык. В его монографии «Сравнительные словари всех языков и наречий» (1787) содержится около 200 бурятских слов. Были собраны также ценные рукописные материалы других собирателей монгольских языков [8, с. 20].
Труды академиков Г.Ф Миллера и П.С. Пал-ласа положили начало научному изучению Монголии, хотя они не знали монгольского языка и находились в полной зависимости от своих переводчиков, знания которых не всегда были на высоте [14, с. 8].
Основы научного монголоведения, понимаемые нами в ее европейской транскрипции, связаны с представителем немецкой, а затем и российской академической науки Исааком Якобом Шмидтом (1779-1847). И.Я. Шмидт, немец по происхождению, приехал в Россию из Голландии в 19-летнем возрасте по делам торговой конторы. Он пробыл три года среди калмыков, изучил их язык и быт, а в дальнейшем посвятил себя изучению Монголии. В 1812 году он воз- вращается в Петербург и для Библейского общества переводит на монгольский язык Новый Завет. Затем полностью переключается на переводческую и научную деятельность в области монголоведения и тибетологии. В 1829 г. он перевел с помощью бурят Номтуй Утаева и Бадмы Моршунова приобретенную между 1795 г. и 1807 г. в Пекине сибирским переводчиком Василием Новоселовым рукописную летопись в четырех тетрадях. Речь шла об историческом монгольском сочинении XVII в. «Эрдэнийн Тобчи» (Драгоценное сказание Саган-Сэцэна). Затем подготовил и опубликовал «Монгольскую грамматику» (1831) на немецком и русском языках. Несомненно, важным событием в истории монголоведения стали публикации первой в России грамматики монгольского языка (в 1831 г. – на немецком, а в 1832 г. – на русском) и краткого «Монголо-немецко-русского словаря или лексикона» в 1835 г. Занимаясь изучением монгольской литературы, Шмидт издал в 1839 году перевод пекинской версии монгольского эпоса «Гэсэр». Оценивая вклад Шмидта в изучение монгольского языка и литературы, профессор Г.Д. Санжеев писал: «Шмидт своими изданиями текстов монгольского эпоса Гэсэриада и исторического сочинения Саган-Сэцэна дал начало тем монументальным исследованиям монгольской филологии, которые справедливо являются гордостью нашего монголоведения [12, с. 297]. В 1831 г. И.Я. Шмидт был избран академиком Российской академии наук [13, с. 1525].
Он занимался составлением каталогов на монгольском и тибетском языках почти одновременно с О.М. Ковалевским. К сожалению, для науки утрачена коллекция Шмидта на монгольском, ойратском и калмыцком языках, по-видимому, навсегда. Добытая им с большим трудом в калмыцких степях, она погибла во время пожара в Москве в 1812 г. [11, с. 68]. Касаясь громкой славы акад. И.Я. Шмидта и своих университетских профессоров, В.П. Васильев писал о них в ехидной форме: «Вся слава акад. Шмидта, кроме его труда по истории Саган-Сэцэна, основана на знании этой религии. Честь эту удержали за собой в нашем отечестве и г. Ковалевский и Попов, руководившиеся только монгольскими источниками» [3, с. 69].
При оценке вклада И.Я. Шмидта в российское монголоведение необходимо учитывать и точку зрения исследователей, высказанную источниковедом Н.П. Шастиной, что качество переводов восточных источников было невысоким. Оценивая научный вклад И.Я. Шмидта в монголоведение, необходимо, прежде всего, учесть и поддержать мнение проф. Д.Б. Улымжиева: «Он был первым, кто ввел изучение монгольской истории и филологии в число научных академических дисциплин» [14, с. 9].
Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, а также первый академик по монгольским языкам И.Я. Шмидт были учеными иностранного происхождения (в основном из Германии), но жившими и работавшими в России постоянно. Хотя свои труды они публиковали чаще на немецком, а не русском, языке, считаем должным присоединиться к мнению иркутского историографа Ю.В. Кузьмина и известного этнографа С.А. Токарева: «Их труды необходимо включать в историю русской науки: они были приглашены на службу русским правительством, Петербургской АН, работали в тесном контакте с другими русскими учеными, проводили исследования на русские средства, обычно по русским программам, и эти исследования обогащали русскую науку и становились органичной ее частью» [8, с. 19].
Историографическая часть вопроса, в оценке значения и вклада зарубежных ученых и путешественников, исследовавших историю Сибири и прилегающих к ней зарубежных территорий и стран, занимает обширное место в советской и российской исторической литературе. Эту проблему нельзя обойти вниманием, ведь значение и роль иностранцев, проезжавших через Сибирь в Монголию и Китай в XVIII-XIX вв., были так или иначе связаны с процессом складывания классического востоковедения и монголоведения. Поэтому в рассматриваемый нами период отмечаем, что предпринимаются первые попытки классификации письменных источников, составленных европейскими исследователями истории Сибири и далее Монголии. Особенно важны в современном источниковедении и историографии данной проблемы достаточно подробно изученные работы, относящиеся к истории государства Чингисхана.
Хронологически мы можем отнести начальную точку отсчета известных письменных источников европейских авторов по проблеме Русь – Сибирь – Монголия к концу XIII – нач. XIV в., периоду, когда народы Евразии входили так или иначе в орбиту Монгольского государства чингизидов. Но конкретно проблемы территориального роста, политического могущества государства чингизидов, как и теорию и практику современного кочевниковедения, мы не можем не выделить в отдельную проблему, требующую специального исследования.
Исходя из того, что иностранные ученые и путешественники посещали Сибирский регион в различные времена и при этом решали разно- плановые цели и задачи, соответственной должна быть наша оценка их роли в освещении истории края. Нельзя не отметить в этих источниках элементы фольклорно-этнографических, исторических и других научных знаний, данных с позиций объективизма. Но еще раз нельзя не отметить и шовинистический взгляд, и самодержавное отношение отдельных представителей этого отряда ученых к истории коренных народов Сибири, населению прилегающих к ним азиатских государств.
С образованием в системе «государевой» власти архивной службы начинается первая систематизация поступающих в эти приказы материалов: отчетов, донесений, записок и других документов. К этим документам в полной мере можно отнести и отчеты европейских исследователей.
С процессом складывания классического востоковедения к концу XIX в. предпринимаются и первые попытки составления общих сводов западноевропейской литературы о Сибири и граничащих с ней государствах. Активизация политики царского правительства на Дальнем Востоке – с середины 90-х гг. XIX в. и до русско-японской (1904-1905 гг.) войны – заметно сказалась на издании книг, брошюр и газетных статей о странах этого региона. В русле этой проблемы была впервые составлена наиболее полная для того времени библиография с указанием книжных публикаций на иностранных языках: «Сибирская библиография» и «Библиография Азии», в которых давался именной указатель работ под редакцией В.И. Межова [9, с. 109].
Повышенный интерес правительственных кругов России и ее общественности к русско-английскому соперничеству в Центральной Азии и на Дальнем Востоке не мог не отразиться на развитии востоковедения и монголоведения, особенно практического. В 1899 г. создан Восточный институт во Владивостоке [6, с. 227]. Помимо отдельных историографических работ, вышедших в конце XIX в., вплоть до 30-х гг. XX в. в историографической науке по этой проблематике работ не печаталось [2, с. 27].
Наиболее значимым трудом, посвященным сибирской тематике, роли востоковедения (китаеведения и монголоведения), а также вкладу иностранных исследователей в эту проблему, в первой половине XX в. была общепризнанная советскими и в наши дни российскими учеными работа академика Михаила Павловича Алексеева «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей. Введение, тексты и комментарии. XIII-XVII вв.» [1].
С позиции марксистской исторической науки в советской историографии в первой половине XX в. написана первая и единственная в бурятской исторической науке работа В.П. Гирченко «Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины XIX вв. о бурят-монголах» [4]. Здесь в соответствии с существующей тогда в общественной науке точкой зрения о колонизаторской роли царизма в угнетении «инородцев» трактуется и научная деятельность иностранных ученых. Хотя по своему богатому научному аппарату и приведенному фактическому материалу об истории бурят-монголов, которые в тот период рассматриваются как единое целое, эта работа не утратила своей актуальности и по сей день. В то же время при оценке этой работы Т.Б. Батуева отмечает: «В отличие от работы М.П. Алексеева в книге по существу отсутствует сколько-нибудь подробное описание библиографии, нет даже упоминания о работе Алексеева, изданной впервые незадолго до этого» [2, с. 26].
Во второй половине XX в. для исторической науки по этой проблематике характерна более взвешенная и квалифицированная трактовка исторических событий того времени, роли и значения научных трудов зарубежных исследователей. В историографии этой проблемы выделяется работа Эрвина Петровича Зиннера «Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII в.», изданная в 1968 г. в Иркутске [5]. Трактовка событий принимает в этой работе более историографический характер, хотя по сравнению с предыдущими работами хронологические рамки исследования ограничены одним столетием. Приводятся известные высказывания зарубежных ученых о бурятах и монголах, об их предыстории до XVIII в. Автор издает неопубликованную рукопись доклада М.П. Алексеева, прочитанную им 14 марта 1931 г. в Иркутске.
В ряду рассматриваемых работ исследование Т.Б. Батуевой [2, с. 26], несомненно, обогатило востоковедную историографическую литературу конца XX в. Интересным для понимания проблемы является подробный именной указатель с библиографическими данными европейских ученых, часть из которых ранее была не известна широкому кругу исследователей. В монографии впервые приводится переведенный автором исторический материал, особенно французские источники. Но в структурно-хронологическом плане удивляет разбросанность ценного исторического материала по разным векам, нарушается в определенной степени хронологический принцип исторической науки.
В заключение отметим, что вклад иностранных ученых был, безусловно, весомым в развитии монголоведения и этнографии. Материалы, собранные приглашенными научными деятелями, положили начало формированию монголоведения как отдельной научной дисциплины и фактически имеют практическую ценность до сих пор.