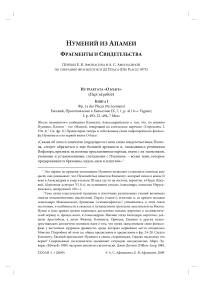Нумений из Апамеи. Фрагменты и свидетельства
Автор: Афонасин Евгений Васильевич, Афонасина Кузнецова Анна Сергеевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Нумений из Апамеи
Статья в выпуске: 1 т.3, 2009 года.
Бесплатный доступ
Общее предисловие Джона Диллона Перевод, предисловие, примечания и индексы А.С. Афонасиной (Кузнецовой) и Е.В. Афонасина (Центр изучения древней философии и классической традиции, НГУ) Первый перевод на русский язык фрагментов знаменитого философа-неопифагорейца II в. н.э.
Короткий адрес: https://sciup.org/147103271
IDR: 147103271
Текст научной статьи Нумений из Апамеи. Фрагменты и свидетельства
Фр. 1a des Places (9a Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию IX, 7, 1, p. 411 b–c Viguier;
I, p. 493, 22–494, 7 Mras
[После знаменитого сообщения Климента Александрийского о том, что, по мнению Нумения, Платон – это «Моисей, говорящий на аттическом наречии» ( Строматы I, 150, 4).1 См. фр. 8.] Процитирую теперь и собственные слова пифагорейского философа Нумения из его первой книги О благе :
«Сказав об этом и запечатав (σημηνάμενον) свои слова свидетельствами Платона, следует обратиться к еще большей древности и, опоясавшись речениями Пифагора, призвать на помощь прославленные народы, вкупе с их таинствами, учениями и установлениями, согласными с Платоном, – всеми теми, которых придерживаются брахманы, иудеи, маги и египтяне».2
ΣΧΟΛΗ 3. 1 (2009)
Но об этом достаточно. [Далее следует фр. 9.]
Фр. 1b des Places (9b Leemans)
Ориген, Против Кельса I 15; I, p. 67, 21–27 Koetschau
Насколько же лучше Кельса 3 пифагореец Нумений, во многих случаях обнаруживший свою исключительную ученость, тщательно исследовавший многие мнения и сведший воедино все то, что казалось ему истинным; ведь в первой книге своего трактата О благе , говоря о народах, которые считают бога бестелесным, и причисляя к ним иудеев, он, не сомневаясь, использовал в своем сочинении изречения пророков, и речь его изобиловала тропами (τροπολογῆσαι).4
Фр. 1c des Places (32 Leemans)
Ориген, Против Кельса IV, 51; I, p. 324, 18–27 Koetschau
[Ориген приводит цитату из Кельса, в которой тот обвиняет толкователей священного писания в том, что «их толкования еще более позорные и абсурдные, нежели сами истории». Вероятно, говорит далее Ориген, Кельс имеет в виду сочинения Аристобула и Филона, однако он едва ли читал их, потому что в противном случае увидел бы, что экзегеты нередко настолько хорошо истолковывают смысл священных речений, что это убеждает даже некоторых греческих философов.]
Мне известно, например, что пифагореец Нумений – превосходный толкователь Платона и прославленный приверженец пифагорейской доктрины – во многих своих книгах излагает учение Моисеево (τὰ Μωϋσέως) и пророков, истолковывая их не так уж и неправдоподобно, при помощи тропов, как например, в так называемом Удоде 5, а также в книгах О числах и О месте . А в третьей книге своего трактата О благе … (см. фр. 10а).
Фр. 2 des Places (11 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 21,7–22,2, p. 543bd Viguier;
II, p. 48,17–49,13 Mras
И снова Нумений в своем трактате О благе , объясняя мысли Платона 6, рассуждает следующим образом:
«Представления о телах мы формируем посредством наблюдения похожих тел и знаков, обнаруживаемых в объектах и доступных нашим чувствам. Напротив, благо не может быть схвачено при помощи чего-либо непосредственно открывающегося взору или посредством какого-либо чувственно воспринимаемого подобия. Как человеку, сидящему на смотровой вышке,7 удается, напрягши зрение, всего на миг ухватить силуэт паруса маленького рыболовного судна, – одного из тех далеких суденышек, предоставленных самим себе и попавших в пучину волн, – точно так же и нам следует отстраниться как можно дальше от вещей чувственных и остаться один на один с благом (τῷ ἀγαθῷ μόνῳ μόνον), там, где нет ни человека, ни какого другого живого существа, ни тела большого или малого, но только безмерное, неописуемое и совершенное (ἀτεχνῶς) божественное одиночество – убежище (διατρῐβή) и излюбленная обитель (ἀγλαΐαι) блага, в котором оно в покое, благости, тишине и величии не- спешно плывет поверх всего сущего (ἐποχούμενον ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ).8 Однако если кому, увлеченному чувственным, почудится, будто он видит парящее над ним благо, и он убедит себя в том, что сообщается с ним, то пусть знает, что полностью заблуждается. В действительности для этого необходимо не простое устремление, но направленное на бога усилие: для этого лучше сначала пренебречь чувственным и – с юношеским рвением (νεανιευσαμένῳ) к наукам – изучив свойства чисел, сосредоточиться на науке о том, что есть сущее 9».
Все это из первой книги.
Фр. 3 des Places (фр. 12 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XV, 17, 1–2; p. 819 a–b Viguier;
II, p. 381, 10–17 Mras
«Что есть бытие? Состоит ли оно из четырех элементов, земли, огня и других двух промежуточных природ? И являются ли они сущностями, либо вместе, либо каждая в отдельности?
– Однако как они могут существовать, будучи сотворенными и вновь гибнущими, если мы можем видеть их возникающими один из другого, изменяющимися и не состоящими ни из элементов, ни из их соединений?
– Как и тела, эти элементы не могут обладать истинным бытием. Но если не они, то, может быть, материя в силах обладать истинным бытием?
– Однако для нее это совершенно невозможно, так как она не в силах оставаться одной и той же (ἀρρωστίᾳ τοῦ μένειν): материя – это река, бурная и стремительная, безграничная и нескончаемая по глубине, ширине и длине».
Фр. 4a des Places (13 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XV, 17, 3–8; p. 819 c–820 a Viguier;
II, p. 381, 18–382, 19 Mras
А немного ниже он добавляет:
«Ведь Речь хорошо говорит 10: Если материя беспредельна (ἄπειρος), то она неопределенна (ἀόριστος), а если неопределенна, то неразумна (ἄλογος), а если неразумна, то непостижима (ἄγνωστος). Кроме того, если она непостижима, то с необходимостью неупорядочена (ἄτακτος); ведь упорядоченное должно быть легко постижимым, беспорядочное же не стоит на месте, а то, что не стоит на месте, не существует. Но, как ранее мы уже договорились, недопустимо, чтобы все это ассоциировалось с бытием.
– Хотелось бы, чтобы это стало всеобщим мнением, а если нет, то хотя бы моим.
– Стало быть, я утверждаю, что материя, ни сама по себе, ни в телесных формах, не есть сущее.
– Что же тогда? Разве есть что-то иное, кроме этого, в природе целого?
– Да. И это не слишком трудно объяснить, если мы сначала попытаемся обсудить все между собой. Ведь тела по природе своей смертны и безжизненны, всегда в движении (πεφορημένα) 11, никогда не остаются тождественными себе и не нуждаются ни в чем таком, что держало бы их вместе.
– Совершенно верно.
– А в противном случае останутся ли они на месте?
– Конечно нет.
– Что же за [природа] тогда способна их сдерживать? Если она телесна, а значит подвержена распаду и рассеянию 12, то, как мне кажется, лишь Зевс Спаситель сможет их удержать; если же надлежит ей избавиться от всяких телесных страстей, чтобы, будучи рожденными, они могли избежать распада и остаться вместе, то в этом случае, как мне думается, у нас не остается выбора, кроме как признать ее бестелесной. Из всех природ она одна неподвижная, сплоченная и лишена всякой телесности. В любом случае она не возникла, не растет, не подвержена никакому другому виду движения, и по этой причине справедливо считается, что бестелесное всему предшествует (πρεσβεῦσαι)».
Фр. 4b des Places (test. 29 Leemans)
Немесий, О природе человека 2, 8–14, p. 69–72 Matthaei
Так, против всех, кто душу полагает телом, довольно будет сказанного сообща Аммонием, учителем Плотина, и Нумением, пифагорейцем,13 а именно:
«Тела, по природе своей изменчивые, тленные и во всех частях способные делиться до бесконечности, так что ничего не может оставаться от них неизменного, нуждаются в удерживающем, сводящем, собирающем и господствующем начале, которое мы называем душою. Итак, если душа есть какой-нибудь вид тела, даже из самых тонких частей, то что же сдерживает ее? Ибо уже доказано, что всякое тело нуждается в сдерживающем начале; и так мы будем идти в бесконечность, пока не дойдем до чего-либо бестелесного. Если же сказать, подобно стоикам, что в телах есть напряженное движение (τονικήν κίνησιν),14 направленное вовнутрь и вовне одновременно (причем направленное вовне определяет величину и качество, а то, что направлено вовнутрь, – единство и сущность), то следовало бы спросить придерживающихся такого взгляда, что это за сила, – так как всякое движение выходит из силы, – и в чем состоит ее сущность? Если эта сила есть материя, то относительно ее мы спросим о том же, если же не материя, но нечто существующее в материи (ἔνυλον), тогда, спрашивается, что же это такое? Существующее в материи не то, что сама материя; так называется только то, что участвует в материи. Что же это такое, участвующее в материи: есть ли оно материя или нечто нематериальное (ἄϋλον)? Если не материя, то как же оно существует в ней, не будучи само материей? Если же оно не материя, то и нематериально, если нематериально, то и не тело: ибо всякое тело есть нечто, существующее в материи. Если же [стоики] скажут, что тело имеет три измерения и что душа, пребывающая во всем теле, также имеет три измерения и что, следовательно, она есть тело, то на это мы ответим, что действительно всякое тело имеет три измерения, но что не все, имеющее три измерения, есть тело: в самом деле, качество и количество, бестелесные сами по себе, привходящим образом могут изменять объем. Душа, таким образом, есть нечто непротяженное в себе самой; однако привходящим образом благодаря тому, в чем она находится и что имеет три измерения, она сама выглядит так, как будто имеет три измерения. Притом всякое тело движется или извне или изнутри. Движущееся извне неодушевлено, движущееся изнутри – одушевлено. Если бы душа, будучи телом, двигалась извне, она была бы неодушевленною, если же душа станет двигаться изнутри, то она одушевлена.15 Но, очевидно, нелепо утверждать, что душа одушевлена или неодушевлена. Следовательно, душа не есть тело. Воспитываемая душа питается чем-то бестелесным – науками. Но ни одно тело не питается чем-нибудь бестелесным, следовательно, душа не есть тело – таково рассуждение Ксенократа.16 Если же душа не питается вообще, а всякое тело живого существа питается, то душа не есть тело».17
КнигА II
Фр. 5 des Places (14 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 9, 8–10, 5; p. 525 b–526 a Viguier;
II, p. 25, 21–27, 2 Mras
[После выдержек из Тимея (27d и 37е) в сопоставлении с библейскими пассажами, призванными показать сходство позиций Платона и Библии в вопросах о бытии, времени и вечности.]
Но чтобы кто-нибудь не решил, что я искажаю слова этого философа [Платона], я обращусь к комментариям, в которых объясняется смысл его высказываний. Многие посвятили себя рассмотрению этих предметов. Для моих же целей достаточно будет привести слова знаменитого мужа, Нумения пифагорейца, которые он произносит во второй книге трактата О благе :
«Пойдем же! Приблизимся настолько близко, насколько хватит сил, к бытию (τὸ ὂν), и скажем, что бытие – это не то, что было, не то, что становится, но всегда то, что есть сейчас, в настоящем времени. Если кто-нибудь решит переименовать это настоящее (ἐνεστῶτα) в вечность,18 то я с ним соглашусь. Что же касается прошедшего, то, как мне кажется, надлежит считать его полностью ушедшим, настолько удалившимся и убежавшим от нас, что более не сущим. С другой стороны, грядущего еще нет, оно лишь допускает появление бытия в будущем. Ибо невозможно в одном и том же отношении помыслить бытие, как несущее, уже несущее или еще несущее; ведь, сказав так, мы столкнемся с огромным затруднением, утверждая, что одна и та же вещь одновременно может как быть, так и не быть.
– Но если это так, то каким образом может существовать что-либо еще,19 если бытие является небытием по отношению к самому бытию (τοῦ ὄντος αὐτοῦ μὴ ὄντος κατὰ αὐτὸ τὸ ὄν)?
– Так что бытие есть нечто вечное и неизменное и всегда тождественное себе; оно не имеет начала и не может быть уничтожено, не возрастает и не убывает, не становится больше или меньше; оно не подвержено движению ни в каком-либо ином, ни в пространственном смысле слова: ведь ему не подобает двигаться вперед или назад, вверх или вниз, влево или вправо; и надлежит ему не вращаться вокруг своего центра, но скорее стоять неподвижно, твердо и непоколебимо, всегда в одном и том же состоянии и положении».20
Фр. 6 des Places (15 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 10, 6–8, p. 526a–c Viguier;
II, p. 27, 3–14 Mras
Ниже, после дальнейших размышлений, он добавляет:
«Однако пойдем далее. Не буду делать вид, будто я не знаю имени бестелесного, и рискну скорее сказать об этом, нежели умолчать. Ведь имя, о котором я говорю, это то самое, которое мы давно искали. И пусть никто не смеется, если я назову “сущность и сущее” (οὐσίαν καὶ ὄν) именем бестелесного. Причина, почему оно называется “сущим”, состоит в том, что оно не имеет начала и не может быть уничтожено, не подвержено никакому роду движения или изменения к лучшему или худшему. Оставаясь простым, неизменным и тождественным по форме (ἐν ἰδέᾳ τῇ αὐτῇ), оно само не желает выйти из себя, и ничто иное не может заставить его это сделать. Ведь разве не говорил Платон в Кра-тиле , что имена суть чистые добавления (ἐπίθετα) к представлению о вещах? 21 Итак, установлено и выяснено, что бестелесное есть бытие (τὸ ὂν ἀσώματον)».
Фр. 7 des Places (16 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 10, 9–11; p. 526 c–d Viguier;
II, p. 27, 15–25 Mras
Ниже он добавляет:
«Я сказал, что сущее бестелесно и что оно умопостигаемо (τὸ νοητόν). Все вышесказанное, насколько я могу припомнить, касается именно этого. Однако я хотел бы усилить аргумент настоящего исследования таким простым добавлением: если эти утверждения не согласуются с мнениями Платона, то, может быть, нам следовало бы обратиться к другим великим и могучим мужам, таким как Пифагор? Ведь говорит Платон (позволь же мне напомнить его собственные слова): «Что есть вечное, не имеющее возникновения бытие, и что есть вечно возникающее, но никогда не сущее? Одно из них постигается с помощью размышления и рассуждения [и, очевидно, есть вечно тождественное бытие]; другое же подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле».22 Спросив, что есть бытие, он недвусмысленно назвал его не имеющим возникновения. Становление, по его словам, не присуще бытию. В противном случае оно бы изменялось; а если бы изменялось, то не было бы вечным.
Фр. 8 des Places (17 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 10, 12–14; p. 526 d–527 a Viguier;
II, p. 28, 1–11 Mras
Еще ниже он говорит:
«Коль скоро бытие вечно все целиком и неизменно, и совершенно никоим образом не выходит из себя, но пребывает тем же и остается таким же, то это и есть то, что “разум постигает с разумением” (νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν).23 Если же тело – это поток и подвержено моментальным изменениям,24 то оно погибает и больше не существует. Не будет ли, следовательно, величайшей глупостью отрицать, что оно есть нечто неопределенное и может быть постигнуто лишь мнением или, говоря словами Платона, “возникает, гибнет и в действительности никогда не существует”». 25
Так говорит Нумений, ясно истолковывая как учение Платона, так и более древнее учение Моисея. Значит по справедливости ему приписывают следующее изречение:
«Кто есть Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом наречии? (‘Τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωσῆς ἀττικίζων’;)» 26
Климент Александрийский, Строматы I, 150, 4;
II, p. 93,10–11 Stählin–Früchtel–Treu
(= Евсевий, Приготовление к Евангелию , IX 6, 9)
Аристобул в первой книге своего сочинения К Филометру пишет: «Платон также следовал началам нашего законодательства. И очевидно, что он самым внимательным образом вникал во все его подробности. Ведь еще до Деметрия [Фалерского] и прежде владычества Александра и самих персов существовал другой перевод, включающий в себя повествование об исходе евреев из Египта, обо всех замечательных событиях, очевидцами или непосредственными участниками которых были наши предки, о завоевании земли обетованной, а также изложение всего нашего законодательства. Очевидно, что вышеупомянутый философ – муж весьма ученый, многое позаимствовал из этого источника. Равным образом и Пифагор многое позаимствовал у нас для своего учения». Нумений же, пифагорейский философ, прямо говорит:
«Кто есть Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом наречии?»
КнигА III
Фр. 9 des Places (18 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию IX, 8, 1–2, p. 411d Viguier;
-
I, p. 494, 9–16 Mras
А в третьей книге он упоминает самого Моисея (Μωσέως), говоря следующее:
«Далее идут египетские храмовые писцы Ианний и Иамврий 27, мужи, равных которым, как считалось, не было в искусстве магии во времена изгнания иудеев из Египта. Вот почему большинство египтян сочли их достойными встать рядом с Мусеем (Μουσαίῳ) 28, предводителем иудеев, мужем, способным, как никто, молиться богу; и из напастей, которые Мусей (Μουσαῖος) навлек на Египет, они смогли отвести наиболее ужасные».
Этими словами Нумений свидетельствует как о чудесных деяниях Моисея, так и о том, что он был угоден богу.
Фр. 10a des Places (11 Leemans)
Ориген, Против Кельса, IV, 51; I, p. 324, 23–27 Koetschau
[Начало см. в фр. 1c] …А в третьей книге своего трактата О благе он излагает даже некую историю об Иисусе без упоминания, однако, его имени и истолковывает ее посредством тропов; а удачно или нет – об этом мы скажем в подходящее время. Он рассказывает также о Моисее, Ианние и Иамврие.
[Далее Ориген говорит:] И хотя мы не очень ликуем по этому поводу, но все же одобряем Нумения в большей степени, нежели Кельса и других греков, потому что он решил изучить наши истории ради истины, и они произвели на него впечатление в качестве историй, которые следует понимать в иносказательном смысле.
Фр. 10b des Places
См. фр. 52.
Книга IV или V
Фр. 11 des Places (20 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 17, 11–18, 5;
p. 536d–537b V.; II, p. 40, 9–41,5 Mras
Отстаивая позицию Платона, Нумений в трактате О благе дает свою интерпретацию второй причины, говоря следующее:
«Желающему постичь бога, как первого, так и второго, надлежит сперва рассмотреть все по порядку и очень аккуратно. После того как порядок наведен, ему следует внимательно изучить этот предмет, в противном случае лучше не говорить вовсе, ведь если взять его раньше положенного срока, еще не сделав первый шаг, то это сокровище превратится, как говорят, в пепел. Да не испытаем мы подобной напасти! Призвав самого бога сделаться нашим проводником и попросив, чтобы он показал нам сокровища своей мысли, приступим к делу и, помолившись, начнем наше рассуждение. Первый бог, сущий в себе, прост, целен и неделим. А второй-и-третий бог – един (ὁ θεὸς μέντοι ὁ δεύτερος καὶ τρίτος ἐστὶν εἷς).29 Однако, соединившись с материей, являющейся двоицей, он, с одной стороны, привносит в нее единство, а с другой – разделяется ею надвое (ἑνοῖ μὲν αὐτήν, σχίζεται δὲ ὑπ' αὐτῆς) в соответствии с ее характером, страстным и переменчивым. Так, отвернувшись от умопостигаемого (то есть, от самого себя), взглянув на материю и помыслив о ней, он забывает (ἀπερίοπτος) о себе. Прикоснувшись к чувственному миру, он служит ему и возводит до состояния, присущего его собственному характеру 30, как результат любви к материи (ἐπορεξάμενος τῆς ὕλης)».31
Фр. 12 des Places (21 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 6–10; p. 537 b–d Viguier;
-
II, p. 41, 6–22 Mras
Затем он говорит:
«Не обязательно, чтобы первый выступал в роли демиурга (δημιουργεῖν); следует считать первого бога отцом бога-демиурга (δημιουργοῦντος). Если бы мы исследовали демиургическое начало, утверждая, что первое сущее более всего подходит для этого свершения, это было бы хорошим началом для нашей речи. Однако не о демиургическом начале наша речь, ищем мы первое начало (τοῦ πρώτου), поэтому я беру свои слова обратно и считаю их непроизнесенными (ἔστω μὲν ἐκεῖνα ἄρρητα). Я продолжу свою речь и начну охоту с другой стороны. Но прежде чем схватить эту речь, давайте заключим между собой безоговорочное соглашение, согласно которому первый бог не проявляет активности в каких-либо делах и является царем,32 в то время как демиургический бог “берет на себя управление на пути по небу”.33 Именно благодаря ему осуществляется и наше путешествие, когда ум (νοῦς) направляется вниз через сферы 34 ко всем, кто в силах стать ему причастными. Когда бог взирает на нас и обращается к каждому из нас, тогда тела растут и расцветают, поскольку бог опекает (κηδεύοντоς) их посылаемыми сверху дарами (ἀκροβολισμοῖς) 35; когда же Бог возвращается назад в свою сторожевую башню 36 (περιωπή), все прекращается и ум живет независимо, наслаждаясь счастливой жизнью».37
Фр. 13 des Places (22 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 13–14, p. 538 b–c Viguier;
II, p. 42, 15–21 Mras
…Выслушай же, как Нумений богословствует о второй причине:
«Как земледелец относится к садовнику, так же первый бог – к демиургу.38 Один, как земледелец (γεωργόν), сеет семя всякой души во все вещи, которые способны принять его; другой, как законодатель, насаждает (φυτεύει), распределяет и пересаживает то, что было посеяно из этого источника в каждом из нас».39
Фр. 14 (23 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 15–19, p. 538 c–539 a Viguier;
II, p. 42, 22–43, 13 Mras
И далее он снова говорит о том, как вторая причина основывается на первой:
«Даримое переходит к принимающему и уходит от дарителя (таковы услуги, имущество, серебро и монеты) – все это смертное и человеческое. Напротив, божественные вещи таковы 40: когда они распределяются и передаются от од- ного к другому, они не теряются одним и без ущерба для него приносят другому прибыль (ὤνησις); и более того – сверхприбыль (προσώνησε), напоминанием о том, что он знал ранее.41 Эта замечательная вещь является прекрасным знанием, которое принимающий получает с пользой для себя, а дающий не утрачивает. Рассмотрим, например, как одна лампа получает свет от другой, причем первая не уменьшает своего свечения, передавая огонь материалу второй 42. Такой же вещью является и знание, которое, будучи переданным и полученным, одновременно и остается у дарителя, и прибывает у получателя. И причина этого, о чужеземец, нечеловеческой природы, и состоит она в том, что сущность, предрасположенная к знанию 43, – одна и та же у бога, дающего его, и у нас с тобой, его получающих. Ведь и Платон сказал, что мудрость была принесена человечеству вместе с блестящим пламенем факела Прометея».44
Фр. 15 des Places (24 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 20–21, p. 539a–b Viguier;
II, p. 43, 15–21 Mras
Ниже он добавляет:
«Таковы жизни соответственно первого и второго богов. Очевидно, что первый находится в покое, в то время как второй, в отличие от него, – в движении. Первый пребывает в умопостигаемом (τὰ νοητά), второй же связан и с умопостигаемым, и с чувственно воспринимаемым (τὰ αἰσθητά).45 Не удивляйся тому, что я сказал, сейчас ты услышишь еще более удивительные вещи. Вместо движения, присущего второму, я заявляю, что покой (στάσις), присущий первому, является его внутренним (σύμφυτον) движением, из которого рождается космический порядок и его вечное пребывание, и спасение (σωτηρία) распространяется на все вещи».46
КнигА V
Фр. 16 des Places (25 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 22, 3–5, p. 544a–b Viguier;
-
II, p. 49, 13–50, 8 Mras
В пятой книге он говорит следующее:
«Если сущность и идея умопостигаемы, и если мы признаем, что ум предшествует (πρεσβύτερον) им в качестве причины, тогда он один лишь обнаруживается как благо (αὐτὸς οὗτος μόνος εὕρηται ὢν τὸ ἀγαθόν). Если демиург – это бог творения, то благо – это начало сущности. Благо относится к богу-демиургу, который является его подобием, как сущность к творению, которое является ее образом и подобием.47 Если демиург – автор творения, благ, то демиург – создатель сущности, должен считаться абсолютным благом (αὐτοάγαθον), которое присуще ему по природе. В то время как второй, будучи двойственным, создает в качестве демиурга свою идею и космос, первый 48 полностью предан созерцанию. Итак 49, четырем именам у нас соответствует четыре сущности: (1) первый бог, благо абсолютное; (2) его подобие, демиург благой; (3) сущность, одна – первого; другая – второго; (4) подобие ее, прекрасный космос, украшенный 50 причастностью к красоте».
КнигА VI
Фр. 17 des Places (26 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 22–23, p. 539b–c Viguier;
-
II, p. 43, 22–44, 3 Mras
После этого в шестой книге он добавляет следующее:
«Платон знал, что только демиург известен людям, в то время как первый ум, именуемый бытием в себе (αὐτοόν) 51, – абсолютно непознаваем; поэтому он говорил, что тот будто бы обращается к нам с такими словами: “О люди, этот ум, который вы считаете (τοπάζετε) наивысшим, – не первый ум, ведь есть и другой, который прежде вашего, – он и древнее (πρεσβύτερος) и божественнее”».52
Фр. 18 (27 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 24, p. 539 c–d Viguier;
-
II, p. 44, 4–13 Mras
И ниже, среди прочего, он добавляет:
«Кормчий корабля, плывущего по волнам, возвышается над кормой и управляет судном со своего места, хотя его взор и ум устремляются ввысь, в небесный эфир; определяя свой курс по небу, он плывет внизу по морю. Точно так же и демиург, прочно связав материю гармонией, так, чтобы она не смогла разболтаться и заблудиться, сам располагается над ней, как в корабле над водой.53 Правя гармонией, он направляет ее с помощью идей, и вместо неба созерцая высшего бога, который притягивает его взор, обретает способность суждения (κριτικὸν) от созерцания, а устремление (ὁρμητικὸν) – от своего желания».
Фр. 19 des Places (28 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 22, 6–8, p. 544 c–d Viguier;
-
II, p. 50, 9–18 Mras
В той же шестой книге он затем говорит следующее:
«Вещи, причастные (τὰ μετίσχοντα) ему, не причастны ничему иному, кроме как разумению (τὸ φρονεῖν). Таким лишь образом они наслаждаются общением с благом, и никак иначе. Что же касается самого разумения, то оно есть собственность одного лишь первого. От него [разумения] все остальное получает цвет и благость, в то время как само оно принадлежит исключительно ему 54, – и только неразумная душа может это оспаривать. Если второй является благим не сам по себе, но по причастности к первому, как в таком случае возможно, что он, по причастности к которому второй становится благим, сам не есть благо, особенно если второй причастен ему в качестве благого? Ведь и Платон посредством силлогизма (ἐκ συλλογισμοῦ) показал каждому, кто ясно видит, что благо – это единое (τὸ ἀγαθὸν ὅτι ἐστὶν ἕν)».
Фр. 20 des Places (29 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 22, 9–10, p. 544 d Viguier;
-
II, p. 51, 2–9 Mras
И снова он говорит:
«Эти доктрины Платон излагал по-разному в разных местах. В частности, в Тимее он назвал демиурга благим в обычном смысле слова: Он был благ.55 В Государстве же он назвал благо идеей блага,56 полагая, что благо есть идея демиурга, поскольку нам он открывается как благо по причастности к первому и единственному. Люди, как говорят, являются отпечатками (τυπωθέντες) идеи человека, быки – идеи быка, лошади – идеи коня; точно так же и демиург благ по причастности к первому благу; в то время как идея блага будет первым умом, благом самим по себе (αὐτοάγαθον)».
Фр. 21 des Places (test. 24 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» I, p, 303, 27–304, 7 Diehl [на Тимей 28c]
Нумений воспел трех богов, первого из которых он называет отцом, второго – творцом (ποιητής), а третьего – творением (ποίημα); ибо космос, по его представлению, и есть третий бог. Ведь, как он утверждает, демиург двойственен:
он первый бог и второй, а его демиургическая активность (τὸ δημιουργούμενον) – третий.57 Однако лучше уж так говорить, нежели выражаться, как он, на трагический лад рассуждая о деде (πάππος), сыне (ἔγγονος) и внуке (ἀπόγονος). Сперва сказав это, неверно благо причислять к причинам. Оно ведь не сочетается с чем–либо еще и не становится вторым по рангу в сравнении с какой-либо иной вещью.58
Фр. 22 des Places (test. 25 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» III, p. 103, 28–32 Diehl
[Комментарий на Тимей 39e7: «Сколько и каких видов усматривает ум в живом как оно есть, столько же таких же он счел нужным осуществить в космосе».]
Первого бога Нумений сопоставляет (τάττει) с «живым как оно есть» и говорит, что тот мыслит при помощи второго (ἐν προσχρήσει τοῦ δευτέρου νοεῖν); второго бога он сопоставляет с умом и полагает, что тот творит при помощи третьего (ἐν προσχρήσει τοῦ τρίτου δημιουργεῖν); третьего же он сопоставляет с рассудочным [умом] (τὸν διανοούμενον).59
Из трактата «О позорном, согласно Платону»
Фр. 23 des Places (30 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию , XIII, 4, 4–5, 2, p. 650 c–651 a V.;
II, p. 177, 25–178, 12 Mras
[После цитаты из Евтифрона Платона (5e6–6c7).] Смысл этого объясняет Нумений в своей книге «О позорном, согласно Платону» (Περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι ἀπορρήτων),1 говоря следующее:
«Если бы Платон, решивши написать о богословии афинян, затем почувствовал отвращение к нему и вменил им в вину все эти сказки о ссорах между богами и песни о том, как одни боги совокупляются со своими детьми, а другие пожирают их, и как дети мстят за это своим отцам, а братья – братьям, и все тому подобное; если бы, говорю я, Платон взял и открыто осудил все эти истории, то он, как мне кажется, сам спровоцировал бы афинян на дурные дела, и они убили бы его так же, как ранее Сократа.2 Однако вместо того, чтобы выбрать жизнь в ущерб истине, он нашел способ сохранить как жизнь, так и истину. Выразив мнение афинян устами Евтифрона, человека хвастливого и глупого, к тому же совершенно не сведущего в богословии, устами Сократа он говорил сам, в типичной для него манере рассуждая и опровергая других».
Предварительные замечания
Около 265 г. до н. э. Кратета на посту главы Академии сменил Аркесилай из Питаны, который тут же изменил стиль академической философии, вернувшись, как он полагал, к изначально присущему ей методу сократического диалога.1 О подлинных причинах такого поворота можно только гадать. Джон Диллон (2005, 265–269) резонно замечает, что для лучшего понимания произошедшего необходимо рассмотреть философский контекст этой трансформации. Во многих отношениях уникальное сообщение философа неопифагорейца второго века н. э. Нумения имеет особую ценность именно в этой связи.
Диоген Лаэртий (IV 28–45) рассказывает о жизни Аркесилая относительно подробно, приводит сатирические стихи о нем (те же самые, что и Нумений) и некоторые из метких выражений, которыми он, как считается, прославился, но ничего не говорит о его учении, которого по стандартным меркам и не было, тем более, что «книг он, как утверждают некоторые, в силу воздержания от всяких суждений, не писал вовсе; другие же говорят, будто видели его за правкой каких-то сочинений, которые он то ли издал, то ли сжег» (DL IV 32). На пост главы школы он был избран, причем ему добровольно уступил некий Сократид (DL IV 32), и стал заметной фигурой на философской сцене.2 Главным противником и конкурентом Аркесилая был, несомненно, Зенон Китий-ский,3 который прибыл в Афины ок. 311 г. и в течение двадцати лет учился сперва у киника Кратета, затем у Стильпона и, наконец, у Полемона (DL
VII 2),4 а затем основал свою школу. Физика и этика Зенона во многих отношениях представляла собой творческое и довольно успешное развитие платонического учения, что не могло понравиться новому схоларху Академии.5 По-видимому, перед ним открывалось два пути: либо признать, что подлинным наследником Платона является не он, а Зенон, либо объявить платонизм Древней Академии (а, следовательно, и Зенона) уступкой догматизму и вернуться к истокам – к чистому и неискаженному позднейшими наслоениями учению Платона. Однако каково это подлинное учение? Результат работы Ар-кесилая Диоген (с неодобрением) описывает так (IV 28):
«Он первым стал воздерживаться от суждений при противоречивости противоположных аргументов, первым стал рассматривать вопросы с обеих сторон и первым сдвинул учение, завещанное Платоном, своими вопросами и ответами сделав его похожим на эристику».
В действительности, это был скорее скептицизм – в античном смысле слова σκέψις, «рассмотрение», «изучение» – программа, имеющая мало общего с политической софистикой и предполагающая в определенном смысле научное изучения явлений, как воспринимаемых органами чувств, так и постигаемых разумом. Аркесилай не отказывался от высказывания мнения безусловно (и наши информанты согласны с этим), однако хотел, во-первых, вернуться к методам ранних платоновских «сократических» диалогов и, во-вторых, не готов был принять решение проблемы критерия, предложенное стоиками, которые считали, что достоверное знание можно получить из опыта на основании «постигающих представлений».6 Кроме того, как показывают наши свидетельства, по складу характера он был прирожденным спорщиком, любящим светскую жизнь и публичные выступления.7
Последователи оценили демарш Аркесилая амбивалентно. Сторонники единства академической традиции начиная, по крайней мере, с Филона из Ла-рисы,8 доказывали, что Аркесилай использовал скептицизм как своего рода завесу, спасающую от нападок критиков, сам же в узком кругу учеников продолжал заниматься традиционными для платонизма темами.9 Это мнение упоминают Секст Эмпирик ( Пирроновы положения I 234) и Нумений (ниже, фр. 25), однако сами они в него не верят. Напротив, по их представлению, Ар-кесилай, говоря словами Нумения, «был во всем, кроме имени, пирронистом; академиком же не был, хотя и назывался». Того же мнения придерживался, вне всякого сомнения, и Антиох Аскалонский (I век до н. э.). Нумений из Апа-меи имел на этот счет особое мнение, которое он и выразил в трактате О неверности Академии Платону . Он не только в самых резких выражениях критикует Аркесилая и его последователей за отступничество и забвение подлинного учения Платона, но и помещает всю, за исключением долгого периода скептицизма, платоническую традицию в контекст пифагореизма. Подлинным источником учения Платона, по его убеждению, был Пифагор, и именно пифагорейская составляющая академического учения является той основой, возродив которую, можно постичь истинный смысл пифагорейско-платонического откровения. Разумеется, эта идея не нова. Платонизм был тесно связан с пифагореизмом с самого начала, и последующие авторы ясно это осознавали.10 Возрождение пифагореизма в I веке до н. э. только усилило эту тенденцию.
Рассуждая в Застольных беседах (VIII 2, 718c–720c) о том, в каком смысле Платон считал, что бог всегда остается геометром, Плутарх, со ссылкой на перипатетика Дикеарха, вопрошает:
«Не намекнул ли Платон, незаметно для тебя, на нечто близкое, подмешав к Сократу Ликурга не в меньшей степени, чем Пифагора? Ты, конечно, знаешь, что Ликург отменил в Лакедемоне арифметическую пропорциональность, как демократическую и охлократическую, и ввел вместо нее геометрическую, подобающую разумной олигархии и конституционной монархии» (719а, пер. Я. М. Боровского).
Об этой «пифагорейской» интерпретации Аристотелевой теории справедливости (ср. Никомахова этика V 7–8, 1131b9 сл.) мы упоминаем в данном случае потому, что ниже в фр. 24 читатель встретит это же сравнение в связи с эпикурейской школой и Академией. Современник Нумения платоник и софист Апулей, пересказывая биографию Пифагора во Флоридах , также замечает: «Что же касается нашего Платона, то он во всем, или почти во всем согласен с этой школой и чаще всего рассуждает подобно пифагорейцам» (XV, пер. С. П. Маркиша). Подобное впечатление у Апулея складывается потому, что в его время уже было непонятно, «Платон ли пифагорействует, или же Пифагор платонствует». Однако позиция Нумения значительно радикальнее и для второго века выглядит несколько экстремистской, напоминая идеи позднейших пифагорействующих неоплатоников.11
В заключение скажем несколько слов об источнике, в котором сохранились публикуемые ниже фрагменты. Ученый христианин Евсевий Кесарийский (ок. 260–339) предпринял, наверное, самую масштабную (в смысле размеров) апологию христианства в патристической литературе. Первая ее часть – Приготовление к Евангелию – представляет собой пространную антологию, составленную из сочинений греческих авторов, в то время как вторая – Доказательство Евангелия – посвящена проблематичным отношениям между иудейскими и христианскими писаниями. Интересующее нас Приготовление к Евангелию, в отличие от, например, Библиотеки Фотия, состоит из дословных выдержек из античных авторов, а не пересказов. В то же время от Антологии Стобея ее отличает особая позиция автора. Именно задача Евсевия в этом труде (прежде всего, в книгах X–XII) состоит в том, чтобы утвердить авторитет иудейского писания и показать, что греческая философия зависит от иудейской. Эту экстраординарную для современного читателя идею в поздней античности разделяли многие авторы начиная по крайней мере с Аристобула, александрийского иудейского философа и экзегета, жившего во времена Птолемея VII Филометора (ок. 175 г. до н. э.).12 Александрийцы Филон и Климент разработали эту идею в деталях, Евсевий полностью согласен с ними 13 и в подтверждение своих слов приводит высказывание нашего Нумения: «Τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωσῆς ἀττικίζων».14 Разумеется, это высказывание Нумения не означает, как иногда можно услышать даже от современных авторов, что он возводил греческую философию к иудейской.15 Скорее всего, его привлекала идея единства откровения, позволяющая объяснить близость важнейших теологических позиций эллинов и иудеев, – «эклектическая» установка, характерная для периода поздней античности.16
Е. В. А фонасин
Ф Р . 24–28 DES P LACES (1–8 L EEMANS )
[Предварительное замечание Евсевия] Приготовление к Евангелию XIV, 4, 1–15: Так Платон осуждал своих предшественников натурфилософов. Его собственные мнения об этом мы рассмотрели в предыдущих книгах, показав согласие между ними и доктринами евреев, а также учением Моисея о бытии. После самого Платона рассмотрим его преемников. Говорят, что Платон, основав свою школу в Академе, сам был назван академиком и стал родоначальником так называемой академической философии. Платону наследовал Спевсипп, сын сестры Платона Потоны, его сменил Ксено-крат, а затем Полемон. И они, как сообщается, сразу же начали разрушать учение Платона, у домашнего очага разделяя то, что было ясно их учителю, и вводя чужеродные учения, так что, как и следовало ожидать, мощь его великолепных диалогов в скором времени ослабла, а передача учения прекратилась сразу же после смерти его создателя, ибо между ними тут же начались склоки и разногласия, которые не прекращаются и поныне. И никто больше не горит желанием развивать учение, которое так любил их учитель; в настоящее время едва ли найдутся один или два таких человека, и до этого их было немного; но даже и они не вполне свободны от ложной софистики, ведь и самые первые наследники Платона не избежали подобного.
Преемником Полемона, как говорят, стал Аркесилай 1, который, как сообщается, предал учение Платона и основал другую, так называемую вторую Академию. Он утверждал, что мы должны воздерживаться от суждения о чем-либо, потому что ничто не может быть постигнуто достоверно и по любому поводу можно выдвинуть равные по силе аргументы, и что чувства и разум в целом не заслуживают доверия. К примеру, он хвалил Гесиода, сказавшего, что «скрыли великие боги от смертных» 2 человеческую мысль. Любил он также вводить различные парадоксальные новшества. После Аркеси-лая, как сообщается, Карнеад и Клитомах в свою очередь оставили мнения своих предшественников и основали третью Академию. Далее одни добавляют к ней еще и четвертую, в которую входят последователи Филона и Хармида, в то время как другие говорят о пятой, основанной Антиохом.
[727a] Таковы были сами преемники Платона: что же касается их личных качеств, возьми и прочитай слова пифагорейца Нумения, который в первой книге трактата О неверности Академии Платону (Περὶ τῆς τῶν Ἀκαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως) 3 так высказывается об этом:
Фр. 24 des Places (1 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XIV, 4,16–5,9, p. 727a–729b V.;
II, p. 268, 11–271, 6 Mras)
-
[b] «Во времена Спевсиппа, племянника Платона, Ксенократа, преемника Спев-сиппа, и Полемона, который принял школу от Ксенократа, учение оставалось по большей части неизменным, потому что пресловутое “воздержание от суждения” (ἐποχή) 4 и другие подобные учения еще не появились. В одном отношении он [Ксенократ] ослабил, в другом превратно истолковал исходное наследие, не сумев сохранить его неизменным. [c] Сразу же после смерти Платона, раньше или позже, намеренно или бессознательно, он начал отступать от исходного учения, возможно, по каким-то иным причинам, а не только из честолюбия. По поводу Ксенократа я не желаю говорить дурно, мне важно защитить Платона. Меня уязвляет то, что не все изведали, не все сделали они, стремясь всегда и во всем соблюсти полное согласие с Платоном. Ведь хотя для них Платон и не лучше великого Пифагора, но тем не менее едва ли в чем-то уступает ему; ведь именно его приверженцы, следуя ему и окружив его почитанием, стали главной причиной того, [d] что Пифагор ныне стяжает величайшую славу 5. Взгляните на эпикурейцев, хотя они и ошибаются; они твердо усвоили данное правило и ни разу не были замечены в отступлении от учения Эпикура; признавая, что придерживаются мнения этого мудреца, они естественно и по праву сами называются его именем: поэтому среди младших эпикурейцев почти незыблемым стало правило никогда не спорить друг с другом, не противоречить Эпикуру и не говорить о том, что не заслуживает упоминания; они считали это беззаконием (παρανόμημα) или скорее нечестием, поэтому любое новшество было запрещено. [728a] Никто не осмеливался противоречить, потому и учение их пребывало в покое благодаря постоянному взаимному согласию. Школа (διατριβὴ) Эпикура
подобна истинной республике (πολιτείᾳ), где никто не подстрекает к бунту и в которой царит единодушие и всеобщее согласие. А все потому, что они были, есть и, вероятно, останутся верными учениками.
Напротив, стоическая школа со времени основания и до сих пор раздираема разногласиями. Им нравится заманивать друг друга в хитрые ловушки; причем одни до сих пор остались такими же, а другие изменились. [b] Так что основатели этой школы подобны неумеренным олигархам, которые, ругаясь друг с другом, стали примером для последователей, до сих пор соревнующихся со своими предшественниками и друг с другом за право считаться лучшим стоиком, особенно в том, что касается всевозможных частностей. Ведь те из них, которые поднаторели в разборе утомительных мелочей и освоили различные уловки, быстрее других замечают ошибки. Но задолго до них в том же духе рассуждали и ученики Сократа (οἱ ἀπὸ Σωκράτους), каждый из которых пошел своим путем: Аристипп одним, [c] Антисфен – другим, а мегарики и эретрийцы – каждый своим, увлекая следом за собой других. Причина же состоит в том, что в то время как Сократ устанавливал трех богов и в философских беседах рассуждал о каждом из них подобающим образом (ῥυθμοῖς), его слушатели этого не понимали и думали, что он все говорит наобум, волею случая избирая то одно, то другое, как словно его вел дух.
Платон же был пифагорейцем (он знал, что Сократ черпал именно из этого источника, и прекрасно понимал, о чем тот говорит); [d] поэтому он сам выражал эти вещи способом необычным и неочевидным. Изъясняясь в каждом случае подобающим образом, открывая и утаивая одновременно, он надежно сохранил написанное, однако собственными руками создал предпосылки для разногласий и кривотолков по поводу своего учения, хотя и сделал это не из зависти и незлонамеренно: я не произнесу дурного слова о древних.
Поэтому и следует нам, поучившись, обратиться скорее сюда, к этому знанию, и подобно тому, как мы, изначально выделяя его, предпочитали Аристотелю и Зенону, так и теперь предпочитаем его Академии, [729a] если только возможно этого бога постигнуть умом; выделяя его, предоставим ему отныне оставаться самим собой, а именно – пифагорейским [богом]. Ведь теперь безумнее, чем это подобало бы какому-нибудь Пенфею,6 страждет он членами, когда его тянут в разные стороны, меж тем как, будучи совершенным, он в своей цельности никогда не переменяет своих мнений в пользу той или другой стороны. Как человек, оказавшийся между Пифагором и Сократом, он [Платон] преобразил величавость первого в человеколюбие последнего, а остроумие и игривую иронию последнего возвысил до основательности и значительности первого; [b] приготовив смесь (κεράσας) из Пифагора и Сократа, он стал приветливее (δημοτικώτερος) одного и величественнее другого».
Фр. 25 des Places (fr. 2 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XIV, 5, 10–6, 14, p. 729 b–733 d V.; II, p. 271, 7–277, 9 Mras
[729b] «Однако рассказать я хотел вовсе не об этом. Мое исследование касается совсем другого, поэтому, думаю, нам лучше вернуться на прежний путь, дабы совсем не сбиться с дороги.
Учениками (γνώριμοι) Полемона стали Аркесилай и Зенон. Я хочу упомянуть о них еще раз. Если я правильно помню, о Зеноне говорят, что он сначала следовал за Ксенократом, а затем учился у Полемона, после чего стал киником при Кратете. [c] Заметим еще, что он учился у Стильпона, а также изучал изречения Гераклита. Ученики Полемона Аркесилай и Зенон соперничали друг с другом, причем в этом обоюдном споре один из них [Зенон] взял в союзники Гераклита, Стильпона, а также Кратета. Стильпон сделал его спорщиком, Гераклит научил резкости, а Кратет – кинизму. Другой же, Аркесилай, встал на сторону Теофраста, платоника Крантора и Диодора, а кроме того – Пиррона. [d] Благодаря Крантору он стал убедителен, благодаря Диодору сделался софистом, а благодаря Пиррону – всеядным, дерзким и пустым (παντοδαπὸς καὶ ἴτης καὶ οὐδέν). Таков смысл оскорбительной эпической строки, написанной о нем:
Ликом Платон, задом Пиррон, Диодор серединой .
Согласно же Тимону, он учился у Менедема и благодаря ему освоил эристику:
В сердце имея своем тяжелый свинец Менедема, К туше Пиррона он прянет или спешит к Диодору. 7
[730a] Соединив вместе утонченность Диодора-диалектика и рассудительность Пиррона-скептика, он низвел возвышенные речи Платона до напыщенного словоблудия, утверждающий и отрицающий, подходящий то с одной стороны, то с другой (все по воле случая), вечно меняющийся (παλινάγρετος) и путаный (δύσκριτος), лживый и решительный одновременно, а также “ничего не знаю-щий”,8 как он сам по наивности говорил о себе. Правда, затем он выказал себя подобным тем, которые знают во всевозможных вычурных своих речах. [b] Как гомеровский Тидид, который неизвестно «с кем воевал, с племенами троян, с племенами ль ахеян?»,9 так же непонятен и наш Аркесилай. [c] Ведь придерживаться в чем-либо одного и того же положения было для него невозможным делом, да и не рассуждал он никогда так, как это принято у разумных людей. Потому и зовется он
Хитрый софист, убийца новичков .10
Своими призрачными речами, подготавливающими и обучающими, он зачаровывал и околдовывал как Эмпус 11, сам ничего не зная и не позволяя узнать другим. Запугивая и запутывая, он уходил в софистику и обманчивые речи, наслаждаясь своим бесчестием и безмерно гордясь тем, что не знает, как отличить постыдное от благого, хорошее от плохого, [d] и, сначала высказав все, что только приходило ему в голову, он снова изменял свое мнение и разрушал только что созданное еще более разнообразными способами. Он расчленял себя и был расчленяем на куски, словно гидра, не отличая одну часть от любой другой и не признавая никаких приличий. Однако слушателям он доставлял удовольствие, причем, слушая его речи, они заодно отмечали и то, что он хорошо выглядит. Получая удовольствие от того, что слышат и видят, они постепенно начинали принимать и его аргументы (τοὺς λόγους), ведь лицо и уста его были прекрасны, а глаза светились огнем. Я говорю это не просто так, ведь таков был его характер. [731a] В ранней молодости сойдясь с Теофрастом, человеком ласковым и влюбчивым, затем, все еще в расцвете своей молодости, он вызвал любовь академика Крантора и последовал за ним. Будучи человеком от природы не без дарований, он быстро и легко прошел весь курс обучения и – любитель поспорить – перенял у Диодора все эти убедительные и изящные хитрые увертки. Кроме того, он посещал и Пиррона (который, так или иначе, обучился у Демокрита 12). Вооружившись всем этим, он стал во всем, кроме имени, подобен пирронистам, как и они, все опровергая (ἀναιρέσει). [b] По крайней мере Мнасей, Филомел и Тимон, сами скептики, его также считали скептиком, потому что он отвергал и истинное, и ложное, и убедительное. Приверженец пирронистской доктрины, он вполне мог бы называться последователем Пиррона, однако из уважения к своему возлюбленному он согласился остаться академиком. Так что был он во всем, кроме имени, пирронистом; академиком же не был, хотя и назывался. Я не разделяю мнения Диокла из Книда 13, который в своей так называемой Диатрибе утверждал, [c] будто бы Аркесилай испугался последователей Теодора и софиста Биона 14, которые имели обыкновение нападать на философов, и, не решившись сразиться с ними, занял осторожную позицию во избежание неприятностей, вместо того чтобы показать себя приверженцем какой-либо догмы, как каракатица чернилами, прикрывшись тезисом о «воздержании от суждения» (ἡ ἐποχή). Однако я в это не верю.
Оба эти спорщика, Аркесилай и Зенон, вышедшие из одной школы и вооруженные одинаковым словесным оружием, забыв об общем источнике, По-лемоне, чуть разойдясь, [d] «выстроились в боевой порядок» 15:
Разом столкнулися кожи, сразилися копья и силы
Воинов, медью одеянных; выпуклобляшные разом
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный…
Щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком…
Вои одни на других; человек с человеком сцеплялся….
[732a] Вместе смешались победные крики и смертные стоны
Воев губящих и гибнущих…
– стоиков, не выдержавших натиска академиков, потому что они не сразу поняли, какое место нужно защищать в первую очередь. Разбиты и потрясены до основания должны были быть те из них, которые не сумели сохранить в битве ни изначального принципа, ни исходной позиции. Изначальным же принципом было показать, что противник говорит не так, как подобает платонику, а исходная позиция терялась бы теми, кто хотя бы в чем-то изменил свое определение «постигающего представления» (τῆς καταληπτικῆς φαντασίας).
Сейчас не время говорить об этом, однако я намерен вернуться к этому сюжету в подходящем месте. [b] Когда дело дошло у них до открытой схватки, не разом они сошлись друг с другом, а Аркесилай первым напал на Зенона. А Зенон в полемике проявлял определенную величавость и неповоротливость, что помогало ему не больше, чем Кифисодору (Κηφισόδωρος) его риторика. Ведь этот последний, встав на защиту своего учителя Исократа, которого атаковал Аристотель, не понимая существа дела и не будучи знаком с учением Аристотеля, узнав, что сочинения Платона были в большом почете, и решив, что философия Аристотеля согласуется с ними, ударил по Платону, думая, что воюет против Аристотеля. [c] Начав с «идей», он закончил критикой других учений, о которых сам ничего не знал, но лишь догадывался на основании общепринятых изложений.16 Так, Кифисодор, с кем хотел воевать, не воевал, а на кого не хотел нападать, с тем подрался. Когда Зенон, сразившись с Аркесилаем, воздерживался от критики Платона, он выказал себя, по моему мнению, прекрасным философом, как раз благодаря такому миролюбивому настрою. [d] Однако, возможно, имея представление о мнениях Аркесилая, но не зная Платона, насколько можно судить по тому, что он написал против него, он не достигал своей цели, нападая на того, кого не понимал, и оскорбляя грубо и безнравственно человека, которого не вправе был трогать, обращаясь с ним хуже, чем какой-нибудь киник. Разумеется, он проявил душевное благородство, отвергая Аркесилая. Ведь либо по причине незнания мнений Аркесилая, либо потому, что стоики боялись «погибельной брани огромную пасть»,17 он обратился против другого, то есть Платона. [733a] Однако о дурном и позорном выступлении Зенона против Платона я расскажу отдельно, если сумею найти свободное время для занятий философией. Однако едва ли я найду для этих целей столько свободного времени – разве что только ради забавы.
Когда Аркесилай увидел в Зеноне искусного соперника и достойного противника, он тут же выступил против высказанных им положений. О других причинах их раздоров я не могу сейчас говорить, а если бы и мог, то все равно упоминать о них нет никакой надобности. [b] Видя, какой известностью пользуется в Афинах впервые введенное им учение и само название, «постигающее представление (τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν)»,18 Аркесилай начал бороться с ним всеми доступными ему способами. Однако Зенон, занимая более слабую позицию и чувствуя себя вне досягаемости до тех пор, пока хранил молчание, уклонился от выпада Аркесилая, хотя ему было чем отразить его; не желая совсем отступать, он вместо этого набрасывается на тень Платона, которого уже не было в живых, и криками с повозки шумит на все шествие (τὴν ἀπὸ ἁμάξης πομπείαν πᾶσαν κατεθορύβει),19 что, мол, сам Платон вряд ли сможет защитить себя, и никому больше до этого нет дела; ведь, как он думал, если Аркесилай вознамерится вступиться за Платона,20 то он выиграет, отведя выпад Аркеси-лая от себя. [c] Он знал, что Агафокл Сиракузский проделал такой же трюк с карфагенянами.21
Стоики слушали и недоумевали: их словолюбивая «муза не шла в наем» 22 с Харитами Аркесилая, благодаря которым он раздавал удары налево и направо, ниспровергая одних, отсекая других, малодушно подставляя подножку третьим, так что каким-то образом сумел их убедить. [d] Когда же противники были низвергнуты, а слушатели пребывали в унынии, люди того времени пришли к убеждению, что ни слово, ни чувство, ни любое самое малое или бесполезное дело не есть нечто сущее (μηδὲν εἶναι μήτ' οὖν ἔπος μήτε πάθος μήτ' ἔργον ἓν βραχὺ μηδ' ἄχρηστον) или ему противоположное, если это не согласуется с речами Аркесилая из Питаны. Однако сам он не придерживался определенного мнения, как мы уже сказали, и не изрекал ничего отчетливого, за исключением разных словечек (ῥηματίσκια) 23 и прорицаний».
Фр. 26 des Places (fr. 3 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XIV, 7, 1–15, p. 734 a–737 a V.;
II, p. 277, 12–281, 8 Mras
[734a] «О Лакиде я расскажу одну забавную историю.24 Лакид был скуповат, вроде пресловутого “домовладыки”.25 Этот всеми уважаемый человек имел обыкновение лично открывать свою кладовую и сам же ее закрывал. [b] Он брал оттуда все, что нужно, проделывая эту процедуру собственноручно вовсе не потому, что одобрял “независимость” (αὐτάρκεια), и не потому, что был беден и ему недоставало слуг. Слуг у него, разумеется, было достаточно. Так что истинную причину нетрудно угадать. Однако перейду к обещанной истории. Собственноручно занимаясь домашним хозяйством, он решил, что незачем постоянно носить с собой ключ, поэтому, закрыв кладовую, прятал ключ в пустой ящичек для письменных принадлежностей (κοῖλον γραμματεῖον) [c] и, опечатав его перстнем, оставлял перстень дома, опустив его через замочную скважину так, чтобы, вернувшись домой и отворив дверь ключом, тут же подобрать перстень, затем закрыть, потом опечатать и после этого опустить перстень внутрь через замочную скважину.26 Разгадав эту нехитрую уловку, слуги открывали кладовую сразу же после того, как Лакид уходил погулять или же по какой иной надобности. Насытившись и напившись вдоволь и прихватив с собой все, что хотели, они проделывали все в обратном порядке, закрывали, опечатывали и, от души потешаясь над “самим” 27, опускали перстень в замочную скважину. [d] Оставляя свои сосуды полными и затем обна- руживая их пустыми, Лакид пребывал в недоумении, однако услышав как Арке-силай философствует о “непостижимости” (ἀκαταληψία), решил, что это именно то самое,28 что случается с его кладовой. Так он начал под руководством Аркеси-лая осваивать философию, согласно которой невозможно ничего увидеть или услышать ясно и здраво.29 Как-то раз, пригласив к себе в дом одного знакомого, он начал с невероятной настойчивостью убеждать его в необходимости “воздержания от суждения” и заявил: “Это я могу тебе неоспоримо показать, причем на собственном опыте, а не с чужих слов”. [735a] Затем он начал 30 рассказывать о всех тех напастях, которые случаются с его кладовой. “Что же теперь, – заключил он, – скажет Зенон о непостижимости столь явно открывшейся мне при данных обстоятельствах? Ведь я же закрыл ее своими руками, лично опечатал, сам опустил перстень внутрь, а когда вернулся и открыл кладовую, то увидел внутри свой перстень, но не остальное имущество. Разве я вправе сомневаться в столь явном случае? Ведь предположение о том, что кто-то вошел и украл вещи, необходимо исключить, так как перстень был внутри”. [b] Его знакомый – а он был довольно несдержанным человеком – выслушивал все это, пока его терпение не лопнуло. Тогда он разразился громким смехом и, с трудом сдерживая себя, попытался опровергнуть это его глупое умозаключение (κενοδοξία). С тех пор Лакид больше не опускал перстень внутрь и перестал приводить свою кладовую в качестве примера “непостижимого”, постигнув 31 свои утраты и никчемность такого рода философствования.
-
[c] Однако его слуги были отъявленными жуликами и поймать себя одной рукой не позволили,32 подобно тем рабам, которых можно увидеть в комедии, вроде Геты и Дака, громогласно кричащих на дакийском наречии.33 Услыхав стоические софизмы или же узнав о них каким-либо иным образом, они совсем обнаглели и, сняв печать, иногда заменяли ее другой, а иногда даже этого не делали, потому как считали, что для него равно “непостижимо” и то и другое. Возвращаясь, он имел обыкновение делать проверку. [d] Увидев коробочку без печати или запечатанной другой печатью, он очень злился. Когда же они говорили, что она запечатана, потому что они собственными глазами видят печать, он пускался в тонкие рассуждения и опровержения. Признав свое поражение, они высказывали предположение, что если печати нет, то, возможно, он сам забыл ее поставить. “Да нет же, – говорил он, – я точно помню, как собственноручно ставил печать!” – и снова начинал свои опровержения и упреки,
проклиная их проделки. Отражая его атаки, они решили, что он их разыгрывает, ведь, будучи философом, Лакид решил, что должен воздерживаться как от мнения, так и от воспоминания, потому что воспоминание – это также мнение. Незадолго до этого он убеждал именно так одного своего друга, по их словам. [736a] Когда же он опровергал их аргументы в отнюдь не академических выражениях, они отправлялись в школу какого-либо стоика, дабы лучше затвердить то, что следует говорить (τὰ λεκτέα), и, поднаторев, готовы были ответить софистикой на его софистику, превосходя в своем жульничестве даже академиков. Он обвиняет их в стоицизме, его же слуги – не скрывая насмешек – отвергают его возражения аргументом “от непостижимости”. [b] Идут всесторонние дискуссии, аргументы сталкиваются с контраргументами; между тем в доме не осталось ничего: ни сосуда, ни того, что он вмещает, ни каких-либо иных предметов обстановки.
Некоторое время Лакид пребывал в недоумении, видя, что опора на собственное учение нисколько не помогает, и что если он не сможет опровергнуть своих противников, то утратит все те блага, которыми владеет. Совсем обессилев, он начал призывать на помощь соседей и богов, говоря: “О! О!”, “Увы! Увы!”, “Боги!” и “Богини!” и произнося все тому подобные безыскусные восклицания, при помощи которых люди пытаются утвердиться в вере в момент смятения, – так он кричал громко и самоуверенно.
-
[c] Наконец, так как эта битва противоречий шла у него дома, он сам, можете быть уверены, занял стоическую позицию (ἐστωϊκεύετο) по отношению к своим слугам; а поскольку они продолжали настаивать на академической доктрине, он сам, дабы положить конец их бесчинствам, сделался домоседом и все время проводил возле своей кладовой. Однако и эта мера оказалась бесполезной. Тогда только он начал подозревать, что дело в его философии, и наконец открыто признался: “Наши школьные рассуждения, дети мои, – это одно, а жизнь – совсем другое.”».
-
[d] Вот что сообщается о Лакиде.34 У него было много слушателей, из которых выделялся Аристипп из Кирены.35 Однако из всех учеников преемником его стал Евандр, а за ним последовали другие.36
После них школу принял Карнеад и основал третью Академию. В своих речах он применял те же методы, что и Аркесилай: точно так же он имел обыкновение выискивать противоречия, а аргументы своих противников обращал против них же самих. Отличался он лишь в понимании принципа воздержания от суждения, говоря, что человек не может воздерживаться от абсолютно всех суждений, поэтому следует отличать «неясное» (τὰ ἄδηλα) от «непостижимого» (ἀκατάληπτα), и что, хотя все вещи непостижимы, не все они неясны. [737a] Был он знаком и со стоическим учением и прославился благодаря спору со стоиками, стремясь не к истине, а к тому, что казалось убедительным большинству. Так он создал для стоиков много затруднений».
Вот как об этом пишет Нумений.
Фр. 27 des Places (fr. 4–7 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XIV, 8, 1–15, p. 737 b–739 a V.; II, p. 281, 11–284, 9 Mras
[737b] «Став главой школы после Гегесина 37, Карнеад пренебрег теми доктринами, которые должен был сохранить, как изменившимися, так и оставшимися без изменений, и, возведя все их к Аркесилаю, на благо или на беду возобновил давний спор».38
Затем он добавляет:
«Он выдвигал (предположения) и отвергал их, бросая в бой противоречия и всевозможные частные уловки, одновременно отрицая и утверждая и противореча во всех смыслах: [c] и как только дело доходило до удивительных речей, он тут же вздымался, как бурная река, вышедшая из своих берегов и заливающая окрестности, нападал на своих слушателей и увлекал их за собой в шумящий поток. Сбивая с толку других, сам он не поддавался обману, – чего не было у Аркесилая. Ведь последний, потчуя своих собеседников, охваченных общим энтузиазмом (τοὺς συγκορυβαντιῶντας),39 обманным снадобьем, не замечал, как сам первым неощутимо для себя вовлекался в обман, приняв все это сам и уверившись в истинности своих слов. [d] Но новая напасть в дополнение к старой, Аркесилаю, – Карнеад немногим отличался от первой: он не соглашался даже на малейшую уступку, разве что в случаях, когда его оппоненты могли быть обессилены таким способом в применении того, что он называл утвердительным и отрицательным вероятностным представлением, устанавливающим, является ли данная сущность живым существом или неживым. Понемногу продвигаясь вперед, подобно дикому зверю, который, отступив, снова с яростью бросается на острие копья, он, ненадолго отступив, наносил еще более мощный удар. А утвердившись на этой позиции и успешно победив противника, он мог добровольно отказаться от своего мнения и никогда не вспоминать о нем.
[738a] Признавая, что во всех вещах есть как истина, так и ложь, он как бы предлагает сотрудничество в исследовании и, подобно опытному атлету, на время уступив, снова берет верх. Взвесив относительную правдоподобность каждой позиции, он затем говорит, что ни одна из них не может быть ухвачена достоверно (βεβαίως καταλαμβάνεσθαι). Он был более искусным разбойником и фокусником [по сравнению с Аркесилаем]. Ведь вместе с истиной он брал похожую на нее ложь, а вместе с “постигающим представлением” 40 рассматривал и подобное ему представление, а затем, уравновесив их на чашах весов, заявлял, что нет ни истины, ни лжи, и что одного здесь не больше другого, и что вероятность одного не больше, чем другого (οὐ μᾶλλον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἢ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πιθανοῦ). [b] Так сон переходит в сон, а ложное представление становится подобным истинному, как от воскового муляжа к настоящему яй-цу.41 Так что вреда это принесло немало, однако Карнеад увлекал людей и покорял их души.42 Скрытный вор и явный грабитель, он способен был поработить хитростью или силою 43 даже хорошо подготовленного противника. Всякое мнение (διάνοια) Карнеада побеждало, и никакое другое, потому как его противники были менее искусны в речах.
-
[c] Например, Антипатр,44 который был его современником, начал было писать полемическое сочинение против него, однако, выслушивая день изо дня непрекращающийся поток речей Карнеада, он не решился представить его на суд публики, ни в школе, ни во время прогулок (οὐκ ἐν ταῖς διατριβαῖς, οὐκ ἐν τοῖς περιπάτοις), и не произнес ни единого слова, – никто, как говорят, не услышал от него об этом ни звука. Однако он продолжал записывать свои возражения и, забившись в угол (γωνίαν λαβὼν),45 писал книги, которые завещал своим преемникам, однако они бессильны сейчас, а ранее были еще бессильнее в сравнении с величием и славой Карнеада, которыми он обладал в глазах сво-
- их современников. [d] Однако разжигая страсти на публике из желания ниспровергнуть стоиков, среди своих друзей втайне он мог соглашаться, говорить откровенно и позитивно высказываться о вещах, как обычный человек». 46
После этого идет следующее:
«Ментор поначалу был учеником Карнеада, однако преемником не стал. Дело в том, что Карнеад застал его со своей любовницей, и эта сцена предстала перед ним не как “убедительное представление” (πιθανῆς φαντασίας) и не как “непостижимое” (μὴ κατειληφώς), а как нечто вполне достоверное и очевидное – за это изгнал его из школы.47 Удалившись, тот стал его соперником как в софистике, так и в искусстве спора, опровергая то представление о “непостижимости” (ἀκαταληψίαν), которому он учил в своих речах».
Затем он добавляет:
[739a] «Обучая противоречивой философии, Карнеад гордился ее ложными положениями (τοῖς ψεύμασιν), скрывая за ними истину. Он использовал эти ложные положения как занавес, и, прячась за ними, высказывал истину, подобно фокуснику. Так что обладал он тем же недостатком, что и бобы: ведь пустые бобы плавают на поверхности и хорошо заметны, а добрые лежат внизу и скрыты от глаз».
Вот что говорят о Карнеаде. После него диадохом стал Клитомах 48, а затем Филон, о котором Нумений сообщает следующее:
Фр. 28 des Places (fr. 8 Leemans)
Евсевий, Приготовление к Евангелию XIV, 9, 1–4, p. 739 b–d V.;
-
II, p. 284, 11–285, 3 Mras
[739b] «Приняв школу, этот Филон поначалу преисполнился радости. Из признательности он окружил почетом и стал превозносить учения Клитомаха,49 [c] и против стоиков “покрылся блистательной медью”.50 Однако по прошествии времени, когда учение академиков о воздержании от суждения (τῆς ἐποχῆς) поистрепалось и он уже сам так не думал, «очевидность» чувств (ἐνάργεια) и «согласие» с ними (ὁμολογία) вынудили его изменить свою точку зрения. Уже со всей четкостью осознавая это, он тогда очень хотел – так и знай – найти того, кто бы его опроверг, чтобы не казалось, что он, “обращая хре-бет”,51 бежит добровольно.
Учеником Филона был Антиох, который основал другую Академию. [d] По крайней мере, он принадлежал к школе (σχολάσας 52) стоика Мнесарха, выступил против Филона и добавил к учению Академии множество чуждых элементов».
Трактат «О нетленности души»
Фр. 29 des Places (fr. 31 Leemans)
Ориген, Против Кельса V, 57; II, p. 60 Koetschau (= Хрисипп, свидетельство 23 SVF II, пер. А. А. Столярова)
Странные вещи иногда открываются людям, и среди эллинов их рассказывали не только те, кого подозревали в создании мифов, но и люди, отмеченные подлинным философским дарованием и стремившиеся откровенно высказать то, что пришло им на ум. Такие вещи мы нашли, например, у Хрисиппа из Сол, и кое-где в связи с Пифагором, а также у позднейших писателей, которые родились сравнительно недавно, например, у Плутарха из Херонеи в книгах О душе и пифагорейца Нумения во второй книге трактата О нетленности души .
Космос и душа ( ФР . 30–33, 60, 34–51)
Фр. 30 des Places (test. 46 Leemans)
Порфирий, О пещере нимф 10, p. 12, 12–17 Westerink
Эта пещера,1 имея в себе неиссякаемые источники влаги, является символом не интеллигибельной, а чувственной сущности. Это не было святилище оре-стиад (горных) или акрейских (вершинных) нимф, или каких-либо еще. Оно было святилищем наяд, получивших свое имя от потоков.2 Нимфами-наядами мы называем собственно потенции, присущие воде; они же [пифагорейцы?] так называли вообще все души, нисходящие в мир становления. Предполагалось, что души эти соединяются с влагой, движимые божественным духом, как, по словам Нумения, сказал и пророк: «Дух божий носился над водой».3 Поэтому и египтяне представляли себе все божества не стоящими на чем-либо твердом, а [стремительно летящими] на кораблях – в том числе и солнце, и вообще всех 4: под ними следует понимать души, парящие над влагой и нисходящие для становления. Поэтому Гераклит сказал, что душам наслаждение, а не смерть стать влажными, наслаждение же для них – падение в рождение. В дру- гом месте он говорит: «Мы живем их смертью, а они живут нашей смертью».5 Соответственно этому поэт 6 называет находящихся в становлении «влажными», «имеющими влажные души», им приятны кровь и влажное семя, как и душам растений – питающая их вода.7
Фр. 31 des Places (test. 43 Leemans)
Порфирий, О пещере нимф 21–24, p. 22, 2–24, 3 Westerink
Теперь мы должны выяснить намерение поэта: передает ли он в рассказе о пещере то, что считает фактом, или здесь нечто загадочное или поэтический вымысел. Нумений и его друг (ἑταῖρος) Кроний, имея в виду, что пещера есть образ и символ космоса, говорят, что небо имеет два предела – один не южнее зимнего тропика, другой – не севернее летнего. Летний же тропик находится около созвездия Рака, зимний – около созвездия Козерога. Так как созвездие Рака к нам ближе всего, то вернее всего отводить его к Луне как наиболее близкой к нам. Южный полюс для нас уже невидим, и поэтому созвездие Козерога более всего соответствует самой удаленной и выше всех стоящей планете [Кроносу, то есть Сатурну]. В промежутке между Раком и Козерогом знаки зодиака расположены в следующем порядке: сначала Лев, жилище Гелиоса [Солнца], потом Дева – жилище Гермеса [Меркурия]; затем идут: Весы – жилище Афродиты [Венеры], Скорпион – жилище Ареса [Марса], Стрелец – жилище Зевса [Юпитера], Козерог – жилище Кроноса [Сатурна]. В обратную сторону от Козерога идут: Водолей – жилище Кроноса, Рыбы – жилище Зевса, Овен – жилище Ареса, Телец – жилище Афродиты, Близнецы – жилище Гермеса и, наконец, жилище Луны – Рак. По представлениям теологов, двое врат находились: одни – у созвездия Рака, другие – у созвездия Козерога. Платон называл их двумя устьями. У созвездия Рака находится тот вход, которым спускаются души, а у знака Козерога – тот, через который они поднимаются. Но вход у созвездия Рака – северный и ведет вниз, а тот, что у созвездия Козерога, – южный и поднимается вверх. Северный вход – для душ, нисходящих в мир становления. И правильно, что ворота, обращенные к северу, предоставлены не богам, а тем, кто восходит к богам, почему поэт и назвал их дорогой не богов, а бессмертных – свойство, общее для душ, или для тех, которые сами по себе, то есть по своей сущности бессмертны.
О двух этих воротах, как он [Нумений] говорит, упоминает и Парменид в книге О природе 8, упоминают о них и римляне, и египтяне. Римляне празднуют Кронии [Сатурналии], когда солнце входит в созвездие Козерога, и во вре- мя празднеств надевают на рабов знаки свободных, и все друг с другом общаются. Основатели обряда этим хотели показать, что те, кто ныне по рождению являются рабами, в праздник Кроний [Сатурналий] освобождаются, оживают, и через место, являющееся жилищем Кроноса, небесными вратами возвращаются к своему истинному рождению.9 Путь нисхождения для них начинается от знака Козерога. Поэтому дверь они называют «ianua», и январь называется как бы месяцем врат, когда солнце от знака Козерога поднимается к востоку, поворачивая в северную часть [неба]. Началом египетского года, наоборот, служит не знак Водолея, как у римлян, а знак Рака. Вблизи созвездия Рака находится Сотис, который греки называют созвездием Пса. Начало нового месяца у них – восход Сотиса, который является началом становления в космосе.10
Фр. 32 des Places (test. 44 Leemans) Порфирий, О пещере нимф 28, p. 26, 26–28, 6 Westerink
В другом месте Гомер говорит еще о вратах Гелиоса,11 имея в виду знаки Козерога и Рака. Пока солнце проходит от северного ветра к югу и обратно к северу, Козерог и Рак находятся около Млечного Пути, занимая его крайние пределы, при этом Рак – это север, а Козерог – юг .12 По Пифагору, души представляют собою «толпу снов», которые сходятся на Млечном Пути, названном так, потому что души питаются молоком, когда ниспадают в мир становления. Поэтому те, кто вызывает души (ψυχαγωγοὺς),13 делают им возлияния из меда, смешанного с молоком, так как в рождение вступают благодаря чувственному наслаждению и так как вместе с зачатием душ появляется молоко.14
Фр. 33 des Places (test. 45 Leemans) Порфирий, О пещере нимф 34; p. 32, 13–21 Westerink
Нe без основания, мне кажется, приверженцы Нумения в образе Улисса в гомеровской Одиссее увидели того, кто проходит по порядку весь путь становления и возвращается в недоступное место (εἰς τοὺς ἀπείρους), вне моря и вне бурь:
…покуда людей не увидишь,
Моря не знающих, пиши своей никогда не солящих. 15
Морская же гладь, море и бури, по Платону 16 означают материальный мир (ἡ ὑλικὴ σύστασις).
Фр. 60 des Places
Порфирий, О пещере нимф, 5–6;
p. 59, 1–2 et 60, 1–14 Nauck; p. 6, 21–22 et 8, 13–23 West
-
(5) Пещеры и гроты древние, как подобало, посвящали космосу… (6) Недаром и персы при посвящениях в мистерии, сообщая мисту о нисхождении душ и об обратном их восхождении, называли место, в котором это происходит, гротом. По словам Евбула,17 Зороастр впервые посвятил творцу и отцу всего, Митре, естественный грот в горах вблизи Персиды, цветущий и богатый источниками, так как грот был для него образом 18 космоса, созданного Митрой. А находившееся внутри грота и расположенное там в определенном порядке имело значение символов космических стихий и стран света. После Зороастра и все другие имели обыкновение совершать мистерии в гротах и пещерах, как в естественных, так и в искусственных.19
-
12. (1) Итак, порядок самого нисхождения (descensus), которым душа соскальзывает с неба в преисподнюю этой жизни, состоит в следующем. Млечный Путь так охватывает своим поясом (ambiendo) Зодиак, встречаясь с ним наклонной дугой,20 что рассекает его там, где помещаются два тропических созвездия: Козерог и Рак.21 Натурфилософы называют [эти созвездия] «вратами Солнца», поскольку в них обоих, когда точка солнцестояния оказывается на пути Солнца, его дальнейшее приращение останавливается и начинает обратный путь по поясу, пределы которого Солнце не покидает. (2) Полагают, что через эти врата души с неба проходят на землю и возвращаются с земли обратно на небо. Поэтому одни именуются [вратами] людей, a другие – [вратами] богов. Рак – для людей, ибо через [эти врата] лежит спуск к низшему (in infe-riora); Козерог – для богов, поскольку через [его врата] души возвращаются в седалище (sedem) собственного бессмертия и в число богов.22 (3) И это то, на что указывает божественное знание Гомера в описании пещеры на Итаке. Пифагор полагает, что вниз от Млечного Пути начинается царство Дита, поскольку кажется, что соскользнувшие оттуда души уже отпали от божественного (superis).23 Он говорит, что молоко оттого является первой пищей, предлагаемой новорожденным, что первое движение [душ], соскальзывающих в земные тела, начинается с Млечного Пути. Поэтому и Сципиону, когда ему был показан Млечный Путь, было сказано, о душах блаженных [людей]: отсюда отправившись, сюда же и возвращаются. 24 (4) Следовательно, пока души, которым предстоит нисхождение, пребывают в Раке (ведь, располагаясь там, они еще не покинули Млечного Пути), они продолжают быть в числе богов. Но когда, скользя [по Зодиаку], они достигают Льва, то закладывают там начало своего будущего состояния.25
Фр. 34 des Places (test. 47 Leemans)
Макробий, Комментарий на «Сон Сципиона» I, 12, 1–4;
p. 47, 30–48, 22 Willis
Фр. 35 des Places (test. 42 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Государство» Платона II, p. 128, 26–130, 14;
-
131, 8–14 Kroll
Нумений говорит, что у целокупного космоса и земли имеется центр, расположенный как бы отчасти на небесах, а отчасти – на земле.26 Здесь заседают судьи, посылающие одни души на небеса, а другие – в подземное место по [текущим] туда рекам.27 Небо он называет «неподвижным» (ἀπλανῆ) и оканчивающимся двумя «расселинами» (χάσματα) – Козерогом и Раком: одна из них – это путь вниз для рождения, другая – для обратного восхождения. Подземные реки – это сферы планет (τὰς πλανωμένας),28 ведь через эти реки и сам Тартар пролегает туда путь. Говорит, он кроме, того о многих фантастических вещах, например, о прыжках (πηδήσεις), которые совершают души от солнцестояния до равноденствия и оттуда назад – до солнцестояния, и о том, как влияние этих прыжков переносится (μεταφέρει) на земные дела, – соединяя платонические речения с теориями генетлиалогов и мистов (τοῖς γενεθλιαλογικοῖς καὶ ταῦτα τοῖς τελεστικοῖς).29 О расселинах свидетельствует и поэма Гомера,30 в которой не только говорится об обращенном к северу (Борею) пути спуска для людей, и Гелиос […] 31 но и о другом, обращенном к югу (Ноту), <божественном>: через него не подобает проходить человеку, этот путь доступен лишь для бессмертных. Когда Козерог подхватывает душу, он освобождает ее от жизни, которую она вела, будучи человеком, оставляя лишь бессмертное и божественное. Но это еще не все: в поэме воспеваются также «врата Гелиоса» и «толпа снов» (δῆμον ὀνείρων); два зодиакальных тропика названы «вратами Гелиоса», а «толпа снов», как он говорит, означает Млечный Путь. Неслучайно Пифагор, по обыкновению выражаясь таинственно, назвал Млечный Путь «Аидом» и тем «местом душ», в которое они собираются. Вот почему у некоторых народов принято для очищения душ совершать молочные возлияния, а нисходящим для становления молоко – это первая пища.32 Впрочем, и Платон, как уже было сказано, словом «расселины» 33 обозначает двое врат, а Млечный Путь называет «светом», который является «узлом неба».34 Сюда после двенадцатидневного перехода поднимаются души, следующие из того места, где восседают судьи. Вот это-то место и есть центр. Так все начавшееся с числа двенадцать (Додекады) заканчивается небесами, которые включают в себя центр [космоса], землю, воду, воздух, семь планет и само неподвижное небо. Стало быть, оба зодиакальных тропика, две «расселины» и «двое врат» различаются только по имени; точно так же, Млечный Путь, свет, «похожий на радугу», и «толпа снов» – тождественны. Кроме того, поэт сравнивает со снами души, свободные от тел…35
[p. 131, 8–14] Лишь он [Нумений] наполняет Млечный Путь душами, которые оттуда водружаются на небеса.36 В то время как один [Платон] не позволяет счастливым душам спускаться в подземное место, другой [Нумений] силой заставляет их прийти туда, потому что каждая душа сначала должна предстать перед судьей и лишь потом подняться на небеса, где души ведут счастливую жизнь.
Фр. 36 des Places (test. 48 Leemans)
Псевдо-Гален (Порфирий) Об одушевленности эмбриона (Περὶ τοῦ πῶς ἐμψυχοῦται τὰ ἔμβρυα) p. 34, 20–35, 2 Kalbfleisch
Если эмбрион потенциально (δυνάμει) жив в обычном смысле слова или даже жив как активное существо (ἐνεργείᾳ), то трудно определить сам момент вхождения души (εἴσκρισις), и лишь после немалых сомнений и не без ухищрений он может быть определен как тот самый миг, когда сперма попадает в матку, как если бы она не смогла удержать ее и не стала плодородной без помощи души, пришедшей извне и ставшей после вхождения внутрь естественным соединением. Об этом много говорят Нумений и толкователи загадок Пифагора, счи- тавшие Платоновскую реку Амелет 37, Стикс у Гесиода 38 и орфиков 39 и истечение (ἐκροὴ) у Ферекида – спермой 40.
Фр. 37 des Places (test. 49 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» I, 76, 30–77, 23 Diehl
По мнению некоторых, одни демоны противоположны другим, одни хороши, а другие дурны, одни превосходят числом, а другие силой, одни управляют, а другие подчиняются. Так полагает Ориген. Другие считают, что раздор произошел между благородными душами, воспитанными Афиной,41 и другими активными участниками творения (γενεσιουργῶν), которые следуют за богом, управляющим творением.42 Именно это толкование отстаивает Нумений.43 Кроме того, третьи, как бы смешивая мнение Оригена и Нумения, говорят о противоположности душ и демонов, ведь демоны, как известно, влекут вниз, а души – вверх. Да и слово «демон» можно понимать в трех смыслах. Одни говорят, что демоны божественного рода; другие – что они являются демонами «по отношению» (κατὰ σχέσιν) и сформированы (συμπληροῦσι) из отдельных душ, которые сподобились демонического удела; а третьи считают демонов некими совратителями и осквернителями душ. Эти последние демоны и затеяли войну против душ, увлекая их в мир становления. Именно это, по их словам, имели в виду древние богословы, приводя в пример Осириса и Тифона и Диониса и Тита-нов.44 Так же считал и Платон, из благочестия говоря об Афинянах и жителях
Атлантиды.45 Прежде чем души попадают в твердые тела, они должны пройти через борьбу с материальными демонами, приходящими от закатной стороны горизонта, так как закатная сторона, как говорят египтяне, является местом проживания злых демонов.46 Это мнение философа Порфирия, который удивил бы нас, если бы говорил нечто отличное от учения Нумения.47
Фр. 38 des Places (test. 51 Leemans) Олимпиодор, Комментарий на «Федон» Платона , p. 84, 21–85, 3 Norvin
Что касается использования этих правил, то мы легко покажем, что темница 48 не есть благо, как говорят некоторые, и не удовольствие, как думал Нуме-ний… 49 Это встречается уже у Порфирия в его комментарии.50
Фр. 39 des Places (test. 31 Leemans) Прокл, Комментарий на «Тимей» II, p. 153, 17–25 Diehl [ad Tim. 35a]
До нас одни представляли сущность души математической, чем-то средним между чувственно воспринимаемой реальностью (φυσικῶν) и сверхчувственной (ὑπερφυῶν): называя душу числом,51 они составляли ее из неделимой единицы и неопределенной двоицы, как чего-то делимого: 52 другие полагали душу как бы сущей геометрически и составляли ее из точки и протяжения соответственно, делимого и неделимого. Первого мнения придерживались Ари- стандр, Нумений и многие другие комментаторы; второе принадлежит Севе-ру.53
Фр. 40 des Places (test. 32 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» II, 274, 10–14 Diehl
Феодор, философ из Асины,54 преисполнившись словами Нумения (τῶν νουμηνείων λόγων ἐμφορηθείς), совершенно по-новому изложил учение о происхождении души (ψυχογονία), основывая свои построения на буквах, чертежах и числах.
Фр. 41 des Places (test. 36 Leemans) Ямвлих, О душе, Стобей, Антология I, 49, 32, p. 365, 5–21 Wachsmuth
Давайте же вновь обратимся к бестелесной сущности самой по себе и разберем вместе с тем по порядку все мнения о душе. Некоторые эту сущность, во всей ее полноте, называют «подобочастной»,55 тождественной и единой, такой, что каждая ее часть заключает в себе целое. Другие в отдельную душу помещают умопостигаемый космос, богов, демонов, благо и все наидревнейшее (τὰ πρεσβύτερα),56 и заявляют, что все в равной мере присутствует во всем подходящим образом в соответствии с сущностью каждой вещи.57 Этого мнения бесспорно придерживается Нумений, с ним не во всем соглашается Плотин; Амелий занимает неуверенную позицию, а Порфирий сомневается по этому поводу: то он решительно отвергает это мнение, то принимает его в качестве древнего предания. Согласно этому представлению, душа в полноте ее существа ничем не отличается от ума, богов и превосходящих ее родов.
Фр. 42 des Places (test. 34 Leemans)
Ямвлих, О душе, Стобей, Антология I, 49, 67, p. 458, 3–4 Wachsmuth
Нумений, кажется, первым отстаивал (πρεσβεύειν) мнение о единстве и неразличимом тождестве души и ее начал.58
Фр. 43 des Places (test. 35 Leemans)
Ямвлих, О душе, Стобей, Антология I, 49 , 37;
p. 374, 21–375, 1 et 12–18 Wachsmuth
Ведь и сами платоники весьма расходятся во мнениях. Некоторые, такие как Плотин и Порфирий, сводят к единому составу и к одной форме виды, части и действия жизни.59 Другие, такие как Нумений, затевают по этому поводу спор. Третьи же, такие как Аттик и Плутарх,60 в этом споре приходят к согласию… Некоторые из них расходятся со своими предшественниками и, прилепив каким-то образом извне зло к душе,61 считают его происходящим из материи, как нередко говорят Нумений и Кроний, из самих тел, как считает Гарпократион,62 или из растительной и неразумной [частей] души, как весьма часто утверждают Плотин и Порфирий.
Фр. 44 des Places (test. 36 Leemans)
Порфирий, О душевных силах , Стобей, Антология I, 49, 25a, p. 350, 25–351, 1 Wachsmuth
Другие же, в числе которых и Нумений, думают, что не три части находятся в единой душе, и не две, разумная и не разумная, но что у нас имеется две души, как и всего остального 63 – одна разумная, другая неразумная…
Фр. 45 des Places (test. 37 Leemans)
Порфирий, О душевных силах , Стобей, Антология I, 49, 25, p. 349. 19–22 Wachsmuth
Утверждающую (συγκαταθετικὴν) способность Нумений считает подверженной действиям, о чем свидетельствует, по его словам, то, что представление (τὸ φανταστικόν) является не действием и не результатом, но следствием (παρακολούθημα).64
Фр. 46а des Places (test. 38 Leemans) Олимпиодор, Комментарий на «Федон» Платона , p. 124, 13–18 Norvin
Одни распространяют бессмертие на все от разумной души до одушевляющей способности (τῆς ἐμψύχου ἕξεως), как, например, Нумений; другие – и на растительную жизнь (τῆς φύσεως), как иногда утверждает Плотин; третьи – вплоть до всего, лишенного разумения (τῆς ἀλογίας), как из древних говорили Ксено-крат и Спевсипп, а из современных – Ямвлих и Плутарх 65; четвертые бессмертным считают только разумное (τῆς λογικῆς), как, например, Прокл и Порфирий.
Фр. 46b des Places (test. 27a Leemans) Сириан, Комментарий на «Метафизику» Аристотеля , p. 109. 12–14 Kroll
Согласно Нумению, Кронию и Амелию, умопостигаемое (τὰ νοητὰ) и чувственно воспринимаемое (τὰ αἰσθητὰ) во всей совокупности причастно идеям, согласно Порфирию же, – только чувственно воспринимаемое…
Фр. 46с des Places (test. 27b Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» III, p. 33, 33–34, 3 Diehl
Если же, как пишет Амелий, а до него Нумений, существует причастность в сфере умопостигаемого, то ее можно обнаружить и среди образов.
Фр. 47 des Places (test. 39 Leemans)
Иоанн Филопон, Комментарий на трактат Аристотеля «О душе» , p. 9, 35–38 Hayduck
Из тех, кто считал, что душа может быть отделена (χωριστὴν) от тела, некоторые думали, что вся душа отделима от тела – и разумная, и неразумная, и растительная; таким был Нумений, введенный в заблуждение одним высказыванием Платона в Федре : «πᾶσα ψυχὴ ἀθάνατος».66
Фр. 48 des Places (test. 40 Leemans)
Ямвлих, О душе , Стобей, Антология I, 49 , 40; р. 380, 6-19 Wachsmuth
Думается мне, что и цели различны, и способы, которыми души совершают нисхождение. Если души нисходят в этот мир для спасения, очищения и совершенствования, то они должны оставаться незапятнанными и при нисхождении. Если же ради воспитания и улучшения их собственного нрава они возвращаются в тела, то им не удается оставаться полностью бесстрастными и самостоятельными (ἀπόλυτος καθ' ἑαυτήν). Если же они нисходят сюда в наказание и по приговору, то в некотором смысле подобны влекомым и по-нуждаемым.67
Некоторые из молодых так не рассуждают и, не принимая во внимание различие, к одной и той же цели сводят воплощение всех душ, решительно настаивая на том, что воплощение – это всегда зло. Так рассуждают те, кто следуют за Кронием, Нумением и Гарпократионом.68
Фр. 49 des Places (test. 41 Leemans)
Эней Газский, Теофраст 69, p. 12 Boissonade;
P G 85, 892 b; p. 12, l. 5–11 M.-E. Colonna [Napoli, 1958]
Плотин и Гарпократион, не считая 70 Боэта и Нумения, в согласии с Платоном говорят, что уподобившийся коршуну переходит в коршуна, подобный волку – в волка, в осла – подобный ослу, обезьяна становится ничем иным, как обезьяной, а лебедь – не иначе, как лебедем 71. По их мнению, до того как войти в тело, душа преисполняется всякой скверны (κακίας ἐμπίμπλασθαι) 72, уподобившись неразумным тварям; действительно, чему уподобилась каждая [душа], в соответствии с тем и поступает, вселяясь (ὑποδῦσα) в то или иное живое существо.73
Фр. 50 des Places (test. 26 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» III, 196, 12–19 Diehl
Обо все богах, которые управляют миром становления, скажем, что их сущность не смешивается с материей, как утверждают стоики… 74 Однако нет сущности, которая не была бы смешана с материей, а силы и энергии – это то, что смешивается в ней, как говорят те, кто следует за Нумением.
Фр. 51 des Places (test. 28 Leemans)
Прокл, Комментарий на «Тимей» II, 9, 4–5 Diehl
Нумений все считает смешанным, полагая, что ничто не встречается в чистом виде (ἁπλοῦν).
О материи
Фр. 52 des Places (test. 30 Leemans) Калкидий, Комментарий на «Тимей» 295–299, p. 297, 7–301, 20 Waszink
CCXCV. [1] Теперь рассмотрим пифагорейское учение.1 Нумений из школы Пифагора, отвергнув стоическое учение о началах, обратился к пифагорейской доктрине, которая, по его словам, согласуется с платонической. Он говорит, что Пифагор называет бога монадой (singularitas), [5] а материю – диадой (duitas). В качестве неопределенной (indeterminatam) эта диада не рождена (minime geni-tam), будучи же ограниченной (limitatam) – рождена (genitam). То есть, до украшения формой и порядком она была без начала (ortus) и рождения (generatio), [10] но, будучи упорядоченной и оформленной богом-демиургом (а digestore deo), она рождается; кроме того, поскольку рождение – это ее последующая судьба (furtuna), то, неукрашенная и нерожденная, она должна считаться такой же древней (aequaevum), как и бог, который ее упорядочивает.2 [15] Однако некоторые пифагорейцы не поняли этого положения и решили, что неопределенная и безмерная (indeterminatam et immensam) диада также была произведена единичной монадой (ab unica singularitate), как будто эта монада, отступив от своей природы, допустила появление двоицы.3 Однако это неверно, [20] ибо тогда то, что было, монада, перестала бы существовать, а то, чего не было, диада, стала бы чем-то сущим (subsisteret) и бог превратился бы в материю, а монада – в неопределенную и безмерную диаду. Понять неприемлемость этого мнения способны даже малограмотные! [25] Итак, стоики считают материю определенной и ограниченной (definitam et limitatam) по своей природе, а пифагорейцы – бесконечной и беспредельной (infinitam et sine limite); первые думают, что безмерное по природе не может стать стройным и упорядоченным, тогда как, согласно Пифагору, один только бог в силах без усилия свершить то, что природа совершить не может, [30] – бог, который сильнее и возвышеннее всякой силы и у которого природа сама получает свои силы.
CCXCVI. Итак, Пифагор, – говорит Нумений, – также считает материю (sil-vam) текучей (fluidam) и лишенной качеств (sine qualitate), [35] вместе с тем не называя ее, подобно стоикам, природой средней между плохим и хорошим, то есть принадлежащей к тому роду, который они называют «безразличным»; напротив, она полностью гибельна (plane noxiam). Для него, как и для Платона, бог есть начало и причина всякого блага, материя – всякого зла, [40] а безразлично то, что состоит из формы и материи (ex specie silvaque). Следовательно, не материя является «безразличным», но мир (mundum) – смесь благости формы и злостности материи (ex speciei bonitate silvaeque malitia). Недаром же древние теологи считали его порождением провидения и необходимости (ex providentia et necessitate).
CCXCVII. [45] Итак, с тем, что материя бесформенна и лишена качеств, согласны как стоики, так и Пифагор, однако Пифагор считает ее злонравной (ma-lignam), а стоики – ни плохой, ни хорошей. Когда же они по ходу движения, так сказать, встречаются со злом и задаются вопросом: «Откуда же зло?», – то называют его причиной какую-то «извращенность» (perversitas). [50] Однако откуда происходит эта «извращенность», они не смогли объяснить, ведь, по их мнению, есть лишь два начала всего – бог и материя, причем бог – это высшее и превосходное благо, а материя, как они считают, ни плохая, ни хорошая. Напротив, Пифагор не побоялся заступиться за истину, пусть даже в удивительных выражениях, расходящихся с мнением толпы, [55] заявив, что если есть провидение, то с необходимостью существует и зло, а поэтому если есть материя, то она снабжена злом. Так что если мир из материи, то он, несомненно, создан из некогда сущей злой природы. [60] Поэтому Нумений хвалит Герак-лита,4 упрекающего Гомера в том, что тот предпочел несчастиям жизни погибель и истребление, так как не понимал, что, желая искоренения материи, которая есть источник зла, он высказывается за уничтожение мира. [65] А Платона тот же Нумений хвалит за то, что он говорит о двух мировых душах: одной – наиболее благой, другой – злой,5 то есть о материи, беспорядочно флуктуирующей (fluctuet), движимой собственным внутренним движением, живой и получившей свою жизнь от души, как и все, что движется благодаря естественному движению.6 [70] Значит материя – это создательница (auctrix) и покровительница (patrona) пассивной части души (patibilis animae partis), содержащей в себе нечто тленное, смертное и телесное; в то время как создателем (auctore) разумной части души (rationabilis animae pars) оказывается ум (ratione) и бог. Иначе говоря, этот мир создан богом и материей (ex deo et silva factus est).
CCXCVIII. [75] Итак, согласно Платону, мир получил свои блага даром от бога-отца; зло же пристало к нему из-за порчи материи-матери.7 Понятно теперь, что стоики зря возлагали вину на какую–то «извращенность», считая, что все происходит согласно движению звезд. Ведь звезды являются телами и небесными огнями, а материя – кормилицей (nutrix) 8 всех телесных вещей, поэтому смятение, производимое движением звезд и приносящие нам беды и несчастья, также имеет своим источником материю, [85] изменчивую, вечно во власти слепого порыва и легкомысленного безрассудства. Итак, если бог исправил ее, как говорит Платон в Тимее , и привел «из нестройного и беспорядочного движения» 9 в порядок, [90] то ясно, что эта путаная нестабильность материи происходит от случая и несчастливой судьбы, а не по спасительному замыслу провидения. Вот почему, согласно Пифагору, душа материи (silvae anima) не лишена самостоятельного существования (substantia), как думали многие,10 но противостоит провидению, всегда готовая в силу порочности помешать его замыслам.11 [95] Если провидение – это творение и деятельность (opus et officium) бога, то слепой и случайный произвол берет свое начало в материи; ясно, что согласно Пифагору, вся совокупность вещей появилась в результате этого столкновения между провидением и случаем; [100] и после того как материя была должным образом оформлена (ornatus assesserit), она стала матерью всех телесных и рожденных богов.12 Судьба ее великолепна по большей части, однако не полностью, поскольку зло (vitium), присущее ей по природе, не может быть полностью устранено.13
CCXCIX. [105] Вот почему бог оформил (украсил: comebat) материю благодаря своей могучей силе и исправил всеми возможными способами ее пороки, не искоренив их полностью, однако все же предотвратив совершенную гибель материальной природы, не позволив им расти и повсюду распространяться. [110] Поддержав ту природу, которая из неблагоприятного положения может перейти в благоприятное, и, связав (coniungens) 14 порядком беспорядок, мерой избыток, красотой уродство, он изменил все ее состояние, просветив и упорядочив его.15 Наконец, Нумений заявляет, – и это правильно, – [115] что от зла не избавлен (immunem) в мире творения ни один удел, будь то дела человеческие или явление природы, или тела животных, или даже деревья, травы и плоды, находись они в потоке воздуха (in aeris serie) или в водных струях, или же на самом небе, – [120] поскольку везде к провидению примешана низшая природа, словно какая-то грязь (piaculo).16 Тот же Нумений, стремясь показать образ материи без покрова (nudam silvae imaginem) и выставив ее на свет, сперва исключает,17 одну за другой, все телесные вещи, которые в материнском лоне попеременно обмениваются между собой формами,18 [125] затем, рассмотрев в уме то, что освободилось после этого отделения (ex egestione vacuatum est), называет материей и необходимостью. Из этой материи и бога он составляет структуру мира (mundi machinam) – из бога, действующего силой убеждения, и необходимости, ему повинующейся.19
Таково учение Пифагора о началах.
Аллегорические толкования
Фр. 53 des Places (33 Leemans)
Ориген, Против Кельса V, 38; II, p. 42,23–43,3 Koetschau
О Сераписе многие и противоречивые истории рассказывают. Говорят, появился он будто бы здесь совсем недавно благодаря каким-то магическим ухищрениям (τινας μαγγανείας), выполненным по желанию Птолемея , который хотел показать людям Александрии якобы явившегося ему [во сне] 1 бога. Об учреждении его культа (κατασκευή) мы прочитали у пифагорейца Нуме-ния – культа божества, причастного сущности всех животных и растений, управляемых природой.2 И учредить культ (κατασκευάζεσθαι) этого божества он хотел посредством нечестивых таинств (τῶν ἀτελέστων τελετῶν 3) и магических ухищрений для призывания духов не только через воздвижение образов, но и при помощи магов, колдунов (ὑπὸ μάγων καὶ φαρμακῶν) и духов, вызванных их заклинаниями.
Фр. 54 des Places (38 Leemans)
Макробий, Сатурналии I, 17, 65, p. 99, 12–16 Willis
Аполлона называют Дельфийским (Δέλφιον) либо потому, что он делает явным незримое (ἐκ τοῦ δηλοῦν τὰ ἀφανῆ), либо, как считает Нумений, потому, что он как бы один и единственный (unus et solus). Ведь в древнем греческом языке «один» (unus) называется δέλφον.4 Поэтому и брат, говорит он, называется ἀδελφός, поскольку он уже не один (iam non unus).
Фр. 55 des Places (39 Leemans) Макробий, Комментарий на «Сон Сципиона» I, 2, 19, p. 7, 23–8, 3 Willis
Нумению, который даже среди философов выделялся особенным интересом к таинственному, приснилось, что, оскорбив божественное величие, он разгласил (vulgaverit) в своем толковании Элевсинские таинства (sacra). Ему привиделось, будто сами Элевсинские богини, одетые как куртизанки, стоят перед дверьми публичного дома (lupanar). Когда же, удивившись, он спросил о причине такого бесстыдства, не подобающего божествам, они в гневе отвечали, что именно по его вине они силой выведены из святилища (adytum 5) скромности и выставлены на позор (prostitutas) перед первым встречным.
Фр. 56 des Places (34 Leemans)
Иоанн Лид, О месяцах IV, 53, p. 109, 25–110, 4 Wünsch
Египтяне, в особенности Гермес, говорят, что [бог иудеев] – это Осирис… греки – что он Дионис Орфея, так как, согласно их сообщению, некогда по обе стороны колонн здесь росли виноградные лозы из золота… Ливий сообщает, что бог, которому здесь поклонялись, – это неведомый (ἄγνωστος) бог,6 и вслед за ним Лукан говорит, что храм в Иерусалиме посвящен невидимому (ἄδηλος) богу. Нумений же говорит, что этот бог не допускает причастности к себе (ἀκοινώνητον) 7 и отец всех богов, не позволяющий никому стать причастным (κοινωνεῖν) его славе.
Фр. 57 des Places (35 Leemans)
Иоанн Лид, О месяцах IV, 80, p. 132, 11–15 Wünsch
Нумений-римлянин Гермеса считает исходящим словом (τὸν προχωρητικὸν λόγον) 8. Ведь ребенок, как он говорит, не начинает кричать, пока не упадет на землю, поэтому не без основания землю многие называют Майей.9
Фрагменты: Аллегорические толкования 271
Фр. 58 des Places (36 Leemans)
Иоанн Лид, О месяцах IV, 86, p. 135, 13–17 Wünsch
Гефест, как говорит Нумений, – это плодотворный огонь, животворящее солнечное тепло. Гефеста изображают хромым потому, что он делает неустойчивой и саму природу огня, не позволяя элементам смешиваться друг с другом.10
Фр. 59 des Places (37 Leemans)
Иоанн Лид, О месяцах IV, 86, p. 184, 10–13 Wünsch (inter «fragmenta libris de mensibus falso atributa»)
Говорят, что Немесида для вещей – это то падения, то взлеты счастливой судьбы, поэтому, согласно Нумению, с каждым кругом ее колесо восстанавливает равновесие.11
Фр. 60 des Places
Порфирий, О пещере нимф 5–6
См. после фр. 33.
ИСТОЧНИКИ ФРАГМЕНТОВ
Е ВСЕВИЙ , Приготовление к Евангелию
-
IX, 6, 9, p. 411a Viguier8
-
IX, 7, 1, p. 411 b–c1a
-
IX, 8, 1–2, p. 411d9
-
XI, 9, 8–10, 5; p. 525 b–526 a5
-
XI, 10, 6–8, p. 526a–c6
-
XI, 10, 9–11; p. 526 c–d7
-
XI, 10, 12–14; p. 526 d–527a8
-
XI, 7, 11–18,5; p. 536 d–537b11
-
XI, 18, 6–10; p. 537 b–d12
-
XI, 18, 13–14, p. 538 b–c13
-
XI, 18, 15–19, p. 538 c–539a14
-
XI, 18, 20–21, p. 539a–b15
-
XI, 18, 22–23, p. 539b–c17
-
XI, 18, 24, p. 539 c–d18
-
XI, 21,7–22,2, p. 343d2
-
XI, 22, 3–5, p. 544a–b16
-
XI, 22, 6–8, p. 544 c–d19
-
XI, 22, 9–10, p. 544 d20
-
XIII, 4, 4–5,2, p. 650d–651a23
-
XIV, 4,16–5,9, p. 727 a–729b24
-
XIV, 5,10–6,14, p. 729b–733d25
-
XIV, 7,1–15, p. 734a–737a26
-
XIV, 8,1–15, p. 737b–739a27
-
XIV, 9,1–4, p. 739b–d28
-
XV, 17, 1–2; p. 819 a–b3
-
XV, 17, 3–8; p. 819 c–820a4a
И ОАНН Л ИД , О месяцах
-
IV, 53, p. 109, 25–110, 4 Wünsch56
-
IV, 80, p. 132, 11–1557
-
IV, 86, p. 135, 13–1758
-
IV, 86, p. 184, 10–1359
И ОАНН Ф ИЛОПОН
Комментарий на трактат Аристотеля «О душе»
-
p. 9, 35–38 Hayduck47
К АЛКИДИЙ , Комментарий на «Тимей
295–299, p. 297, 7–301, 20 Waszink52
(10b)
Указатели
К ЛИМЕНТ А ЛЕКСАНДРИЙСКИЙ , Строматы
-
I, 150, 4; II, p. 93,10–11 Stählin–Früchtel–Treu8
М АКРОБИЙ
Комментарий на «Сон Сципиона»55
I, 2, 19, p. 7, 23–8, 2 Willis
I, 12, 1–4; p. 47, 30–48, 2234
Сатурналии
I, 17, 65, p. 99, 12–16 Willis54
Н ЕМЕСИЙ , О природе человека
-
2, 8–14, p. 69–72 Matthaei4b
ОЛИМПИОДОР, Комментарий на «Федон» Платона p. 84, 21–85, 3 Norvin38
p. 124, 13–1846а
О РИГЕН , Против Кельса
I, 15; I, p. 67, 21–27 Koetschau1b
IV, 51; I, p. 324, 18–271c
IV, 51; I, p. 324, 23–2710a
V, 38; II, p. 42,23 – 43,353
V, 57; II, p. 6029
П ОРФИРИЙ
О душевных силах (= Стобей, Антология)45
I, 49, 25, p. 349, 19–22 Wachsmuth
I, 49, 25a, p. 350, 25–351,144
О пещере нимф60
5–6; 6, 21–22 et 8, 13–23 Westerink
10, p. 12, 12–1730
21–24, p. 22, 2–24, 331
28, p. 26, 26 – 28, 632
34; p. 32, 13–2133
П РОКЛ
Комментарий на «Государство»35
II, 128, 26–130, 14; 131, 8–14 Kroll
Комментарий на «Тимей»
I, 76, 30–77, 23 Diehl37
I, 303,27–304, 721
II, 9, 4–551
II, 153, 17–2539
II, 274, 10–1440
III, 33, 33–34, 346c
III, 103, 28–3222
III, 196, 12–1950
ПСЕВДО-ГАЛЕН (ПОРФИРИЙ), Об одушевленности эмбриона p. 34, 20–35, 2 Kalbfleisch36
СИРИАН, Комментарий на «Метафизику» Аристотеля p. 109. 12–14 Kroll46b
ЭНЕЙ ГАЗСКИЙ, Теофраст p. 12 Boissonade; P G 85, 892 b49
Я МВЛИХ , О душе (Стобей, Антология )
I, 49, 32, p. 365, 5–21 Wachsmuth41
I, 49, 37; p. 374, 21-375, 1 et 12-1843
I, 49, 40; p. 380, 6-1948
I, 49, 67, p. 458, 3–442
ИНДЕКС-УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
Агафокл Сиракузский 25 (733с)
Академики 24–28 (passim)
Амелет 36
Амелий 41 46b 46c 49(?)
Аммоний 4b
Антиох Аскалонский 28
Антипатр Тарсийский 27 (738с)
Антисфен 24 (728с)
Аполлон 54
Арес 31
Аристандр 39
Аристипп из Кирены (младший) 26
(736d)
Аристипп из Кирены (ученик Сократа) 24 (728b)
Аристобул 1с 8
Аристотель 24 (728d) 25 (732b)
Аркесилай 25 (passim) 26 (734d;
736d) 27 (737bcd; 738a)
атланты (жители Атлантиды) 37
Аттик 43
Афина 37
афиняне 23 37
Афродита 31
Бион 25 (731с)
Боэт 49
брахманы 1а
Гарпократион 43 48 49
Гегесин 27 (737b)
Гелиос 31 35
генетлиалоги 35
Гераклит Эфесский 25 (729с) 30 52
(l.60)
Гермес 31 56 57
Гесиод 36
Гефест 58
Гомер 32 35 52(l.60)
Деметрий Фалерский 8
Демокрит 25 (731а)
Диодор 25 (729сd; 730а; 731а)
Диокл из Книда 25 (731b)
Дионис 37 56
Дит 34
Евандр из Фокеи 26 (736d)
Евбул 60
евреи 8
Евтифрон (герой диалога Платона) 23
Египет 8 9
египтяне 1а 31 37 56
Зевс 31
Зенон 24 (728d) 25 (passim) 26
(735a)
Зороастр 60
Иамврий 9 10а
Ианний 9 10а
Иерусалим 56
Иисус 10а
Исократ 25 (732b)
иудеи 1а 9 56
Карнеад 26 (736d) 27 (passim)
Кельс 1b 10а
Кифисодор 25 (732bc)
Клитомах 28
Крантор 25 (729сd; 731а)
Кратет 25 (729bс)
Кроний 31 43 46b 48
Кронос 31
Ксенократ 4b 24 (727bc) 25 (729b) 46а
Лакид 26 (passim)
Ливий (Тит) 56
Лукан 56
маги 1а 53
Майя 57
мегарики 24 (728с)
Менедем 25 (729d)
Ментор 27 (738d)
мисты 35
Митра 60
Мнасей 25 (731b)
Мнесарх стоик 28
Моисей 1а 1с 8 9 10а
Мусей 9
Немесида 59
нимфы 30
Нумений passim
Нумений и его друг Кроний 31 43 46b 48
Одиссей (Улисс) 33
Ориген 37
Орфей и орфики 36 56
Осирис 37 56
Парменид 31
Пенфей 24 (729а)
Персида (Персия) 60
персы 8 60
Пиррон 25 (729сd; 730а; 731аb)
Пифагор и пифагорейцы 1а 7 8 24 (727сd; 728с; 729аb) 29 32 34 35 36 52(l.1; 15; 25; 30; 45; 50; 90; 95; 125)
Платон 1а 1с 2 5 6 7 8 11 14 19 20 23 24 (727bc; 728с; 729а) 25 (729d; 730а; 732bcd; 733ab) 31 33 35 37 47 49 52(l. 35; 65; 75; 85)
Плотин 4b 41 43 46а 49
Плутарх (Афинский) 46а
Плутарх (из Херонеи) 29 43
Полемон 24 (727b) 25 (729bс; 731с)
Порфирий 37 38 41 43 46а 46b
Прокл 46а
Прометей 14
Птолемей (I Сотер) 53
Речь (персонифицированная) 4а римляне 31
Север 39
Серапис 53
Сократ 23 24 (728bс; 729аb)
Спевсипп 46а 24 (727b)
Стикс 36
Стильпон 25 (729с)
Стоики 25 (732а; 733с) 26 (736a) 50
52(l. 1; 25)
Тартар 35
Теодор 25 (731c)
Теофраст 25 (729с; 731а)
Тидид (у Гомера) 25 (730b)
Тимон 25 (729d; 731b)
Титаны 37
Тифон 37
Улисс (Одиссей) 33
Феодор из Асины 40
Ферекид 36
Филомел 25 (731b)
Филон Александрийский 1с
Филон из Ларисы 28
Хариты 25 (733с)
Хрисипп 29
Элевсин (богини) 55
эллины 29
Эмпус (мифологический персонаж) 25 (730с)
Эпикур и эпикурейцы 24 (727d;
728a)
эретрейцы 24 (728с)
Ямвлих 46а
ИНДЕКС АВТОРОВ, УПОМИНАЕМЫХ НУМЕНИЕМ
|
А НОНИМ |
|
|
Неизвестная трагедия, фр. 323 Nauck |
(Фр.) 25 (730c) |
|
А РИСТОН Х ИОССКИЙ |
|
|
цит. Диогеном Лаэртием IV 33 |
25 (729d) |
|
Г ОМЕР |
|
|
Илиада |
|
|
IV 447–449, 450–451, 472 |
25 (731d–732a) |
|
V 84 |
25 (730c) |
|
VII 206 |
28 (739c) |
|
VIII 94 |
28 (739c) |
|
X 8 |
25 (732d) |
|
XIII 131 |
25 (731d) |
|
XVI 130 |
28 (739c) |
|
Одиссея |
|
|
XI 122–1213 |
33 |
|
П ИНДАР |
|
|
«Истмийские песни» 2.6 |
25 (733с) |
|
П ЛАТОН |
|
|
Государство VI, 508e3 |
20 |
|
Законы X, 896е4–6 |
52 (l.65) |
|
Кратил 430а10 |
6 |
|
Тимей 27d6–28a4 |
7 |
|
28а1 и 3–4 |
8 |
|
28а1 и 3–4 |
|
|
29е1 |
20 |
|
Федр 245с5 |
47 |
|
Филеб 16с6–7 |
14 |
|
Т ИМОН |
|
|
«Силлы» 16 Wachsmuth (31 Diels), |
|
|
цит. Диогеном Лаэртием IV 33 |
25 (729d) |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НУМЕРАЦИИ ФРАГМЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ ПО ИЗДАНИЯМ ЛЕМАНСА И ДЕ ПЛАСА
|
Leemans testimonia |
Des Places fragmenta |
Leemans fragmenta |
Des Places fragmenta |
|
1 |
8 |
1 |
24 |
|
17 |
1с |
2 |
25 |
|
(18) |
37 |
3 |
26 |
|
24 |
21 |
4–7 |
27 |
|
25 |
22 |
8 |
28 |
|
26 |
50 |
9а |
1а |
|
27 |
46b–c |
9b |
1b |
|
28 |
51 |
10 |
8 |
|
29 |
4b |
11 |
2 |
|
30 |
52 (10b) |
12 |
3 |
|
31 |
39 |
13 |
4 |
|
32 |
40 |
14 |
5 |
|
33 |
41 |
15 |
6 |
|
34 |
42 |
16 |
7 |
|
35 |
43 |
17 |
8 |
|
36 |
44 |
18 |
10 |
|
38 |
46 |
20 |
11 |
|
39 |
47 |
21 |
12 |
|
40 |
48 |
22 |
13 |
|
41 |
49 |
23 |
14 |
|
42 |
35 |
24 |
15 |
|
43 |
31 |
25 |
16 |
|
44 |
32 |
26 |
17 |
|
45 |
33 |
27 |
18 |
|
46 |
30 |
28 |
19 |
|
47 |
34 |
29 |
20 |
|
48 |
36 |
30 |
23 |
|
49 |
37 |
31 |
29 |
|
(50) |
37 |
32 |
1c |
|
51 |
38 |
33 |
53 |
|
34 |
56 |
||
|
35 |
57 |
||
|
36 |
58 |
||
|
37 |
59 |
||
|
38 |
54 |
||
|
39 |
55 |