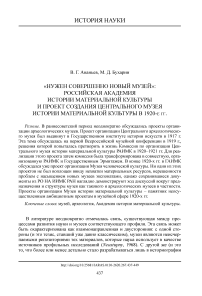«Нужен совершенно новый музей»: Российская академия истории материальной культуры и проект создания Центрального музея истории материальной культуры в 1920-е гг
Автор: Ананьев В. Г., Бухарин М. Д.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История науки
Статья в выпуске: 267, 2022 года.
Бесплатный доступ
В раннесоветский период неоднократно обсуждались проекты организации археологических музеев. Проект организации Центрального археологического музея был выдвинут в Государственном институте истории искусств в 1917 г. Эта тема обсуждалась на первой Всероссийской музейной конференции в 1919 г., решения которой попыталась претворить в жизнь Комиссия по организации Центрального музея истории материальной культуры РАИМК в 1920-1921 гг. Для реализации этого проекта затем комиссия была трансформирована в совместную, организованную РАИМК и Государственным Эрмитажем. В конце 1920-х гг. в ГАИМК обсуждался уже проект организации Музея человеческой культуры. Ни один из этих проектов не был воплощен ввиду нехватки материальных ресурсов, нерешенности проблем с насыщением новых музеев экспонатами, однако сохранившиеся документы из РО НА ИИМК РАН наглядно демонстрируют ход дискуссий вокруг предназначения и структуры музея как такового и археологических музеев в частности. Проекты организации Музея истории материальной культуры - памятник неосуществленным амбициозным проектам в музейной сфере 1920-х гг.
Музей, археология, академия истории материальной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/143178956
IDR: 143178956 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.437-449
Текст научной статьи «Нужен совершенно новый музей»: Российская академия истории материальной культуры и проект создания Центрального музея истории материальной культуры в 1920-е гг
В литературе неоднократно отмечалась связь, существующая между процессами развития науки и музеев соответствующего профиля. Эта связь может быть охарактеризована как взаимонаправленная и двусторонняя: с одной стороны (и это тезис, ставший уже давно классическим), музеи являются неисчерпаемыми репозиториями тех материалов, которые наука использует в качестве источников профильных исследований (Neustupny, 1968). С другой же (и это то, что более или менее детально стало разрабатываться лишь в историографии http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.267.437-449
конца ХХ в.), организация и презентация этих материалов в музеях оказывают значительное влияние на складывание и трансформацию дисциплинарных матриц данной научной дисциплины. Особенно значимым этот процесс будет для таких гуманитарных дисциплин, как археология и искусствоведение, подавляющее большинство источников для первой и значительное число которых для второй находятся именно в музейных собраниях ( Whitehead , 2009).
Таким образом, в периоды наиболее активных поисков границ дисциплинар-ности для той или иной науки актуальными могут оказываться вопросы музейного строительства в соответствующей области. Причем, если развитие науки может быть достаточно специальной сферой, музейное дело (в силу особого статуса музея как инстанции не только научного, но и художественного, и идеологического дискурсов) (см.: Беззубова , 2003) привлекает достаточно пристальное внимание широких кругов общественности.
В России для археологии периодом такой активизации дискуссий стало начало ХХ в., когда, как было показано в новейшей литературе, сосуществовало несколько моделей ее дисциплинарной матрицы (Платонова, 2010). Хотя первые археологические музеи (как музеи, бóльшая часть коллекций которых состояла из археологических предметов) и появились на юге Российской империи еще в начале XIX в. (что было связано с развитием классической археологии), лишь в начале ХХ в. на повестку дня был поставлен и начал осмысливаться как насущный вопрос о создании центрального археологического музея (как музея, отражающего дисциплинарную матрицу археологии в ее самобытности и отличии от смежных дисциплин). Этот вопрос обсуждался на крупнейших музейных профессиональных форумах революционной эпохи: весной – летом 1917 г. в ходе заседаний подкомиссии по музейному делу и охране памятников комиссии по выработке проекта министерства искусств на эту тему спорили такие крупные специалисты, как М. И. Ростовцев1, О. Ф. Вальдгауер2, Б. В. Фармаковский3, А. А. Миллер4, Н. М. Могилянский5 (Ананьев, 2017). В феврале 1919 г. на Первой всероссийской конференции по делам музеев в обсуждении доклада все того же А. А. Миллера на эту тему приняли участие С. А. Жебелёв6, Н. Я. Марр7, Б. М. Соколов8 и другие (Ананьев, Бухарин, 2021).
В итоге принятая по докладу Миллера резолюция не просто признавала «желательным создание археологического музея в Петрограде», но и рекомендовала «дело организации музея поручить Государственной археологической комиссии» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 228. Л. 29 об.). Археологическая комиссия уже через несколько месяцев после этого решения была упразднена, а в апреле 1919 г. на ее основе создана Российская академия истории материальной культуры (далее – РАИМК). В начале 1920-х гг. ее сотрудниками предпринимались попытки воплотить на практике решение конференции 1919 г. Хотя задумывавшийся музей так и не был создан, материалы, отложившиеся в Рукописном отделе Научного архива Института истории материальной культуры РАН, позволяют реконструировать ход имевших место обсуждений и осветить неизвестную прежде страницу в истории отечественной археологии.
Как отмечали впоследствии сами участники, Музейная конференция 1919 г. «нашла желательным основать в Петрограде Центральный Археологический музей и устройство его передала бывшей Археологической комиссии». Для этого при втором (археологическом) отделении РАИМК была выбрана специальная комиссия. Совет академии в феврале одобрил выработанный комиссией проект положения музея и поручил комиссии взять на себя дальнейшее проведение в жизнь учреждаемого музея, выработав инструкцию для действий комиссии и привлекши к своей деятельности представителя из первого отделения академии и других специалистов (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46).
И действительно, как следует из архивных материалов, 21 февраля 1920 г., т. е. примерно через год после музейной конференции 1919 г., Совет РАИМК принял решение для «подготовительных работ по образованию и начальной организации музея» сформировать специальную комиссию из трех представителей от Отделений РАИМК, по одному от каждого (этнологического, археологического и художественно-исторического), ученого секретаря и трех приглашенных специалистов по музейному делу. Комиссии было делегировано право кооптировать в качестве членов специалистов, «участие в работах которых ею будет признано желательным» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 42). Кроме этого, с самого начала предполагалось достаточно широкое привлечение научной общественности Петрограда к обсуждению рассматривавшихся комиссией вопросов, что еще раз подчеркивало центральный статус планируемого ею музея. В проекте инструкции о комиссии говорилось: «Для обсуждения выработанных ею положений предварительно доклада их Совету Академии, Комиссия созывает особое совещание из представителей петроградских научных культурно-исторических и художественно-исторических музеев, а именно: Эрмитажа, Русского музея, Этнографического музея и Азиатского музея, по одному от каждого из отделов этих музеев, петроградских учреждений, входящих в объединение с Академией, Института археологической технологии, Керамического института и специалистов, участие коих Комиссией будет признано желательным» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 42 об.).
Проект инструкции предполагал, что комиссия выполняет следующие функции: 1) собирает литературу и архивные материалы, могущие дать указания насчет наиболее целесообразного устройства музея; 2) организует справочное бюро по выяснению состава коллекций существующих музеев; 3) в контакте с разрядами и постоянными комиссиями РАИМК вырабатывает план состава коллекций музея, осуществляет меры по его реализации; 4) собирает сведения об отдельных предметах и коллекциях, могущих служить пополнению коллекций музея; 5) до выбора личного состава выполняет его функции; 6) ищет нужные помещения; 7) составляет проект технического оборудования и инвентаря; 8) составляет проект устава, штаты, инструкцию для избрания личного состава (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 42 об.). Репертуар функций был достаточно широк и предполагал наличие профессиональных знаний не только в области археологии, но и в сфере музейного строительства. Это определило персональный состав комиссии.
Возглавил комиссию Б. В. Фармаковский (товарищ председателя РАИМК). В состав вошли С. С. Лукьянов9 (ученый секретарь РАИМК), Л. А. Мацулевич10, А. А. Спицын11, С. Н. Тройницкий12 (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 4. Л. 21–21 об.). В мае 1920 г. состоялось формальное избрание членами комиссии служивших в Эрмитаже Л. А. Мацулевича и О. Ф. Вальдгауера (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 4. Л. 38 об. – 39), но реальное их участие в работе может быть датировано началом марта 1920 г., когда (10 марта) состоялось первое заседание комиссии, ход которого нашел отражение в специально составленном журнале (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 48). Тогда на заседании, проходившем под председательством Б. В. Фармаковского, присутствовали
О. Ф. Вальдгауер, Б. Г. Крыжановский13, С. С. Лукьянов, Э. Э. Малер14, Л. А. Ма-цулевич, А. А. Спицын и С. Н. Тройницкий. Для составления журнала была приглашена ученица Фармаковского Е. О. Прушевская15. Вальдгауер, Крыжа-новский и Фармаковский высказались против увеличения численности комиссии, т. к. в ней «имеются представители от всех специальностей и что число членов комиссии является уже предельным для рабочей комиссии». Это предложение было принято, и собравшиеся решили новыми постоянными членами число членов комиссии не увеличивать (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 48).
Заведующим разрядам и председателям постоянных комиссий РАИМК от лица ученого секретаря была направлена записка, в которой тот просил предоставить в ближайшее время «соображения разрядов и постоянных комиссий относительно того, какие предметы или их воспроизведения должны были бы быть представлены <…> в коллекциях музея из областей, представляющих предмет специальных занятий каждого разряда и каждой комиссии», «с тем, чтобы они были пополнены впоследствии по мере развития дальнейших работ разрядов и постоянных комиссий» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 45–45 об.).
Результатами проведенных работ стали Проект положения о Центральном музее истории материальной культуры в Петрограде и Объяснительная записка к нему, представлявшие структуру и обоснование планируемого учреждения. Проект положения целью музея ставил – «дать в образах, дошедших от старины, наглядную картину истории общемировой культуры, которая содействовала бы развитию общей творческой энергии масс населения и обслуживала бы живые интересы производств и хозяйство страны, а равно способствовала бы расширению и углублению научных изысканий специалистов» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 41).
Для решения поставленной цели предполагалось решение следующих задач: 1) собирать и пополнять («чтобы представлять в каждый момент последнее слово науки») «типичные предметы, которые представляют основные факты в общей эволюции мировой культуры и являются существенными для воссоздания картины ее генезиса и современного положения, и всякого рода пособия, могущей служить для разъяснения собираемых в музее коллекций»; 2) помогать другим музеям, «в том числе музеям специальных назначений, устраиваемым при производственных пунктах»; 3) содействовать охране «городов, музеев и находящихся в них памятников и собранию древностей»; 4) организовывать и принимать участие в производимых РАИМК раскопках, экспедициях и поездках, получая тем самым для своих коллекций предметы; 5) содействовать расширению знаний по истории материальной культуры («распространяя разные воспроизведения предметов из коллекций музея, устраивая специальные выставки, производя экспертизу, выдавая справки, руководя экскурсиями по музею, организуя лекции и занятия, устраивая совещания специалистов, участвуя в работе съездов и конгрессов в России и за границей, публикуя в печатных изданиях материалы музея и сочинения по специальности музея и т. д.») (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 41).
В вопросе об источниках пополнения фондов проект был крайне уклончив, оговаривая, однако, что из-за недостатка оригиналов в музее «временно выставляются возможно более точные воспроизведения типов предметов, долженствующих войти в музей <…> когда к тому окажется возможность» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 41 об.). При этом предлагая и такое направление политики комплектования фондов, которое едва ли могло быть поддержано другими музеями: «Фонды, могущие войти в учреждаемый музей из других государственных музеев, устанавливаются конференцией Академии на основании специальной инструкции, утверждаемой также конференцией» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 41 об.).
Структура будущего музея выглядела вполне классической и строилась преимущественно по хронологическому принципу. В нем должно было быть пять отделений: 1) древностей; 2) Средних веков; 3) Нового времени; 4) Новейшего времени (со второй половины XIX в.); 5) областей особого значения. Отделения музея делились на разряды, которые могли образовываться «в зависимости от научных требований момента» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 41 об.).
Объяснительная записка была более развернутой и прямо увязывала проводимые работы с решениями музейной конференции 1919 г. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46). По мнению ее составителей, «учреждаемый новый музей должен быть построен в масштабе, соответствующем масштабу АИМК. В нем должны быть представлены документы не только в узком смысле археологические, но и памятники искусства, и материалы этнологические. Музей должен <…> материализировать в собираемых образах древности всю работу АИМК, должен давать ей завершение» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46). Этим и объяснялось изменение названия от археологического музея к музею истории материальной культуры, с одной стороны, отвечавшее названию учреждения, при котором фактически музей создавался, но, с другой стороны, предполагавшее и постановку принципиального вопроса о сути и границах археологического знания, разрешавшегося в пользу холистического подхода. Поэтому над созданием музея должны работать все отделы РАИМК, занимавшиеся изучением памятников материальной культуры. Любопытным кажется уточнение о том, что именно следует понимать под таковыми. Памятниками материальной культуры признавались памятники, «которые имеют известное протяжение в пространстве» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46), вероятно, тем самым проводилась демаркационная линия между ними, с одной стороны, и письменными источниками, а также обрядами и обычаями (этнографическими фактами) – с другой.
Создание музея рассматривалось как обязательное условие того, что РАИМК «в состоянии будет оказать народным массам ту пользу, которая от Академии ожидается, и только с учреждением музея Академия будет в состоянии развить все свои функции» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46 об.).
Хотя среди функций музея, вполне в соответствии с настроениями, характерными для новой советской политики в области культуры, на первый план выдвигалась просветительская – «Учреждаемый музей должен быть прежде всего учреждением, полезным народу», – раскрытие этой функции явно выдавало приверженность создателей проекта классической модели музея, в которой центром и основой всей его деятельности все же является исследовательская работа. В проекте оговаривалось: «Таким образом, он может быть строго научным учреждением, каким еще в 1733 г. был задуман Британский музей и каким представляли себе Берлинский музей16 его первые деятели: В. фон Гумбольдт17, Бун-зен18 и Герхард19, положившие начало идее современного музея. Музей должен быть нужен не для одних специалистов. В нем должны получить постоянное освежение художественное научное воспитание, духовный подъем и усиление общей творческой энергии широкие массы народа. Производства страны и хозяйства равным образом должны черпать из музея нужные знания, справки, разного рода информации» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46 об.).
Как и сама РАИМК, музей должен был выполнять функции своеобразного методического центра, помогая уже существующим музеям, «объединяющимся с ним в общей работе, оказывая им содействие в пополнениях специальных коллекций; представляя общую картину эволюции человеческой культуры, новый музей тем самым должен будет содействовать выяснению специальных задач, имеющихся у всех существующих ныне русских музеев» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 46 об.).
Необходимым признавалось в основу структуры музея положить строгую систему: «Никакой научный музей не может быть рассматриваем как собрание диковинных редкостей, требуемых праздным любопытством; никакой научный музей не нуждается в роскошных апартаментах дворцового типа, считавшихся долго правилом, т. к. прежде моделью для музеев считались папские музеи в Риме или коллекции королей и императоров, славившие своих владельцев» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47).
Но что именно должна была представлять собой эта система, оставалось не до конца понятным. Как и во многих других проектах первых послереволюционных лет, сциентистская ориентация парадоксальным образом сопрягалась с утопическими фантазиями, и отсылки к строгой научности не мешали полету воображения: «Новый музей не должен представлять еще одно собрание хорошо известного уже типа <…> Нужен совершенно новый музей, подобно которому не было и нет. И новый музей ставит целью содействие и помощь существующим музеям, совершенно не являясь им в каких-либо отношениях соперником и нимало не претендуя на обогащение их фондами <…> Музей должен своими коллекциями иллюстрировать в каждый данный момент наглядно современное состояние науки по каждому вопросу, показывая и силу науки, и ее недочеты, и desiderata» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47).
Чуть более четко в объяснительной записке прописаны были положения политики музея в области комплектования фондов: «В новый музей не входят предметы местного и специального значения, каковым место в других музеях: например, в Эрмитаже для памятников мирового искусства, в Русском музее для памятников русского искусства, в Историческом музее в Москве – для памятников русской культуры и т. п. Новый музей, блюдя интересы общего дела, должен озаботиться и целостью городов-музеев и находящихся в них коллекций местных памятников. До сих пор городов-музеев, можно сказать, у нас не было. Древности большею частью увозились в столичные музеи, а на местах оставлялось только мало интересное» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47).
Разрабатываемый проект предлагал новый подход: «Новый музей собирает только типы, основные факты эволюции мировой культуры, иногда типы эти могут быть представлены и не показными (по старой ненужной терминологии) предметами. Все документы в новом музее должны храниться на равных основаниях» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47 об.). Динамичный характер эпохи находил отражение и в постулируемой динамике музейной работы и ее постоянном приведении в соответствие с актуальным уровнем научного знания: «Работа над организацией музея будет непрерывная, постоянная. Успехи науки требуют постоянно новых перемещений, новой классификации, новых пополнений» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47 об.).
Фондом для музея должны были служить, прежде всего, коллекции самой РАИМК, под которыми, вероятно, понимались и уже наличные материалы (полученные «по наследству» от Археологической комиссии), и материалы проводимых ею раскопок. Однако и те и другие конференция РАИМК должна была распределять по всем заинтересованным музеям страны, в центральный же музей должны были передаваться «лишь предметы, удовлетворяющие основным задачам музея». По решению конференции РАИМК сюда могли бы передаваться и предметы из других музеев, «если они в этих задачах не отвечали бы задачам их» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47 об.).
Признавая отсутствие в настоящее время достаточной базы для развертывания полноценного музея, авторы объяснительной записки предлагали следующее решение для текущего момента: «Пока нет подлинников, в новом музее помещаются воспроизведения типов, которые в оригиналах войдут в музей, когда к тому будет возможность. Кроме коллекций, новый музей собирает пособия, нужные для изучения и уразумения собираемых в нем материалов (книги и др.). Музей прилагает все усилия для популяризации своих коллекций и имеет для того свои издания <…> Пока можно было бы составить в образах план состава музея, выставив частью оригиналы из коллекций Академии, частью слепки, чертежи, рисунки, фотографии и т. п.» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 70. Л. 47 об.).
Вопрос формирования музейных фондов традиционно к началу ХХ в. принадлежал к числу самых слабо разработанных вопросов отечественного музееведения. Практически во всех проектах создания музея, появлявшихся в России с начала XIX в., он или обходился стороной, или сводился к набору трюизмов, нежизнеспособность которых была очевидна для любого, знакомого с музейной деятельностью. Проект создания Центрального музея истории материальной культуры не стал в этом отношении исключением. Очень скоро стало понятно, что отсутствие фондов для столь масштабного проекта не оставляет практически никаких шансов для его реализации.
29 ноября 1920 г. ученый секретарь комиссии по организации музея Б. Г. Крыжановский доложил правлению РАИМК, что ввиду того, что «для организации совершенно самостоятельного Музея понадобится значительный персонал и долголетнее собирание материала, а в то же время в Эрмитаже имеется и то и другое, было бы целесообразным попытаться организовать археологический музей в Эрмитаже, расширив соответствующим образом его отделение Древностей» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 5. Л. 122). Его поддержали С. Ф. Ольденбург20 и С. Н. Тройницкий, а А. А. Миллер (автор озвученного на конференции 1919 г. проекта археологического музея) указал на заинтересованность Русского музея в организации Археологического музея, внеся в обсуждение некоторый дух соревновательности. Впрочем, сторонники «унии» с Эрмитажем постарались тут же эту соревновательность нивелировать, заявив, что после получения согласия Эрмитажа «к обсуждению этого вопроса будут привлечены все заинтересованные учреждения и общества и, вероятно, Отдел музеев21». Совет РАИМК постановил: запросить совет Эрмитажа, считает ли он возможным взять на себя организацию археологического музея, получить заключение второго отделения Академии и совещания Отдела древностей Эрмитажа по соответствующему вопросу и поставить вопрос на обсуждение совета РАИМК 6 декабря (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 5. Л. 122).
6 декабря 1920 г. отношение правления РАИМК по данному вопросу, а также рапорт О. Ф. Вальдгауера о том, что Отдел древностей, заслушав предложение, «всецело присоединяется» к этому пожеланию РАИМК, были вынесены на обсуждение совета Эрмитажа. Совет постановил: «Ввиду того, что археология и история искусства, различествуя в методах, имеют объектом изучения один и тот же материал, вследствие чего при образовании нового мирового музея, посвященного археологии, в обоих музеях будут лакуны из-за невозможности дублировать как раз наиболее ценные в научном и художественном отношении памятники, а в других частях будет вредный параллелизм, – считать крайне желательным образование музея мировой археологии в Эрмитаже, уже обладающем самыми богатыми в России археологическими коллекциями и готовым для развития этого дела научным аппаратом.
Для разработки плана организации такого музея образовать смешанную комиссию из представителей Эрмитажа и Российской Академии истории материальной культуры» (Журналы заседаний…, 2009. С. 259, 260). В тот же день отношение Эрмитажа было доложено правлению РАИМК и принято к передаче в совет РАИМК (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 5. Л. 125). Тогда же в связи с перераспределением Отделений РАИМК было предложено упразднить самостоятельную комиссию по организации музея, включив ее (наряду с комиссией по переводам) в состав комиссии популяризации археологических знаний (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1920). Д. 5. Л. 126). И хотя 3 января 1921 г. в качестве представителей РАИМК для работы в комиссии по созданию археологического музея (показательное обращение к старому названию как маркер возвращения к более осуществимому проекту) советом РАИМК были избраны Б. В. Фармаковский, А. А. Миллер, С. Ф. Ольденбург, В. В. Бартольд22 и Н. П. Сычев23 (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. (1921). Д. 4. Л. 3–4), и эта (совместная с Эрмитажем) комиссия не принесла ожидаемых результатов. Хотя передачи археологических материалов из РАИМК в Эрмитаж способствовали расширению археологического фонда последнего (см., напр.: Журналы заседаний…, 2009. С. 282, 283 и др.).
Впрочем, планы создания собственного музея в РАИМК забыты не были. Так, например, в 1925 г. С. А. Жебелёв (заместитель (товарищ) председателя академии с 1923 г.) пытался заручиться поддержкой возглавлявшего РАИМК Н. Я. Марра в деле передачи сюда коллекций ликвидированного Петроградского археологического института (см. подробнее: Ананьев, Бухарин , 2020). 9 июля 1925 г. он писал В. В. Бартольду: «Хлопочу о передаче Академии музея бывшего Археологического института, его, музей, хотели рассовать по Университету и тем самым погубить. А у нас, если бы мы его получили, он составил бы ядро будущего археологического музея, о котором мы так мечтали» (СПбФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 92. Л. 5 об.). Усилия Жебелёва оказались тщетными. А 23 мая 1930 г. на собрании сотрудников ГАИМК совместно с музейными работниками Ленинграда по вопросу чистки академии Ф. В. Кипарисов24, фактически возглавлявший ее с 1929 г., хотя и значившийся формально заместителем председателя, прямо связал создание музея с актуальнейшими задачами, которые ставила перед академией современная политическая ситуация. Он говорил: «Теперь относительно увязки научной работы с актуальными задачами. Это нужно сказать.
Особенно актуальная задача – переработка человеческих мозгов, искоренение тех предрассудков, или ложных, квазинаучных представлений о ходе человеческой истории, которые, увы, господствуют в наших головах. Это совершенно актуальная задача, идущая в линии всего нашего социалистического строительства, широко понимаемого.
В частности, – те товарищи, с которыми я работаю, это знают, что наша мечта – проработать план грандиозного музея истории человеческой культуры, поставить сейчас проблему, чтобы через пять лет, когда государство будет в состоянии 20–30 миллионов бросить на постройку нового музея, в котором собрать всю историю человека – до наших октябрьских дней. В этот музей собрать все, что есть нужного и ценного в наших музеях, остальные музеи рассматривать как резерв. Теоретически проработать план такого музея, который дал бы возможность историю человеческой культуры на всем его протяжении показать с точки зрения классовой борьбы и тех законов, которые ею управляют. Разработать пока только теоретический план такого музея – задача необычайно сложная, которая должна быть проведена на протяжении нескольких лет с привлечением всех марксистских сил. Этот музей явился бы грандиозным памятником В. И. ЛЕНИНУ, именно в нашей стране, у нас» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1930). Д. 5. Л. 97). Но и здесь план не был реализован, а сам его автор вскоре погиб в круговороте репрессий.
Таким образом, как видим, вопрос создания в Петрограде-Ленинграде специализированного археологического музея, заявленный самими представителями научного сообщества еще в позднеимперский период, продолжал оставаться актуальным и в первые десятилетия советской власти. Надежды на централизацию всей археологической и памятникоохранительной деятельности в системе РАИМК, казавшиеся реальными сразу после создания академии, вскоре столкнулись с проверкой суровой реальностью: недостатком финансирования, нехваткой кадров, идеологическим давлением, институциональной чехардой. Материальных условий для создания практически с нуля масштабного профильного музея не было. Не вполне четким было и концептуальное представление о его границах на перекрестье археологии, этнографии и истории искусства. В середине 1920-х гг. в связи с появлением целостного профильного собрания, оказавшегося «бесхозным», надежды на создание музея, хотя и в более скромном масштабе, возродились, но и им не суждено было реализоваться. Наконец, чистки и репрессии начала 1930-х гг. окончательно сняли с повестки дня утопические планы создания монументального музея истории всего человечества. Дальнейшее развитие этого направления, уже после включения ГАИМК в систему АН СССР, будет связано с созданием гораздо менее амбициозных научно-исследовательских музеев при ряде академических учреждений страны.
Список литературы «Нужен совершенно новый музей»: Российская академия истории материальной культуры и проект создания Центрального музея истории материальной культуры в 1920-е гг
- Ананьев В. Г., 2017. "До сих пор нет археологического музея в настоящем смысле этого слова". ПетрогРАд: Проекты и планы 1917 г. // РА. № 2. С. 172-177.
- Ананьев В. Г, Бухарин М. Д., 2020. К истории Музея Петербургской духовной академии в послереволюционный период. Письмо С. А. Жебелёва Н. Я. Марру // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. Т. 36. Вып. 1. С. 171-178.
- Ананьев В. Г., Бухарин М. Д., 2021. Проект создания археологического музея на Первой всероссийской музейной конференции 1919 г. // КСИА. Вып. 262. С. 437-443.
- Беззубова О. В., 2003. Музей как инстанция художественного, научного и идеологического дискурсов: автореферат дис.. канд. философ. наук. СПб. 24 с.
- Журналы заседаний Совета Эрмитажа. Ч. II. 1920-1926 годы / Ред. М. Б. Пиотровский. СПб.: Изд-во ГЭ, 2009. 880 с.
- Платонова Н. И., 2010. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX - первая треть XX века. СПб.: Нестор-История. 316 с.
- Neustupny J., 1968. Museum and research. Prague: Office of Regional and Museum Work of the National Museum in Prague. 159 p.
- Whitehead C., 2009. Museums and the Construction of Disciplines: Art and Archaeology in Nineteenthcentury Britain. London: Duckworth. 160 p.