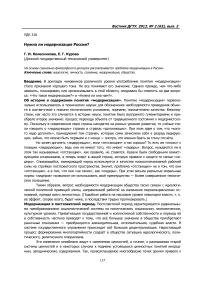Нужна ли модернизация России?
Автор: Колесникова Галина Ивановна, Курова Екатерина Геннадьевна
Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2-2 (63) т.12, 2012 года.
Бесплатный доступ
На основе социально-философского дискурса рассматривается проблема модернизации в России.
Идеология, личность, сознание, модернизация, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14249806
IDR: 14249806 | УДК: 316
Текст научной статьи Нужна ли модернизация России?
Введение. В докладах чиновников различного уровня употребление понятия «модернизация» стало признаком хорошего тона. Не все понимают его значение. Однако прежде, чем что-либо заявлять, планировать или организовывать в этой области, следовало бы ответить на два вопроса: «Что такое модернизация?» и «Нужна ли она нам?».
Об истории и содержании понятия «модернизация». Понятие «модернизация» первоначально использовалось в технических науках для обозначения необходимости приведения объекта в соответствие с новыми техническими условиями, нормами, показателями качества. Впоследствии, как часто это случается в истории науки, понятие было воспринято гуманитариями и приобрело второе значение: процесс перехода объекта от традиционного состояния к модернистскому. Поскольку в современном мире страны находятся на разных уровнях развития, то учёные стали говорить о «лидирующих» странах и странах «догоняющих». При этом идея о том, что «кого-то надо догонять», принадлежит тем странам, которые сами зачислили себя в разряд лидирующих, забыв, что можно быть первыми и с конца — смотря, что именно брать за точку отсчёта.
Но зачем догонять «лидирующих», если «отстающим» и так хорошо? То есть им «плохо» с позиции «лидирующих», ведь они не имеют того, что имеют «лидеры». Вопрос, нуждаются ли в этом так называемые «отстающие», как правило, не ставится. Казахи были свободными воинствующими кочевниками, а теперь живут в нищей стране, которую привели к нищете те самые «лидеры». Спивающийся, вымирающий народ используется в качестве низкооплачиваемой рабочей силы на стройках постсоветского пространства. Значит, проблема «отстающих» не в том, что они «отстающие», а в том, что они «не такие», как «лидеры». При этом весьма размытые моральные нормы «лидеров» позволяют им использовать своё преимущество — более совершенное техническое оснащение.
Таким образом, вопрос необходимости модернизации общества тесно связан с идеологической политикой правящей элиты, направленной работой на изменение мировоззренческих оснований, прежде всего личностных. (Подобная работа на массовом уровне невыгодна власти, т. к. её эффект, скорее всего, будет ниже, а последствия трудно прогнозировать.)
Модернизация в постсоветский период. Постсоветский период характеризуется радикальными преобразованиями социалистической системы на политическом, социальном, экономическом, культурном уровнях. Приватизация государственной и коллективной собственности и переход её в собственность частную приводят к тому, что всё большее значение в обществе приобретают рыночные отношения — преобразуются законодательная, исполнительная, судебная власти. В системе государственного управления происходит всё большая децентрализация. Нарастающий процесс формирования многопартийности создаёт в обществе ситуацию идеологического, политического, религиозного плюрализма.
Эти изменения неизбежно ведут к изменению ценностей, а точнее, к размыванию старой системы ценностей и в некоторых случаях к подмене устоявшихся ценностных понятий инородным, западническим, содержанием. Так, провозглашаемое многообразие точек зрения привело к подмене плюрализма противостоянием противоположных подходов, крайними выражениями которых стали лагерь западнического радикального крыла модернизаторов России и лагерь правонационалистических сил.
Западническое радикальное крыло России с удовлетворением констатирует, что произошло «крушение» России, и в её истории наступил «переломный период». Следовательно, Россия должна срочно изменить свой геополитический и цивилизационный облик, а для этого ей необходимо максимально быстро сбросить «груз прошлого», включая все «пагубные утопии», когда-либо создававшиеся в её истории. При этом муссируется тезис о «ненормальности» России, из которого выводится необходимость её «осовременивания». При этом под «осовремениванием» понимается прежде всего усвоение западных (американских) ценностей и стереотипов поведения. Так, политико-идеологическая пропаганда прозападной демократии провоцирует нарастание противостояния правонационалистических сил, программы которых направлены на решение противоположной задачи — поиск пути национального сохранения России и восстановления её духовно-нравственных ценностей, как основы объединения народов российского пространства.
Наиболее очевидно данное противостояние выражается в конфликте между актуализированной обстоятельствами необходимостью быстрого обновления культурного наследия и системы духовной регуляции, с одной стороны, и сохранением национальной идентичности, духовных ценностей, которые являлись основой, поддерживающей жизненно важные функции общества, — с другой. Данное противостояние постепенно переходит в открытую борьбу между западниками, ратующими за новую индустрию культуры и рыночные отношения, и сторонниками российской самобытности, отстаивающими гуманистическое достояние культуры России.
Обе позиции функционально значимы для полноценного развития общества. Поэтому их противостояние приводит к возникновению в общественном сознании ощущения утраты ценностей и, как следствие, изменению норм поведения. Общество дезориентировано, поскольку новые прозападные прагматичные ценности не могут не только возместить весь комплекс утрачиваемых ценностей, но и противоречат им, разрушая тем самым функциональные нормы и ценности, составляющие сущность цивилизационного достояния России.
«Я задумался, куда идёт Россия. Получилась схема трёх препятствий: сопротивление номенклатуры, сопротивление народных привычек, сопротивление национальных страстей. По моей тогдашней оценке, реформа может пробиться сквозь первое препятствие, завязнет в болоте народных привычек и потерпит крушение, когда вспыхнут национальные страсти. <…> Взрывные движения — не область точных предвидений. Легче предвидеть другое: упорство привычек, сложившихся в царстве Утопии. Самоизменение привычек идёт вкривь и вкось, из одного уродства в другое. <…>
Большинство политиков и журналистов чудовищно прямолинейно. Им хочется или «как в Америке», или как в «исконной России», идущей совершенно своим, неповторимым путём. Но в Европе все нации идут своим путём — перекликаясь друг с другом, учась на своих и чужих ошибках. И вместе отыскивая выход из тупика, в который вошла фаустовская цивилизация (ещё не замечая на уровне масс). Беда не в том, что мы усваиваем чужое. Это все делают <…>, а в том, что мы очень вяло усваиваем чужие добродетели и очень живо — чужие пороки» [1].
Медленно и с большим трудом проникает сначала в научную сферу, а затем в общественное сознание идея о специфичности процессов модернизации и их многообразии в зависимости от специфики цивилизационной среды, и формируется понимание, что данный процесс не может и не должен рассматриваться с позиции осуществления некой «образцовой» модели.
Состояние аномии и ценностной дезориентации приводит к перераспределению системы потребностей и выделению в ней новых ориентиров и приоритетов, ранее не свойственных народу России. Так, широкое внедрение рыночных отношений и частной собственности привело к ра- дикальному изменению системы социализации: сужается сфера межличностных «социалистических» отношений и расширяется сфера товарно-денежных связей. На ценностном уровне это ведёт к распространению прагматических, предпринимательских ориентаций, которые поддерживаются реформаторскими кругами.
Эти изменения неотвратимо ведут к «подрыву» традиционных моральных норм и ценностей что провоцирует рост коррумпированности и криминализации общества. На уровне социальной стратификации усиливается классовое разделение на богатых, бедных и беднеющих, причём, в отличие от западных стран, в России при малочисленном среднем классе резко выражена диспропорция между состоятельными и малоимущими гражданами. Это не только и не столько экономическая проблема, но прежде всего нравственная, поскольку расслоение общества приобретает наследственный характер.
«Победа Ельцина в 1993 году, на первый взгляд, создала условия для установления соревновательного либо консенсусного демократическо-автократического режима. По факту же сложилась идеальная соревновательная олигархия. <…> Все 1990-е годы власть и нация были антагонистичны друг другу. По большому счёту, власть никто не считал «своей» — кроме довольно узкой прослойки политиков, высших чиновников и связанных с ними предпринимателей, интеллектуалов, деятелей культуры, а также бывших «демократов». Тогдашняя российская «демократия» совершенно не маскировала «олигархию», наоборот. Более того, многие олигархи, в частности крупные предприниматели-плутократы, вели себя предельно безответственно, настойчиво демонстрировали публике своё могущество, провоцируя сильнейшее раздражение. Попытки выстраивания политического режима на соревновательных началах по западным образцам (с многопартийностью, медиакратией и др.) в условиях не просто отсутствия традиций публичной политической конкуренции, а принципиальной несовместимости отечественной политической культуры и публичной соревновательности, как и следовало ожидать, только усугубили негативные последствия» [2, с. 153—154].
На фоне резкого изменения системы социального обеспечения — развитие платного здравоохранения и образования — растёт недовольство бедных и беднеющих слоёв. При этом бедные и беднеющие слои ощущают себя обманутыми жертвами, поскольку они не видят для себя шанса вырваться из того положения, в котором оказались, что усиливает дестабилизацию в обществе и снижает доверие к власти. К окончательной дестабилизации процесса модернизации приводит ставка власти на малочисленную, но экономически активную группу богатых, что выражается, в частности, в предоставлении им благоприятных стартовых возможностей. Увеличивается разрыв между социальными группами, центром и провинцией, возрастными группами населения. В большой степени это обусловливается тем, что «в действиях … предпринимателей часто просматривается откровенное пренебрежение к закону, морали и элементарным нормам поведения, что сводит на нет положительный заряд мотивации. <…> А в обществе имеется чёткое представление о том, что немногие ловкие дельцы присвоили то, что создавалось всем народом на протяжении нескольких поколений. Нравственная легитимность постсоветского предпринимательства весьма проблематична, и это не может не обострять его взаимоотношений с обществом» [3, с. 226—227]. О последствиях модернизации России. Итак, в постсоветский период форсированная вестернизация, обусловленная широким внедрением рыночных отношений и частной собственности, обеспечивалась в основном внедрением в сознание личностей утилитарных и потребительских ценностей и через них актуализировала низший слой потребностей — биологический. Это создало благоприятную почву для манипуляционного воздействия на сознание личности, цель которого — отвлечение личности от участия в общественной жизни и адекватной оценки действительности.
Таким образом, биосоциальные компоненты западного сознания, включённые в социальную систему регуляции России через механизмы воздействия институтов политической системы, права и частной собственности, проникают в дезорганизованную общественную структуру и инициируют в ней возникновение ответной биосоциальной реакции. Это приводит к возникновению изменений в содержательном компоненте подтипов российского социального типа личности — как следствие, российский социальный тип личности трансформируется в сторону западного социального типа.
Исходя из сделанного выше анализа особенностей трансформационного процесса в России в первой трети XX — начале XXI века, можно сделать ряд заключений. Во-первых: данный этап в истории России распадается на два периода: советский и постсоветский. Во-вторых: разнона-правленность историко-культурологических и социально-политических изменений обусловливает неоднородность трансформационного процесса. В-третьих: каждое из направлений отличается по актуализированным потребностям, ценностям, виду деятельности и доминирующему фактору, влияющему на трансформацию общества. В-четвёртых: в советский период доминировал идеологический подтип российского социального типа личности, в постсоветский началась трансформация российского социального типа личности в сторону западного социального типа.
Итак, если отбросить благолепное умиление по поводу прекрасной модернизации и объективно взглянуть на те «прелести», которые получили на самом деле «лидеры», то картина предстанет малоутешительной: это и различного вида кризисы (экологический, экономический, социокультурный), и развал морально-этической системы, и ярко выраженное разделение на богатых и бедных.
Нет и не может быть в разнообразном мире единого стандарта «правильной» жизни. Если, например, некто стал бы утверждать, что на планете Земля должен быть только один вид цветов, его слова не приняли бы всерьёз, однако с идеей общего стандарта развития стран удивительно легко соглашаются. Почему? Ответ прост. Модернизация на самом деле нужна (и Россия не исключение) только 1 % населения, а именно тем, кто продвигает саму идею модернизации, чтобы лоббировать свои собственные интересы, а не интересы общества. Само же общество тихо, грустно посмеивается над этим процессом и думает о том, как бы перебраться в другие страны, в которых не вещают о модернизации, а заботятся о повышении качества жизни и неприкосновенности личных интересов. Например, недавно выдели 84 млрд руб. на разработку и внедрение национальной операционной системы на базе ОС «Линукс», которая на самом деле является открытой и бесплатной и разрабатывается специалистами всего мира. Однако госзаказ на создание русской операционной системы отдали дотоле не известной фирме, которая, не стесняясь, заявляет, что денег мало и что они потом попросят ещё. Самое интересное — им отвечают, что дадут. Такое ощущение, что в стране нет специалистов, которые обратили бы внимание на очевидное: национальная система будет разработана на базе ОС «Линукс», а это означает, что из неё будет взято 90 % наработок. А в оставшиеся 10 % «инноваций» можно вместить только изменение дизайна самой операционной системы и пару незначительных нововведений, что обойдёт не более чем в 100 тыс. руб. (имеется в виду разработка, а не внедрение). Грустно, не так ли? И это лишь один, причём не самый яркий пример. Если все подобные случаи собрать и завести по ним уголовные дела, то их общее количество будет неприлично большим. Однако вместо того, чтобы следить за подобными важными вещами, внимание общественности переносится на несчастного Ходорковского, войну в Ливии, судьбы незадачливых туристов в Египте и проч.
Заключение. Так что же принесла модернизация российскому обществу на самом деле? Потерю доверия к власти и властным структурам, что привело к формированию «синдрома недоверия», который подошёл к критической точке и готов превратиться в «синдром неверия». Это обусловлено тем, что последние сто лет при помощи различных ухищрений (революция, гражданская война, лагеря, реформы советского и постсоветского периодов) в России последовательно разрушалась национально-культурная идентичность. Ослабление общероссийской идентичности при- вело к гипертрофированности самоидентификации на микроуровне (территория, семья, друзья). Следствием стало разрушение личностной психики, межличностных взаимоотношений, когда люди думают одно, говорят другое, делают третье. Таким образом, аксиологические основы российской ментальности: соборность, коллективизм, служение обществу, — вытесняясь, заменяются индивидуализмом, эгоизмом, превалированием материальных ценностей над духовными.
Таким образом, вопрос, вынесенный в название статьи, предстаёт риторическим, а ответ на него очевидным.
Список литературы Нужна ли модернизация России?
- Померанец, Г. С. Ещё одна жизнь/Г. С. Померанец//Знамя. -1994. -№ 2. -С. 158.
- Иванов, В. В. К критике современной теории государства/В. В. Иванов. -Москва: Территория будущего, 2008.
- Взаимодействие элит в социально-политическом процессе современной России/В. Г. Игнатов [и др.]. -Ростов-на-Дону: СКАГС, 2001.