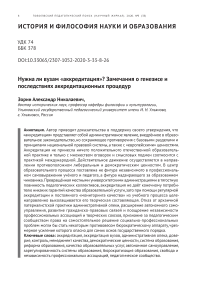Нужна ли вузам "аккредитация"? Замечания о генезисе и последствиях аккредитационных процедур
Автор: Зорин Александр Николаевич
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и философия науки и образования
Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор приводит доказательства в поддержку своего утверждения, что «аккредитация» представляет собой административное явление, внедрённое в образовательное законодательство, но сохраняющее противоречия с базовыми разделами и принципами национальной правовой системы, а также с «европейскими» ценностями. Аккредитация не принесла ничего положительного отечественной образовательной практике и только с множеством оговорок и смысловых подмен соотносится с практикой международной. Действительное движение осуществляется в направлении противоположном либеральным и демократическим ценностям. В центр образовательного процесса поставлена не фигура независимого в профессиональном самовыражении учёного и педагога, а фигура надзирающего за образованием чиновника. Превращённая местными университетскими администрациями в тягостную повинность педагогических коллективов, аккредитация не даёт конечному потребителю никаких гарантий качества образовательной услуги, зато при помощи регулярной аккредитации и постоянного «мониторинга качества» из учебного процесса целенаправленно выхолащивается его творческая составляющая. Отказ от архаичной патерналистской практики административной опеки, расширение автономного самоуправления, развитие гражданско-правовых связей и поощрение независимости профессиональных ассоциаций и творческих союзов, признание за педагогическим сообществом права на самостоятельное решение социально-профессиональных проблем могли бы стать некоторым противовесом бюрократическому аппарату, чрезмерное усиление которого опасно для самих основ государственного порядка.
Аккредитация, аккредитация вузов, административная опека, доверие, контроль, менеджмент качества, демократические ценности, система образования, реформа образования, качество образовательных услуг, автономное самоуправление, зарегулированность системы образования, бюрократизация образования, свобода и независимость профессиональных ассоциаций, педагогическое сообщество
Короткий адрес: https://sciup.org/142226352
IDR: 142226352 | УДК: 74 | DOI: 10.33065/2307-1052-2020-3-33-8-26
Текст научной статьи Нужна ли вузам "аккредитация"? Замечания о генезисе и последствиях аккредитационных процедур
«Образовательные услуги» в Российской Федерации относятся к аккредитуемым. Аккредитация (лат. accredo , «доверять») – процедура официального признания чего-либо, выражение доверия. Например, в международном праве понятие «аккредитация» означает процедуру признания дипломатического представителя страны или организации при иностранном государстве. В деятельности средств массовой информации, «аккредитация» – признание полномочий журналистов при пресс-службах организаций и учреждений. В области образования под «аккредитацией» обычно понимается признание качества учебного процесса в конкретном образовательном учреждении какой-либо внешней авторитетной структурой.
В России аккредитацию вузов любят объяснять особой социальной значимостью образовательной деятельности, опасностью её бесконтрольного осуществления. С начала 2000-х годов общественному сознанию и высшему руководству страны буквально навязывают мысль, что аккредитация – необходимый элемент «системы управления качеством», что таков современный международный стандарт работы в образовательной сфере, и следование этому стандарту в самое ближайшее время выведет вузы России на новые рубежи, с которых откроется величественная панорама интеграции в «единое европейское образовательное пространство» (см., например [Зорин 2020: 24 – 40].
Не менее распространён в заинтересованных кругах тезис о том, что аккредитация защищает права и интересы граждан, ограждая от некачественных образовательных услуг. Аккредитация, – подхватывают ту же линию популярные русскоязычные интер-нет-ресурсы [Аккредитация 2020], – применяется в тех областях, где потребитель услуги не в состоянии оценить её уровень, а ведь образование – именно такая сфера, и как же ей без аккредитации?
Рассмотрим коротко эти аргументы, обращая внимание, прежде всего, на противоречия и нестыковки. Начнём с того, что аккредитация образовательных учреждений в Европе существует не сама по себе, а является частью более общих усилий, направленных на преодоление имеющихся различий национальных законодательств и технических нормативов. Европейцы убеждены, что «в областях, безусловно касающихся жизненных интересов – здоровья, безопасности людей, защиты потребителя и окружающей среды, национальные законы, предписания и стандарты должны быть приведены к единым общим обязательным требованиям» [Принципы стандартизации 2012]. При этом Европа имеет развитую систему гражданских взаимоотношений, всевозможные профессиональные и отраслевые ассоциации, неподконтрольные напрямую государственным структурам. Возможна действительная заинтересованность некоторых учебных заведений в аккредитации экспертными группами и профессиональным сообществом как способе подтвердить собственную состоятельность на образовательном рынке, привлечь потенциальных студентов.
В вопросе об аккредитации образовательных учреждений России на размышления наводят несколько обстоятельств:
– ведущая роль государства,
– достаточно странный выбор области «защиты прав и свобод граждан»,
– непонятное предназначение «аккредитации» применительно к давно существующим государственным высшим учебным заведениям,
– прямое администрирование как основное средство аккредитации,
– выход за рамки действующего законодательства, с легитимацией post factum ,
– замкнутость практических аккредитационных процедур сферой бюрократического бумаготворчества,
– приверженность формальному, а не содержательному сходству с европейской образовательной практикой (чем изначально закладывается проблематичность обещанной «интеграции в Европу»).
«Аккредитация», по самому смыслу этого слова, предполагает вынесение доверия или недоверия чему-то внешнему , независимому от доверителя, или чему-то частному, в сравнении с неким свободно ассоциированным из аналогичных же частей целым. Например, внешний по отношению к некоей организации журналист хочет получить при ней аккредитацию. Этим он выражает своё намерение освещать деятельность этой организации. Организация, аккредитуя его, тем самым добровольно принимает на себя издержки по созданию условий для исполнения журналистом профессиональных обязанностей, поскольку из каких-то соображений заинтересована в публичности своего существования, а значит – и в этом конкретном журналисте. Или другой пример. Ассоциация независимых друг от друга и условно зависимых от государства вузов аккредитует новый, малоизвестный вуз, так же, как в средневековом прошлом «цех» присваивал звание мастера в собственном профессиональном кругу. Аккредитация в подобном случае представляет собой признание нового члена сообщества внутри корпоративного круга свободных, независимых и равных.
Примерно о такой аккредитации («общественной», «профессионально-общественной») говорится в статье 96 закона «Об образовании». Реальных правовых последствий в РФ общественная аккредитация не имеет, не влечёт за собой никаких «дополнительных финансовых или иных обязательств со стороны государства» (ст. 87, п. 12, ст. 96, п. 9 ). Возможность российскому учреждению работать на рынке образовательных услуг даёт совсем другая «аккредитация», государственная , выражающая идею безграничных, по своей сути,« полномочий федеральных органов государственной власти в сфере образования ».
В статье 6 закона «Об образовании» сказано, что «образовательная деятельность по <_> программам высшего образования» подпадает под « федеральные государственные образовательные стандарты » и « федеральные государственные требования » ( п. 6), подлежит « государственной аккредитации» ( п. 8) и «лицензированию» ( п. 7) . Тут уже есть, над чем задуматься, поскольку образование – « гуманистическое » (то есть, обращённое к человеку, – А. З.) и нацеленное на приоритет « прав и свобод личности » (Об образовании, ст. 3, п. 3) ) – оказывается со всех сторон окружено государственным нормированием : « стандарты », « требования » [?], « аккредитация », « лицензирование », а ещё « контроль», он же « надзор » ( п. 9), « мониторинг » ( п. 13), «создание условий для <...> независимой оценки качества » ( п. 13.1) и др. На всякий случай, - вдруг что-то забылось, – за государством же закреплено «осуществление иных полномочий в сфере образования» ( п. 14).
Собственно « государственной аккредитации » в законе «Об образовании» посвящена огромная по размеру статья 92, состоящая из 29 пунктов с цифровыми подпунктами, многие из которых, в свою очередь, содержат подпункты буквенные. Даже просто прочитать всё это и понять во взаимосвязи с другими положениями законодательства – задача не из лёгких, а речь идёт о неукоснительном и безукоризненном исполнении, как самой статьи, так и её многочисленных нормативных расширений.
Не секрет, что закон «Об образовании» разработан в недрах профильного министерства, руководящего на тот момент времени и школами, и вузами. Стремление достичь универсализма в отношении к двум совершенно разным образовательным ступеням могло не лучшим образом сказаться на сбалансированности документа. И всё же трудно уйти от вопроса, а как вообще, даже на уровне деклараций, предполагалось сочетать запредельный уровень всеохватывающего контроля над высшими учебными заведениями с тезисами статьи 3 того же самого закона «Об образовании», например:
– «демократический характер управления образованием» (п. 10),
– «автономия образовательных организаций» (п. 9),
– «академические права и свободы педагогических работников и обучающихся» (п. 9).
О педагогических работниках и их правах стоит сказать особо. «Образовательная организация» (вуз, университет) сама не формулирует ценности, не работает со смыслами, не решает никаких исследовательских задач, ничего не преподаёт и никого не образовывает. Она является структурой-посредником между обучающими и обучающимися, заключает с одними трудовые договоры, а с другими – договоры на обучение, формирует материально-техническую базу, получает финансирование и извлекает прибыль. Без образовательной организации обучение (как процесс), в принципе, возможно, но без преподавателя - нет. Именно преподавателю, а не образовательной организации, статья 44 Конституции РФ1 гарантирует «свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания». В университете преподавателем является научно-педагогический работник (НПР), который, за рамками трудового договора, независим от образовательной организации, самостоятельно проходит сложные квалификационные процедуры, имеет выданный государством аттестат (профессора, доцента), позволяющий заниматься преподаванием в любом высшем учебном заведении России. Именно преподаватель,а не организация, пользуется упомянутыми выше «академическими правами и свободами». Согласно Конституции (ст. 2, 18, 45), его (преподавателя) права, – названные, как и любые другие права человека, «высшей ценностью», – имеют приоритет перед акцентируемыми бюрократией «правами государства» и государственных структур, поскольку вся государственная деятельность должна быть подчинена «признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина», и никаким образом не может вступать в противоречие с этими правами и свободами.
Аккредитацию, как отмечалось выше, любят ставить в связь с «европейским образовательным пространством», и если бы речь шла об аккредитации российских вузов европейскими структурами, ещё можно было бы поверить в чистоту помыслов чиновников. Но в том-то и дело, что такая внешняя аккредитация практически не нужна. Она возможна, но факультативна. Вузу, которому не жалко сил и времени, закон разрешает аккредитовываться где угодно (ст. 96), даже в религиозных организациях (ст. 87), при том, что образование во всех государственных и муниципальных учреждениях светское (ст. 3, п. 6). Впрочем, перечень организаций, «проводящих профессионально-общественную аккредитацию», всё же ведётся « уполномоченным федеральным органом исполнительной власти » ( ст. 96, п. 10), на всякий случай, чтобы ничто не ускользнуло от надзирающего ока. Зато государственная аккредитация, как мы видели, строго обязательна, и ничего внешнего не предполагает. В чём же тогда смысл подобной «аккредитации»? Где здесь независимые стороны? Получается, что в географических границах одной и той же страны (не Евросоюза), где нет партикулярности , которую требовалось бы преодолевать, государственный орган, Министерство образования, создаёт внутри самого себя структуру (Росаккредагенство), «аккредитующую» подведомственные министерству организации - а именно государственные вузы, которые и без того находятся в безраздельном подчинении Министерству, создаются , реорганизуются и ликвидируются Министерством (Об образовании, ст. 6, п. 5)), - своим официальным « учредителем », - связаны исполнительской дисциплиной военного образца, и в образовательной деятельности обязаны руководствоваться одними и теми же « стандартами », самим Министерством разрабатываемыми. Если Министерству необходимо проверить работу этих вузов, то уместной была бы инспекция , но не «аккредитация». Как может Министерство «доверять» или «не доверять» им же самим учреждённой организации, где работают аттестованные уполномоченным государственным органом кадры?
При введении «государственной аккредитации» её задачами были заявлены: определение типа и вида образовательного учреждения, предоставление этому учреждению права выдачи документов об образовании государственного образца. И ладно бы, если бы вновь создаваемые вузы, или образовательные организации, желающие изменить свой «вид» и «тип», должны были бы однажды аккредитоваться в уполномоченном государственном органе. Не тут то было. Государственная аккредитация в России - процедура не просто чудовищно обременительная, но ещё и нескончаемая. Отдающая аутизмом ведомственная игра в «верю - не верю» повторяется каждые 5 лет, и, получив аккредитацию, вуз практически сразу же начинает готовиться к следующей такой же, – иначе можно не успеть. Что это даёт чиновникам, установившим для подчинённых госуниверситетов вечное состояние неопределённости (аккредитуют – не аккредитуют), можно предположить, но чем это улучшает состояние образовательных учреждений, – когда колоссальные временные и человеческие ресурсы вместо науки, искусства или педагогического творчества расходуются исключительно на преодоление болезненной недоверчивости профильного министерства? Вообще, сколько раз можно требовать подтверждения одного и того же? Где пределы «вдумчивости»?
Не всё понятно и с защитой при помощи «аккредитации» прав и интересов граждан. Настораживает, как выше было сказано, эксклюзивность. Почему именно образование, и только оно одно, выбрано областью «защиты прав и свобод»? Потребитель практически всегда и везде не может оценить качество предоставляемых товаров и услуг, а, согласно российским законам, и не должен обладать профессиональными познаниями, способностью что-либо оценивать, ни в какой сфере потребления вообще. В продовольственном магазине покупатель приобретает товары, не будучи в состоянии оценить их реальное качество и состав, на автозаправке автовладельцу продают бензин, о качестве которого он не может компетентно судить и ориентируется, максимум, на косвенные признаки, читатель книги или зритель кинотеатра тоже ничем не гарантирован от низкого качества предоставленного продукта, и т. д. и т. п. Но далеко не все виды деятельности, общественно значимые или представляющие потенциальную опасность, аккредитуются и лицензируются. Даже в очевидных, казалось бы, ситуациях прямой угрозы жизни и здоровью миллионов людей, требования государства к производителям товаров и услуг не ужесточаются, как можно было бы ожидать, а, напротив, сводятся на нет. Простым и наглядным примером является производство продуктов питания, где ясные и понятные обязательные ГОСТы (государственные стандарты) заменены на сочиняемые самими производителями ТУ (технические условия), нужные только для того, чтобы свести к предельному минимуму полезные для человека составляющие этих продуктов. Нет случаев, когда с отменой обязательных ГОСТов повысилось бы содержание мяса в колбасе или какао-масла в шоколаде. Принудительному даунгрейду со стороны государственных структур подвергаются санитарные нормативы. Так, содержание вреднейших антибиотиков (тетрациклин и др.) в молоке волевым решением «либеральных» чиновников повышено в 10 раз, по сравнению с советскими временами2. В России больше нет молока, которое безопасно можно было бы дать ребёнку полутора–двух лет. Объясняют это необходимостью следовать всё тем же пресловутым «международным стандартам», при том, что они, как теперь выясняется, в 10 раз хуже советских . Система мер по ухудшению качества производимого питания предпринята под лозунгами «свободного рынка», который, якобы, «сам всё отрегулирует». Нижайшие потребительские свойства продовольствия при розничных ценах выше среднеевропейских не вызывают у государственных органов желания вмешаться, установить стандарты , ввести контроль, а уж тем более пригласить для «внешней оценки» экспертов Европейского Союза. Не менее драматическая ситуация складывается на рынке лекарственных средств, где высокие цены сочетаются с продажей препаратов бесполезных или даже вредных. О европейских нормах и тут ничего не слышно. Не замечено интереса и к проведению «внешней экспертизы» деятельности самих властных структур (например, автомобильной инспекции и некоторых других подразделений МВД, административной вертикали и прочее).
Получается странная вещь: государство, в лице облечённых полномочиями чиновников, десятилетиями не хочет разобраться с изуверствующей казарменной уголовщиной, стыдливо именуемой «неуставными отношениями» («дедовщиной»), но с энтузиазмом идёт защищать гражданские права в ту область, где нет ничего даже отдалённо похожего. Могут возразить, что это разные сферы и разные ведомства, просто одно, как более «продвинутое», проявило инициативу, и, вообще, – что плохого, когда какая-то одна отрасль, опережая другие, заявляет о желании жить и работать по признанным в мире нормам, надо же с чего-то начинать, потом, глядишь, и другие подтянутся; отдельные проявления непорядков в армии, полиции или где-то ещё – не аргументы против европеизации образования.
Доля истины в этих возражениях есть, но именно доля. Ведомства, конечно, разные, но вот источник финансирования один – государственный бюджет и его производные, и уж если определять приоритеты, отталкиваясь от главной государственной задачи – прав и свобод граждан (государство обязано действовать именно так, в соответствии со ст. 2 Конституции), то можно уверенно сказать: существуют куда более срочные, не терпящие никаких отлагательств цели для административных усилий и применения тех сотен миллионов евро, какие уже освоены (аккредитация, «мониторинг качества», ЕГЭ, ФЭПО и т.д.) в порядке защиты никем не нарушавшихся прав в области образования.
Здесь важно соблюсти предельную точность формулировок и ещё раз подчеркнуть: речь совсем не о том, чтобы оставить без поддержки право людей на образование, или вывести школы и вузы из-под государственного надзора. До начала 2000-х гг. этот надзор действовал и никому не мешал. Настораживает не контроль как таковой, а (1) удивительная избирательность, (2) чрезмерная и всё больше раздуваемая интенсивность контроля, (3) мелочность и совершенная надуманность его форм. Непонятно, почему именно на «рынке образовательных услуг», – стабильном и находящемся в пределах относительной нормы, свободном от эксцессов армейско-полицейского уровня и не дающем особых поводов для беспокойства, – можно наблюдать картину, обратную всему прочему ходу государственной жизни. Почему, вопреки: «либерализации», «децентрализации», «разукрупнению», «автономизации хозяйствующих субъектов», осуществляемых в других экономических сферах, в области образования мы видим другое – невероятно бурную деятельность администрирующих и контролирующих структур,драматическое, в сравнении с советскими временами, измельчание и нагромождение степеней контроля, целую, - пока, правда, приостановленную, - программу «укрупнения вузов» (то есть насильственного слияния нескольких самостоятельных учреждений в местную образовательную монополию, что прямо противоречит N 273-ФЗ, ст. 3, п. 11) ), и даже сталкиваемся с предложениями о массовом закрытии университетов3 или, - что практически то же самое, – к повсеместному переходу на «дистанционное обучение» (читай – к массовым увольнениям учёных и педагогов4, заменяемых на интернет-трансляцию).
Избранные средства «защиты прав и свобод граждан на образование» выглядят не менее странно. В основном – это усложнение состава и объёма всевозможной бумажной отчётности , в том числе,такие процедуры и требования, которые на момент своего введения оказывались в противоречии с действующими российскими законами о правах научно-педагогических работников (например: ст. 29, пункт 5, ст. 44 Конституции; ст. 1259, 1281 Гражданско го кодекса РФ; ст. 4, 54, 56, 333 Трудового кодекса РФ; ст. 28, 29, 32, 55
действовавшего до 2013 г. закона «Об образовании»; ст. 20, п. 4; ст. 3, п. 3 действовавшего до того же года закона «О высшем и послевузовском образовании»). Нет необходимости подробно рассматривать все эти нарушения, тем более что сами исполнители реформ, как мы увидим дальше, нарушений права не отрицают. Поэтому обратимся сразу к истокам процесса реформирования научно-образовательной сферы, чтобы определить уровень и характер тех вызовов, на которые могла бы ответить реформа.
Советская наука и советское образование 1970-х – 1980-х гг., в отличие, от сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, или, допустим, возмущающей население системы партноменклатурного управления, находились на вполне достойных позициях. За несколько послевоенных десятилетий страна успела забыть о временах массовой неграмотности и сделалась одной из самых читающих в мире. Гонения на профессорско-преподавательские кадры к середине 1950-х полностью прекратились. О злоключениях генетики и кибернетики вспоминали редко, причём с сожалением и стыдом. Общая образованность «советского человека» неуклонно повышалась и достигла к началу 1960-х гг. уровня ведущих стран мира. Советская инженерно-техническая мысль «застойной эпохи» в некоторых особо значимых областях на равных конкурировала с передовыми и технологически развитыми странами «капиталистического мира», а кое в чём и превзошла. Если конкуренция закончилась не в пользу Советского Союза, то не по вине учёных.
Советская средняя и высшая школы, до самого конца существования СССР, исправно обеспечивали народное хозяйство квалифицированными специалистами, в качестве подготовки которых сомневаться не приходится. Научно-техническое знание с успехом экспортировалось в виде помощи «братским странам» чуть ли не по всему миру. СССР либо оправлял своих специалистов, либо обучал «национальные кадры» в советских вузах, либо сочетал то и другое. Неприятное исключение из общей позитивной картины составляли общественные науки , где господствовали обветшалые постулаты марксизма-ленинизма, поддерживаемые, впрочем, косностью КПСС и её агентуры на местах, а не желанием научного сообщества. Зато на профессиональный уровень советского практического специалиста с вузовским дипломом (инженера, музыканта, филолога, геолога, математика, археолога, историка, химика, физика) никто особенно не жаловался. Америка, Япония, Западная Европа могли обойти СССР по каким угодно показателям, но не по интеллекту . Если бы это было не так, не было бы последующей «утечки мозгов», нечему было бы «утекать».
Сравнивая лучшие советские образцы с лучшими западными, профессор С. П. Капица в одном из своих интервью компетентно отметил, что выпускник «физтеха» советской поры ни в чём не уступал выпускнику Кембриджа, и мог без малейших проблем сразу включиться в любой разрабатываемый на Западе проект по профилю своей подготовки. Конечно, не каждый советский вуз готовил студентов на уровне МФТИ, но и в Европе не все вузы «кембриджи». Сравнивать надо сравнимое, и не факт, что в корректных сравнениях Европа и США окажутся победителями. Не только в Москве, но и в регионах советской страны, было немало вполне приличных учебных заведений. Эксперт Еврокомиссии по оценке заявок на гранты, директор британской консалтинговой компании «Oxford Progress Ltd.» Сергей Гутников (Sergey Gutnikov ) , оценивая свой личный опыт учёбы в СССР, выразился предельно ясно: «В Оксфорде выяснилось, что то образование, которое я получил во Владивостоке, было <…> достаточным для того, чтобы успешно конкурировать с английскими студентами и получить стипендию уже на три года, чтобы потом защитить диссертацию в Оксфордском университете» [Карпова 2012].
Сергей Гутников заканчивал в СССР Владивостокский медицинский институт.
Не хотелось, чтобы эти слова были истолкованы как идеализация советских времён. У Советского Союза были свои, очень серьёзные проблемы. По некоторым позициям советская вузовская наука так никогда и не достигла уровня науки дореволюционной, о чём нужно сказать со всей определённостью. Прикладная (производственная) наука советского времени многое теряла из-за изоляции от «буржуазного Запада». Ей приходилось собственными силами дублировать многое из того, что за границей развивалось усилиями многих стран и многих независимых специалистов. Впрочем, причины и здесь лежали вне собственно научной сферы.
«Загадочным» образом, именно те отрасли, где у Советского Союза дела шли хорошо, одна за другой сделались главными объектами «реформ». В силу расстановки партийно-государственных приоритетов, а также особой роли, отведённой гуманитарной интеллигенции в важнейшем для тогдашней власти деле «перестройки», отечественному образованию некоторое время везло. Начали с других. Стоя « у края пропасти », – сначала в общей очереди на «ускорение», а затем в ожидании « большого шага вперёд »5,- высшее образование во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. даже умудрилось пережить непродолжительный период либерализации. В 1992 г. (в преддверии новой демократической Конституции 1993 г.) вышел в свет закон « Об образовании », который учитывал специфику момента и предполагал некоторые права не только у административного аппарата, но и у педагогов, и даже содержал намёки на относительную самостоятельность образовательных учреждений.Тогда же было обещано сделать «процедуры регламентации деятельности вузов» добровольными (в заявительном порядке) и мотивационными (то есть на принципе заинтересованности самих учебных заведений). Одной из форм новых отношений была названа аккредитация , позволяющая, по словам её проводников, создавать « новые вузы в новых правовых формах» и изменять при желании статус «традиционно работающих» [Мотова 2010]. В структуре Государственного комитета по высшей школе (Госкомвуз) появилось новое Управление лицензирования, аккредитации и нострификации. В апреле 1995 г. был создан Научно-информационный центр государственной аккредитации «по инициативе и под руководством» В. Г. Наводнова – будущего апологета федерального тестирования.
Дальнейшие события едва ли носили случайный характер. Историки знают, что такого рода сценарии не афишируются и, как правило, даже по истечении сроков давности, не приводятся в известность. О существовании сценария, или проекта, можно лишь догадываться, сравнивая начальное и конечное состояния системы. В интересующем нас случае, это сделать несложно.Упорная и целенаправленная деятельность лицензирующе-аккредитующих структур в кратчайшие сроки спровоцировала «безудержный рост» числа вузов и их «филиалов» – «фабрик по выдаче дипломов». Буквально за несколько лет произошло падение качества и престижа высшего образования, особенно в провинции. Позднее сложившуюся ситуацию с безудержно растущим числом вузов, «штампующих» дипломы, представили чуть ли не национальной катастрофой и оправданием всё новых и новых полномочий тех самых административных органов, которые весь этот хаос, всё это растущее количество вузов, посредством аккредитации, породили. Квази-вузы при этом, разумеется, никуда не делись, поскольку за каждым «штампующим» стоит сложная система явных и теневых интересов. Зато высшее образование, в его совокупности, с каждым следующим годом стало всё плотнее опекаться бюрократическим аппаратом, всё настойчивее «модернизироваться» в смысле состава и объёма бумажной отчётности, предсказуемо душившей любую минимально полезную научно-образовательную работу.
К настоящему моменту провозглашённая Конституцией и законами Российской Федерации свобода преподавания сосуществует:
– с тремя поколениями « образовательных стандартов », невиданных в университетах Европы и Америки.
– с «лицензированием» образовательной деятельности,
- с ужесточающимися сверх всяких мыслимых пределов процедурами «государственной аккредитации»,
– с тоннами документации так называемой «комплексной оценки деятельности вузов».
Ещё раз подчеркнём, «аккредитация» первоначально вводилась как добровольный элемент, фактор престижа ведущих вузов и фактор выбора для абитуриентов, однако, оказавшись предсказуемо никому не нужной ни в каком качестве, процедура быстро была объявлена обязательной и подлежащей постоянному возобновлению, превратилась в коммерческий проект, а к нашему времени обросла просто невероятным количеством всевозможных требований. В их числе всегда найдутся подходящие, чтобы закрыть любой вуз Российской Федерации, или, наоборот, оставить в неприкосновенности, если на то будет явлена властная воля или обозначен убеждающий чиновника интерес. В программной статье « Аккредитация: доверять или проверять ?» Г. Н. Мотова, «доктор педагогических наук, заместитель директора Нацаккредцентра», с редкой откровенностью пишет: «... Если наличие государственной аккредитации является условием существования вуза, то не могут не появиться различные способы её получения » [Мотова 2010]. А ведь и правда, не могут.
Статья Г. Н. Мотовой, выложенная некогда в свободный интернет-доступ, достойна того, чтобы разобрать её на цитаты, как разбирали некоторые произведения русской литературной классики [Мотова 2010]. Чего сто́ит одна только первая фраза, которой Г. Н. Мотова начинает свои рассуждения: «Эффективность реформ в образовании измеряется не годами, а поколениями». Это такое же fortissimo, как первая фраза «Du contrat social» (1762) Жан-Жака Руссо, помните, - «Человек рождён свободным и везде находится в оковах»! Фраза Г. Н. Мотовой пожалуй даже сильнее – это и сигнал посвящённым и экзистенциальное самооправдание. Любому человеку, способному читать контекстно, по одной стартовой фразе становится понятно, что в поколениях ближайших ничего хорошего от проводимых реформ ждать не приходится. Мнение компетентное, что называется, из первых рук. Г. Н. Мотова – не простой чиновник, она теоретик-концептуалист, автор докторской диссертации на тему «Концептуальные основы аккредитации образовательных систем» [Мотова 2004]. Достижением пятнадцатилетней работы (на момент выхода упомянутой статьи. – А.З.) по аккредитации-лицензированию Г. Н. Мотова называет внедрение в «народный язык» шести терминов: (1) «модуль сбора данных», (2) «центральный банк данных государственной аккредитации», (3) «представление вуза к государственной аккредитации», (4) «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования - ФЭПО», (5) «экспертная шкала оценки», (6) «интернет-анкетирование студентов и работодателей» [Мотова 2010]. Вот и все бесспорные, по мысли автора, достижения. Остальной «концептуальный» багаж аккредитационного ведомства Г. Н. Мотова пытается защитить от нападок неназванных противников. Из охранительного текста, буквально через несколько абзацев, становится ясной полная несопоставимость всего, что называют «аккредитацией» в Рособрнадзоре с тем, что называют «аккредитацией» в мире. Впечатляет своей терминологией пассаж о диалектическом (!) взаимодействии «кнута» и «пряника» применительно к российским университетам. У наших «заокеанских партнёров» за подобные формулировки в отношении образовательных учреждений чиновника списали бы в архив навечно, но когда речь заходит о российских чиновниках, западные стандарты не указ6. Ну и конечно, самая сильная сторона статьи Г. Н. Мотовой - признания. Читаем: «С 2000 года в практику работы Минобразования России была введена процедура комплексной оценки деятельности вузов, правда неформально, нелегитимно – без изменения законодательства. Результатом «интеграции» функций контроля и аккредитации «в одном флаконе» стало такое же неформальное, но вполне оправданное появление «полиции качества», а затем, различного рода «плановых» и «внеплановых проверок»» [Мотова 2010].
Итак, начатое обещаниями либеральных реформ и европейских стандартов дело модернизации российского образования, как и следовало ожидать, закончилось « кнутом », « секвестром », «образовательным надзором », «внеплановыми проверками », « полицией качества». Ну а публичное признание высокопоставленной чиновницы о нелегитимности «комплексной оценки вузов», – уникальное свидетельство того, что структуры Министерства образования нарушали российские законы осознано , понимая как (1) неправомерность своих действий, так и (2) полную безответственность за содеянное. «Неформальное», по контексту приведённого фрагмента, означает «осуществлённое без законодательного обеспечения», «незаконное». Ну и пусть «незаконное», зато «вполне оправданное». Чем же оправдано незаконное действие? Да тем, что так решили в Росаккредагенстве. Очевидно, что там находится один из важнейших центров власти в стране, и любой чиновник этого ведомства – сам себе государство, он сам уполномочен решать, каким законам и в каких пределах действовать в России. Воистину: « Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие » [Карамзин 2020] .
Собственно, столь «творческим» отношением чиновников к закону и объясняются опасения всех нечиновников по поводу расширения государственного контроля в области образования. В идеале государственный контроль над любой общественно значимой сферой деятельности (образование не исключение) устанавливается в интересах общества. Но для того, чтобы практика соотнеслась с идеалом, само государство должно быть очень совершенным - гуманным, демократическим и правовым, свободным от внешнего контроля конкурирующих с ним государств, от системной коррупции (обычная коррупция была и будет всегда),должно на равных взаимодействовать с сильными и эффективными гражданскими институтами, демонстрировать зависимость от настроений избирателя, нести в установленном законом порядке ответственность за свои решения. В противном случае, контроль, заявляемый как «государственный», грозит выродиться в контроль конкретных заинтересованных лиц и контроль чиновничьих кланов над целыми областями человеческой жизни.
Российские демократические учреждения сравнительно молоды. На путь строительства социально-правового государства страна вступила только в начале 1990-х гг. И хотя этот путь закреплён в Конституции, есть много факторов, препятствующих движению в заданном направлении. В их числе: (1) исторически сложившаяся слабость самодеятельных, связанных с потребностями самого населения, общественных союзов, которые могли бы, в ином случае, брать на себя организационные и контролирующие функции, делая ненужной мелочную государственную опеку гражданской жизни; (2) отсутствие в социальной стратификации широких «средних» слоёв, – со времён Аристотеля они рассматриваются как главный генератор и стабилизатор общественно-политической жизни; (3) не преодолённая до сих пор и очень вредная тенденция к сращиванию «ветвей власти» (исполнительной, законодательной, судебной) в единую «вертикаль», при отсутствии реальных «сдержек и противовесов» внутри выстраиваемой вертикали; (4) коммерциализация властных институтов, превращение государства в систему «доходных мест»; (5) подконтрольность российских государственных институтов западным «консалтинговым» компаниям и иным лоббистам внешних корпоративных, а не внутренних общественных интересов; и др. Достаточная известность перечисленных факторов не мешает им действовать до настоящего времени во всей полноте.
В любой реформе есть два элемента: (1) упразднение старого, и (2) создание нового. Из сказанного понятно, что растянутая на десятилетия перманентная реформа предсказуемо превращается в процесс разрушения. Новое не успевает пройти апробацию и оценку последствий, когда его настигает очередная волна упразднений и переделок. Принцип « непрекращающихся изменений » - это не синоним ускоряющегося научно-технического прогресса, а эвфемизм деструкции и дезориентации . Если год за годом, « чтобы оставаться на одном месте, надо очень быстро бежать », значит, силы расходуются впустую, – причём, только на поддержание стагнации, – и пора задуматься о правильности выбранного направления, поскольку описанное чувство бега на месте может возникать в поездах, летящих под откос.
Тридцать пять лет реформирования советской «административно-командной системы» (1985-2020) так и не принесли обещанных позитивных плодов. Формы взаимодействия государства и общественности до настоящего времени не отличаются совершенством, зависимость гражданина от системы администрирования и настроений конкретного должностного лица остаётся очень высокой, правовая культура не обрела зрелости и подчас демонстрирует, буквально, зачаточные формы. В условиях ослабленных обратных связей между теми, кто принимает решения и теми, кто обязан их исполнять, качество решений оказывается не лучшим. По целому ряду позиций можно говорить о продолжающейся деградации в сравнении с тем же советским прошлым.
Представления о том, какие изменения нужны сфере образования, существенно различаются в разных общественных слоях, да и просто у разных людей. Одни говорят, что изменения необходимы как воздух, страна не может позволить себе проедать остатки советского образовательного потенциала, не создавая ничего нового и пассивно наблюдая усугубляющееся отставание в мировых рейтингах. Другие – думают, что изменения ради изменений, новации как самоцель, - очередная благоглупость; наука и образование – сферы консервативные, основанные на традиции и преемственности, они должны развиваться по своей собственной, внутренней, логике, а не быть подгоняемы «кнутом и пряником», тем более, что ни в каких других областях сочиняемые за океаном «рейтинги» российскими властями не признаются в качестве ориентиров для деятельности. И надо сказать, что основания для подозрений в предвзятости и заказном характере осуществляемого извне ранжирования,действительно, есть. Кроме того, выпускники российских вузов сравнительно слабо представлены на «международном» (не российском) рынке труда, а пресловутые рейтинги на этот рынок, так или иначе, «завязаны». Есть и такая точка зрения, что главное изменение, какое требуется российскому образованию и вузовской науке, – это уничтожение раз и навсегда самой возможности создавать аккредитационно-лицензирующие процедуры и иные параллельные законодательству формы бюрократического нормотворчества, а, заодно, в сотни раз сократить аппарат всех без исключения образовательных ведомств и их дочерних структур, под каким бы названием они не функционировали. Ведь если дело пойдёт современными темпами и дальше, через пять-десять лет численность образовательной бюрократии может достигнуть размеров не очень большой европейской страны. Пока аппарат сохраняется, пухнет и почкуется, он будет изобретать мыслимые и немыслимые административные процедуры, будет производить на свет аккредитацию, ЕГЭ, ФЭПО, будет вводить всё новые формуляры, бланки, описи, кадровые справки и т. п., поскольку аппарату нужно чем-то обосновывать собственное существование, и очень нужны всё новые и новые места для трудоустройства родных и близких.
Образование – творческий и очень тонко организованный процесс, такой же, как сочинение музыки, написание литературно-художественного произведения, создание живописного полотна. Надзирающему чиновнику нет места в этом процессе, а значит, чтобы удержаться на руководящей поверхности, – то есть на шее производителя интеллектуального продукта, - чиновнику нужно изобретать «этапы написания УМК7», «методику системы менеджмента качества», «рабочие программы учебной дисциплины», «таблицы обеспеченности...» (всего подряд всем подряд), «таблицы доступности студентов к фондам8…» и прочая, и прочая, и прочая. Чем больше будет непонятного, заумного, косноязычного и противоречащего нормам русского языка в этих изобретениях – тем лучше, будет что «совершенствовать», над чем работать и чем запутывать подчинённых. Чиновнику нужно создать параллельное продуктивной творческой реальности движение бумаг , нескончаемую «от края и до края» отчётность , формальную правильность которой можно будет контролировать и оценивать разнообразными «нормативами», «коэффициентами» и «показателями».
То, что хорошо для чиновника, губительно для государства, с точки зрения действительных задач использования власти. Государство, в его современной, исторически высшей форме, – определяемое как «культурное», или «правовое» государство, – это, в первую очередь, охранитель права 9, устанавливающий общие для всех условия обретения права и ограждающий право от преступных посягательств. Бюрократия же имеет интерес к тому, чтобы приватизировать государство, превратить его в свою частную собственность 10, а значит превратить всё общество, все не принадлежащие к бюрократии классы и слои, в зависимых от себя работников, - нещадно эксплуатируемых и обязанных беспрекословно подчиняться. Интерес чиновничьей корпорации государственному интересу, таким образом, не равен.
Существо и изъяны авторитарно-бюрократического правления весьма точно выражают слова выдающегося государствоведа, историка и политического учёного, профессора Бориса Николаевича Чичерина (1828 – 1904), писавшего, что потакание бюрократии и расширение её полномочий делает правительство «зданием, висящим на воздухе»: «При таких условиях в бюрократии развивается свой собственный интерес. Он состоит в том, чтобы властвовать безгранично и нигде не встречать препятствий». Чиновник целиком зависим от вышестоящего чиновника, и устремляет всё внимание к исполнению полученных приказаний. Чиновник стремится предугадывать вышестоящие желания и представлять фактическое положение дел «в виде, приятном для начальства». Бюрократия вводит высшую власть в заблуждение, доказывает пользу уже состоявшейся распорядительной деятельности, и требует дальнейшего расширения своих полномочий. Верхние этажи управления не имеют понятия о том, что, на самом деле, совершается внизу, и принимают неверные решения. «В государственной жизни, — говорит Б. Н. Чичерин, - образуются два противоположных мира - бумажный и действительный, <…>. На эту бумажную деятельность уходит значительнейшая часть внимания и сил бюрократии. Оторванная от жизни, она все своё время посвящает бумагомаранию» [Чичерин 2020]11.
Другое классическое определение российского чиновничества принадлежит Александру Ивановичу Герцену (1812 – 1870): « Класс искусственный, необразованный, голодный, ничего не умеющий делать, кроме ‹служения›, ничего не знающий, кроме канцелярских форм, он составляет какое-то гражданское духовенство, <…> сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых » [Герцен 1969]. А. И. Герцен и Б. Н. Чичерин - политические антиподы. Тем достовернее их общее мнение о российском бюрократическом классе. Класс этот никуда не делся, поскольку порождается схожей социальной ситуацией (факторный анализ которой уже давался выше) и одномерной («вертикальной») формой правления.« ...Безграничный произвол на вершине всегда будет порождать такой же произвол в подчинённых сферах. Законный порядок никогда не может упрочиться там, где все зависит от личной воли, и где каждое облечённое властью лицо может поставить себя выше закона , прикрыть себя высочайшим повелением» [Чичерин 1900]. 5 ноября 2008 г., выступая в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца с Посланием Федеральному Собранию, Президент РФ Д. А. Медведев (до этого и впоследствии - Председатель Правительства РФ) говорил: «Государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счёте, народ. Такая система абсолютно не эффективна и создаёт только одно - коррупцию . Она порождает массовый правовой нигилизм » [Медведев выступил… 2008]. 21 июня 2012 г. на Петербургском международном экономическом форуме ту же мысль о засилье чиновничества и об отдельном от государства чиновничьем интересе в несколько иной плоскости продолжил действующий Президент РФ В. В. Путин: «Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в государственных органах , в судах, правоохранительной системе, госкомпаниях» [Коррупция для России 2012].
Заметим, коррупция – это не просто взятки. Дословно «коррупция» означает «порчу». Разница между «государством» и «коррумпированным государством» такая же, как между «колбасой» (продукт питания) и «порченой колбасой» (отрава).
В развитие идей об излишней самостоятельности и более чем своеобразной политической ориентации российского чиновничества Президент РФ В. В. Путин, выступая перед Федеральным собранием 15 января 2020 г., предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство (и вид на жительство) для некоторых категорий государственных служащих [Путин потребовал запретить 2020]. Слова Президента были восприняты среди политических аналитиков, как вызов, или даже ультиматум [Путин поставил ультиматум 2020] влиятельнейшему в России классу, попытка урезонить бюрократию и осуществить её «национализацию» 12. Манера высокопоставленных администраторов «жить на две страны» создаёт немалые проблемы, начиная с элементарной служебной конфиденциальности. Непонятно, какому из двух (а то и трёх) государств на самом деле служит чиновник-бипатрид, – тому, где замещает должность и получает сопутствующие этой должности денежные выплаты, или тому, где у него находятся активы и дорогостоящая недвижимость (например, [Смирнова 2020]), на постоянной основе проживает семья, получают образование дети. Сказанное важно для нашей темы. Образовательные реформы продолжаются не в последнюю очередь потому, что чиновные особы всё меньше связывают собственное долгосрочное будущее с Россией, и будущее отпрысков13 - с российской системой образования. Она ещё востребована в своих наиболее привилегированных и узкоспециализированных звеньях, но основная часть образовательной системы РФ, в сознании многих управленцев, постепенно превращается в систему «для низо́в», для простонародья. Отсюда берут начало разговоры об «избыточности образования», необходимости усиливать его «практическую направленность», переходить к «деятельностному» («компетентностному») подходу и т.д., то есть удешевлять, сокращать, упрощать, примитивизировать.
Управляющий класс – самое слабое звено государственного механизма России. Неудержимое движение этого класса вместе с чадами,домочадцами и нажитым непосильным трудом имуществом «На Запад!» открывает перед внешними игроками широчайшие возможности воздействия практически на любые области российской государственной жизни, если не через хорошо известные личностные качества фигурантов, - исполняющих ключевые должности в министерствах и ведомствах, – то опосредованно, через объекты собственности и интересы, либо их самих, либо близких им людей, за границей.
Следует ли, в таком случае, слепо верить в непреходящую благостность проводимой от имени государства, но явно не самой удачной социальной политики, понимая, что многие существенные параметры этой политики задаются или ретранслируются тем самым, в заметной степени коррумпированным, - как нам говорят, - и увязшим в конфликте интересов административным классом?
Давно известна теория так называемых «мёртвых стран». Суть её в том, что в мире образуются две группы государств: (1) страны «живые», аккумулирующие интеллектуальный потенциал, и (2) страны без будущего, «мёртвые», проедающие свои природные ресурсы и обречённые быть вечными реципиентами внешнего разума. Для человека, устремлённого к интеллектуальному развитию, но родившегося в «мёртвой» стране, едва ли не единственным спасением от прозябания и невостребованности становится эмиграция в «живую» страну. Постоянная «утечка мозгов» делает неизбежной деградацию «мёртвых» стран до полного социального и финансового разложения [Кобяков 2000]. Результаты сопоставимы с победой одних государств и поражением других в мировой войне, хотя, формально, всё происходит без вооружённого насилия, в рамках свободного выбора человеком лучших условий жизни. Достаточно, чтобы в стране, назначенной «мёртвой», под каким угодно предлогом поддерживалась угнетающая интеллект атмосфера.
В странах развитой демократии, на которые Россию призывают равняться в сфере образования, решения о важных для нации реформах в лучшие годы принимались гласно, и широко дискутировались, что позволяло избегать грубых ошибок. Философ К. Поппер (Karl Raimund Popper), - чьими идеями вдохновлялся, в частности, такой видный апологет и спонсор российской образовательной реформации, как Дж. Сорос (George Soros), – относил к достоинствам демократических механизмов возможность мирным путём устранять от власти партии и группировки, связанные с не оправдавшими себя проектами [Поппер 1992]. Это означает, что если бы Россия действительно двигалась в сторону европейских ценностей, подавляющего большинства́ сегодняшних глашатаев «цифровизации», «дистанционного обучения» и иных мало подходящих для абсолютизации идей, просто не было бы в публичном пространстве и у рычагов управления. Но они там есть в немалом количестве, и даже олицетворяют некоторую закономерность: чем более провальным для государства и общества оказался политический проект («ваучерная приватизация», «рыночные реформы», «дефолт 1998 года» и др.) тем круче оказалась в итоге карьерная траектория его приверженцев. Современные «нанореформаторы» науки и образования – это те же самые люди из «лихих девяностых», с отрицательным рейтингом общественного доверия и поддержки, но с теми же комиссарскими полномочиями, твёрдой рукой направляющие страну именно в то зазеркалье, где всем придётся быстро бегать, чтобы в итоге никуда не двигаться и деградировать.
Демократия в России давно сделана декоративным атрибутом властвования, но она так и не стала системой государственной жизни. Нововведения, внешне похожие на западный опыт, инициируются сверху, обитателями высших этажей управления, в меру понимания ими задач текущего момента, и не отражают запросов профессиональных сообществ, социальных слоёв, не являются результатом общенационального консенсуса. Власть не особо интересуется мнением снизу, не столько обсуждает, сколько пропагандирует и популяризирует свои уже состоявшиеся решения, в приказном порядке проводит их в жизнь, и сама же контролирует успешность собственных действий, болезненно реагируя на любые альтернативные или негативные оценки. В таких условиях даже полезные начинания не дают ожидаемых результатов, не говоря уже о начинаниях сомнительных, лоббируемых внесистемными группировками глобальной и местной элиты, или отражающих интересы геополитических конкурентов государства.
Подведём итоги изложенному. Итак, с точки зрения генезиса, «аккредитация» представляет собой принудительно-административное явление, внедрённое в образовательное законодательство, но сохраняющее противоречия с базовыми разделами и принципами национальной правовой системы, а также с провозглашаемыми в качестве ориентиров реформ «европейскими» или «общечеловеческими» ценностями. Обязав университеты регулярно проходить аккредитацию, чиновники проверяют деятельность последних не только на соответствие закону, но и на соответствие самочинно установленным требованиям, которые в конкретный момент времени могут не иметь правового обеспечения. Аккредитационные показатели надуманы. «Менеджмент качества» и «мониторинг качества» сводятся к созданию колоссальной, не нужной для производственных целей бумажной отчётности. Аккредитация не принесла ничего положительного отечественной образовательной практике и только с множеством оговорок и смысловых подмен соотносится с практикой международной. «В целом, показатели, содержащиеся в европейских стандартах и руководствах для оценки качества высшего образования, разработанных <…> в рамках Болонского процесса, и показатели для госаккредитации российских вузов, используемые Рособрнадзором, весьма различны» [Панарина 2020]. Заявленная цель, – приблизить российское образование к стандартам образования западного, – не достигнута и не может быть достигнута во всей обозримой перспективе. Действительное движение осуществляется в направлении противоположном либеральным и демократическим ценностям, таким как права и свободы человеческой личности, широкая автономия вузов, свобода преподавания, академические свободы. В центр образовательного процесса поставлена не фигура независимого в профессиональном самовыражении учёного и педагога, а фигура надзирающего за образованием чиновника. Должностные лица профильных министерств открыто уподобляют профессорско-преподавательский состав российских университетов безвольной и безгласной живности, нуждающейся в «насаждающем добро» кнуте14. Всё это – при наличии пп. 9) и 10) статьи 3 действующего закона «Об образовании» («автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся…»; «демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей <…> на участие в управлении образовательными организациями»). Ситуация настолько драматическая и запущенная, что раскритикованная в 1990-е гг. «административно-командная система» советских лет с позиций нашего времени кажется утраченным «золотым веком».
«Аккредитация», «федеральное тестирование», «мониторинг качества образования» и тому подобные, превозносимые надзирающей бюрократией вещи, – это средства всё более жёсткого ограничения, а в перспективе – полной ликвидации конституционных прав и свобод в сфере образования (прав и свобод обучающих и обучаемых одновременно). Никто не может преподавать свободно , если введены внешние по отношению к личности и подтверждённой аттестатом квалификации преподавателя «критерии качества», если суммарная трудоёмкость всех возлагаемых на преподавателя (через «мониторинг» образовательной организации) «обязанностей» в несколько раз превосходит установленное в законе предельно допустимое рабочее время, если об уровне подготовленности студентов предлагается судить по низкого уровня «тестам», недоступным для встречного рецензирования (с обязательными правовыми последствиями для составителей) тем профессором или доцентом, чью деятельность при помощи этих «измерительных материалов» предполагается оценивать, и так далее. Никто даже не пытается подсчитать, во сколько миллиардов человеко-часов обходится создание всего того отчётно-методического хлама, без которого у нас теперь нельзя заниматься образовательной деятельностью, но без которого во всём мире благополучно обходятся и ещё 20 лет назад прекрасно обходились в России.
Аккредитацию теми или иными способами проходят все ныне действующие вузы. Она давно стала рутиной административных взаимоотношений, обросла упомянутыми Г. Н. Мотовой « различными способами получения », является средством давления центрального аппарата на провинциальные бюрократические элиты. Превращённая местными университетскими администрациями в тягостную повинность педагогических коллективов (колоссальный объём бумаг приходится готовить самим преподавателям за рамками прямых служебных обязанностей), аккредитация не даёт конечному потребителю никаких гарантий качества образовательной услуги . Зато при помощи регулярной аккредитации и непрекращающегося ни на минуту «мониторинга … » из учебного процесса целенаправленно выхолащивается его творческая составляющая.
Главными причинами существования «аккредитации», в её нынешнем виде, являются крайняя слабость гражданского общества и профессиональных педагогических союзов в России, несформированность демократических традиций, зависимость руководящих образованием госструктур от конкурентов государства на международной арене, прямо заинтересованных в торможении чужого интеллекта. Пользуясь терминологией и методологией «либерального государственника» проф. Б. Н. Чичерина, причиной можно назвать также крайнюю слабость самого государства, расширяющего архаичную патерналистскую практику административной опеки, вместо автономного самоуправления, развития гражданско-правовых связей и поощрения независимости профессиональных ассоциаций и творческих союзов. Развитие общественности и признание за ней права на самостоятельное решение социально-профессиональных проблем могли бы стать некоторым противовесом бюрократическому аппарату, чрезмерное усиление которого опасно для самих основ государственного порядка. И хотя, согласно известной сентенции, «история никого ничему не учит», уроки извлекать всё же можно и нужно. По критерию обучаемости в мире проходит тонкая, но удивительно чёткая грань между преуспевающими и отсталыми, между всем тем, что традиционно, стабильно, успешно, – и потому привлекательно, – и тем, что находится в перманентных судорогах саморазрушительного «реформирования» в чужом, непонятном непосредственным участникам действия интересе.
Список литературы Нужна ли вузам "аккредитация"? Замечания о генезисе и последствиях аккредитационных процедур
- Аккредитация. // Википедия (Wikipedia). [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Аккредитация (дата обращения: 09.05.2020).
- Борис Николаевич Ельцин. // Викицитатник. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikiquote.org/wiki (дата обращения: 09.05.2020).
- Герцен А. Былое и думы. М.: Художественная литература, 1969. 924 с.
- Зорин А. Н. Балльно-рейтинговая система и "менеджмент качества" в историко-социальном контексте. // Поволжский педагогический поиск. 2020. № 2 (32). С. 24 - 40.
- Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях [1811 г.] // [Электронный ресурс]. URL: http://www.karamzin.net.ru/lib/sb/book/3532 (дата обращения: 14.04.2018).
- Карпова Е. Образование, полученное в CCCР, ценно для Оксфорда. // Радио "Голос России". 23.10.2012. [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/economics/16046645-obrazovanie-poluchennoe-v- cccr-tsenno-dlya-oksforda-okno-v-rossiyu (дата обращения: 09.05.2020).
- Кобяков А. А. Куда уходит… разум. // Медиаспрут. 5.08.2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www. mediasprut.ru/public/all/intellekt.shtml (дата обращения: 09.05.2020).
- Коррупция для России опаснее, чем падение цен на нефть. // Взгляд. Деловая газета. 21.06.2012. [Электронный ресурс]. URL: https://vz.ru/news/2012/6/21/584838.html (дата обращения: 09.05.2020).
- Медведев выступил с революционным Посланием… // Newsru.com. [NTVRU.com] Российское новостное информационное агентство. 5 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.newsru.com/ russia/05nov2008/poslanie1.html (дата обращения: 09.05.2020).
- Медведев попросил ‹не чикать университеты по живому›. // НТВ. 01.09.2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/328097/#ixzz2AVfsli3B (дата обращения: 09.05.2020).
- Маркс К. К критике Гегелевской философии права. // Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М.: Государственное издание политической литературы, 1955. 698 с.
- Мотова Г. Н. Аккредитация: доверять или проверять? // Интернет-версия журнала "Аккредитация в образовании". 18.06.2010. [Электронный ресурс]. URL: http://www.akvobr.ru/akkreditacia_doverjat_ili_ proverjat.html (дата обращения: 09.05.2020).
- Мотова Г. Н. Концептуальные основы аккредитации образовательных систем. // Автореферат диссертации.. доктора педагогических наук. М., 2004. 40 с. [Электронный ресурс]. URL:https://www.dissercat.com/ content/kontseptualnye-osnovy-akkreditatsii-obrazovatelnykh-sistem (дата обращения: 09.05.2020).
- Нам не нужна офшорная аристократия. 15.06.2020. // "Московский Комсомолец". Электронное периодическое издание "MK.ru" 07.03. 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/ politics/2020/06/15/ekspert-obyasnil-neobkhodimost-chistki-rossiyskoy-politiki-nacionalizirovat-elitu.html (дата обращения: 09.05.2020).
- Панарина Е. Совместимы будем? В чем совпадают и чем разнятся европейские подходы к оценке качества образования с отечественными критериями. / Интервью с участниками Международного семинара "Европейская система качества и аккредитации инженерного образования". // Информационно- справочный портал поддержки систем управления качеством (СК ОУ ВПО). [Электронный ресурс]. URL: http://www.quality.edu.ru/information/akk/help/409 (дата обращения: 09.05.2020).
- Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. М.: Феникс, Международный фонд "Культурная инициатива", 1992. // [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/lib_sec/16_p/pop/per_1.htm (дата обращения: 09.05.2020).
- Принципы стандартизации, сертификации и аккредитации в Европе. // Менеджмент консалтинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.certicom.kiev.ua/sertificat-EC.html. [Архив 09.09.2012] (дата обращения 09.05.2020).
- Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников. // РБК. Информационное агентство. 15.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1ee6169a7947bd1 f36c1c8 (дата обращения: 09.05.2020)
- Путин: высшие чиновники не должны иметь иностранного гражданства. // Газета.Ru. 15.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/01/15/n_13918592.shtml (дата обращения: 09.05.2020).
- Путин поставил ультиматум государственной бюрократии. // ИА REGNUM. 15.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/polit/2830250.html (дата обращения: 09.05.2020).
- Черных А. Минобрнауки держит курс на виртуальность. // Коммерсант.ru. 14.09.2015. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2810381 (дата обращения: 14.04.2018).
- Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Том III. Политика. Книга пятая. Политика управления. Глава V. Централизация и местное самоуправление. М.: Типография товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1894.
- Чичерин Б. Н. Россия накануне XX столетия. Берлин, 1900. 188 с.
- Смирнова Г. Если у чиновника в РФ недвижимость за рубежом - он агент, а не чиновник. // ИА REGNUM. 07.03. 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/polit/2878154.html (дата обращения: 09.05.2020).
- Чиновники и депутаты смогут скрыть, что их дети имеют двойное гражданство. // РБК. Информационное агентство. 20.05.2014. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/04/03/2020/5e5fa64e9a79 47b8db5a74b4 (дата обращения: 09.05.2020).