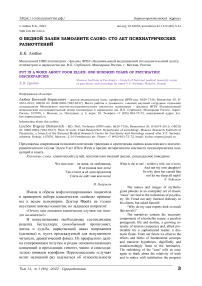О бедной Эллен замолвите слово: сто лет психиатрических разночтений
Автор: Любов Евгений Борисович
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 1 (46) т.13, 2022 года.
Бесплатный доступ
Предложены современная психопатологическая трактовка и критическая оценка классического психотерапевтического случая Эллен Уэст (Ellen West) в призме исторического контекста психиатрических концепций и опыта.
Клинический случай, психопатологический анализ, суицидальное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/140295044
IDR: 140295044 | УДК: 616.89+316.6 | DOI: 10.32878/suiciderus.22-13-01(46)-3-44
Текст научной статьи О бедной Эллен замолвите слово: сто лет психиатрических разночтений
Что мне она! – не жена, не любовница, И не родная мне дочь!
Так отчего ж её доля проклятая Спать не даёт мне всю ночь!
Н. Некрасов
Имена и образы мифологизированных пациентов в примерном наборе классических «кейсов» привязаны к вехам психиатрии. Доктор Фрейд не только неустанно внимал клиентам, но задавался вопросом:
«Отчего мои описания клинических случаев так походят на новеллы?»
В повествованиях необходимые составляющие рецепта бестселлера: своеобычный протагонист, жизнь и судьба, нарастающий накал напряжения (саспенса) и, пусть предсказуемый для искушенного читателя, драматический финал. Из прекрасного далёка сопереживаем потугам и родам основополагающих концепций и преходящих гипотез, чинно и снисходительно внимаем корифеям. Переосмысление «случая» велит нелишний раз задуматься об относительности
What is she to me! - neither a wife, nor a lover, And not my own daughter!
So why does her cursed fate not let me sleep all night!
N. Nekrasov
The names and images of mythologized patients in an exemplary set of classic "cases" are tied to the milestones of psychiatry. Dr. Freud not only listened tirelessly to his clients, but asked himself:
“Why do my case reports look so much like novels?”
The narratives contain the necessary components of a bestseller recipe: a peculiar protagonist, life and destiny, a growing intensity of tension (suspense) and, albeit predictable for a sophisticated reader, a dramatic finale. From our future we observe the efforts and births of fundamental concepts and transient hypotheses, dignifiedly and condescendingly listen to the luminaries. The rethinking of the "case" tells us once again to think about the relativity of truth and to notice with satisfaction the progress истины и удовлетворённо заметить подвижки не так в теории, но в повседневной практике психиатрии за последний век.
То ли ещё будет.
Эллен Уэст в отсутствии любви и смерти.
Возможна ли женщине мёртвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе.
О. Мандельштам

Эллен Уэст (далее – Эллен)1 – единственная дочь в состоятельной светской еврейской семье [основной текст анамнеза по 1, 2], родилась в Соединённых Штатах благополучно и в срок почти 135 лет назад (в високосном 1888 году) между двумя братьями.
Отец – сдержан и замкнут, волевой, деятельный, но с ранимой душой, склонен к сомнениям, «ночным
депрессиям» с самоедством и тревожными самоуко-рами в поиске компромиссов. Братья отца покончили с собой (один в 20-30 лет, другой – застрелился), третий вырос суровым аскетом, ещё два дементны на почве атеросклероза, умерли от инсультов. Бабушка, нежный миротворец, в «тихие недели» молчалива и недвижима. У прабабушки депрессивные и маниакальные эпизоды. Мать Эллен – мягкая, добрая, нервная, внушаемая. Во время трёхлетней помолвки эпизод депрессии (у её золовки психоз в день обручения). Дед по материнской линии умер молодым, бабушка была жизнерадостной и весёлой, дожила в деменции до 84 лет. Старший на четыре года брат Эллен – хладнокровный, гибкий, приветливый, младший – «комок нервов», женоподобный эстет с опытом (в 17 лет) краткосрочного больничного лечения в связи с психозом и суицидальным поведением (СП).
В девять месяцев Эллен «решительно» отказалась от молока (не переносила его и позже) в пользу мясного фарша. Росла шустрой, своевольной и упрямой: нередко противилась домашнему укладу. Как-то утверждала против очевидного, что гнездо птицы вовсе не гнездо. Избегала сладкого, хотя обожала сласти. Девочке было 10 лет, когда семья перебралась в
not so much in theory, but in the daily practice of psychiatry over the past century.
It's only the beginning.
Ellen West in the absence of love and death.
Ellen West (hereinafter – Ellen) – the only daughter in a wealthy secular Jewish family [the main text of the anamnesis according to 1, 2], was born in the United States safely and on time almost 135 years ago (in the leap year 1888) between two brothers.
Her father was restrained and withdrawn, strong-willed, active, but with a vulnerable soul, prone to doubts, "night depressions" with self-blame and anxious selfreproaches in search of compromises. Father's brothers committed suicide (one at the age of 20-30, the other shot himself), the third grew up as a severe ascetic, two more had dementia due to atherosclerosis and died of strokes. Her grandmother, a gentle peacemaker, is silent and motionless during the “quiet weeks”. Her great-grandmother had depressive and manic episodes. Ellen's mother is soft, kind, nervous, suggestible. During a three-year engagement she had an episode of depression (her sister-in-law has a psychosis on the day of her engagement). Mother’s grandfather died young, grandmother was cheerful and cheerful, lived to 84 years, had dementia. Ellen's four-year-old brother is cool-headed, flexible, affable; the younger brother was a "ball of nerves", an effeminate aesthete with experience of shortterm hospital treatment (at 17) due to psychosis and suicidal behavior (SB).
Being nine months old, Ellen "resolutely" gave up milk (she couldn't stand it later) in favor of minced meat. She grew up smart, headstrong and stubborn: she often opposed the home way of life. Once she argued against the obvious that a bird's nest is not a nest at all. She avoided sweets, although she adored sweets. The girl was 10 years old when the family moved to Germany. She willingly attended a women's school. She cried for hours if she did not become the first student; she suffered when she had to stay home because of cold. She intended to achieve great undying glory, to fill life with accomplishments. Her motto was "aut Caesar, aut nihil!" ("To be Caesar or nobody "). She was fond of something/someone passionately, obsessively. In the verses of the school time, the heart beats jubilantly joyfully, but the sky sometimes frowns, gusts of wind are “fatal”. Sometimes she felt “empti-
1Фото предполагаемой Эллен из открытого доступа в Сети: «печальный ангел с личиком больным…» Photo of the alleged Ellen from the public domain on the Web: "a sad angel with a sick face..."
Германию. Охотно посещала женскую школу. Часами плакала, не став первой ученицей; маялась, простуженная, пропуская уроки. Намеревалась добиться великой неумирающей славы, наполнить жизнь свершениями. Ее девиз: «aut Caesar, aut nihil!» («Быть Цезарем или никем»). Увлекалась чем-то / кем-то страстно, одержимо. В стихах школьной поры сердце бьется ликующе-радостно, но небо порой хмурится, порывы ветра «фатальны». Иногда ощущала «пустоту», беспричинный непонятный «гнет».
До 16 лет выбирала активные мальчишеские игры, брюки. С первой двухлетней влюблённостью в сверстника с детскими играми и с привычкой сосать большой палец решительно покончено. После романа А. Якобсена «Нильс Люне» (о воспитании непоколебимости души на трудных путях к счастью) обратилась из глубоко верующей в «законченную атеистку». Мнение окружающих не заботило.
С 16-17 лет слагала стихи. В поэме «Поцелуй меня мертвой» молит Морского царя обнять её холодными руками и «зацеловать до смерти». Высказывается о краткости и тщете человеческой жизни.
«Смерть является величайшим, если не единственным, счастьем в жизни … О мой величайший друг, Смерть, если заставишь ждать слишком долго, отправлюсь на поиски тебя».
Смерть призывается в образе
«восхитительной и прекрасной дамы с белыми астрами».
18-летняя, воспевала труд как «благословение» и … прелестный вояж с родителями в Париж. Желала стать нежной и «эфирной» («бестелесной»), как избранные грациозные подруги с благородной внешностью.
В 19 лет трансатлантический вояж с родителями. Стихи излучали радость жизни, но на отдыхе у друзей просила родителей поскорее забрать её домой. Стала безрассудной наездницей, демонстрируя отчаянные трюки в седле.
В 20 лет восторженно переполнена удовольствиями жизни. Второе заокеанское путешествие для присмотра за больным старшим братом. На обратном пути, на Сицилии, «счастливейшее и самое безоблачное время» радужных надежд и фантазий. Жаждет сильного, серьёзного, любящего мужчину. Пока же беззаботно наслаждается снедью и напитками. Помолвлена с романтическим иностранцем, но по настоянию отца, рассталась с ним:
«Не могу полагаться на свои чувства. Помолвка была ошибкой. Если пойду за своими чувствами, поступлю дурно и потеряю любовь отца».
ness”, incomprehensible “oppression” that had no reason.
Until the age of 16, she chose active boyish games and trousers. Having fallen in love with a peer child's games and the habit of thumb sucking were decisively over in two years. Having read A. Jacobsen 's novel "Niels Luhne " (about cultivating the steadfastness of the soul on difficult paths to happiness), she turned from a deep believer into a "complete atheist." The opinion of others did not matter.
From the age of 16-17 she composed poetry. In the poem "Kiss me dead", she begs the Sea King to hug her with cold arms and "kiss her to death." It speaks of the brevity and futility of human life.
"Death is the greatest, if not the only, happiness in life... Oh my greatest friend, Death, if you make me wait too long, I will go looking for you."
Death is invoked in the form of "a delightful and beautiful lady with white asters."
At 18, she praised work as a "blessing" and had a lovely trip with her parents to Paris. She wanted to become tender and "ethereal" ("incorporeal"), like the chosen graceful friends with a noble appearance.
At the age of 19, she had a transatlantic voyage with his parents. Poems radiated the joy of life, but on vacation with friends she asked her parents to take her home as soon as possible. She became a reckless rider demonstrating desperate tricks in the saddle.
At 20, she was enthusiastically overwhelmed by the pleasures of life. Her second trip overseas was to look after a sick older brother. On her way back, in Sicily she had "the happiest and most cloudless time" bright hopes and fantasies. She was longing for a strong, serious, loving man. In the meantime, she carelessly enjoyed food and drinks, engaged to a romantic foreigner, but at the insistence of her father, she broke up with him:
“I can't rely on my feelings. The engagement was a mistake. If I follow my feelings, I will do wrong and lose my father's love”.
During the first weeks on the marvelous island, she had such “giant appetite” that her girlfriends teased her rounded figure. Therefore, sitting at the table with hungry eyes, she looks at her friends and avoids dessert “sucking out” kilograms of tomatoes with two dozen oranges – mortifies the flesh with exhaustion.
“For days I was afraid that a deaf, empty feeling in my heart, fear and helplessness would return.”
In the spring, upon returning, her fami-
На дивном острове в первые недели напал «гигантский аппетит», подружки подтрунивали над её округлившейся фигурой. Потому смотрит на товарок за столом голодными глазами, избегает десерта, но «высасывает» помидоры килограммами с двумя десятками апельсинов. Умерщвляет плоть изнурительными походами.
«Целыми днями боялась, что вернутся глухое, пустое ощущение в сердце, страх и беспомощность».
Весной, по возвращении, домашних ужасает вид живых мощей.
После 20 всё чаще спады настроения.
Эллен 21 год. Летом что-то
«внутри меня воспротивилось тому, чтобы растолстеть… наесть румяные щеки, превратиться в обычную толстуху».
Грезит наяву о еде, но ест всё меньше, в полном одиночестве, тайком и стыдливо. Каждодневные пешие прогулки, ночные кошмары.
Разрывается между «страхом полноты и желанием есть беззаботно». Полагает себя никчемной и бесполезной, пугают темнота и солнце, тишина и шум.
«Вся моя жизнь – тревога от еды, от голода, тревога от тревоги… хоть что-то насильно проникло бы в меня, а вместо этого насилую себя. А, стало быть, достигла поставленной цели. Но где-то в вычисления закралась ошибка. Ибо я бесконечно бедна – а разве (даже если это звучит глупо) хотела быть нищей?»
Нет покойной пристани дома, безделье у родителей тягостно, на «несостоятельность» подняться над условностями: жалобы на
«железные цепи повседневности: цепи условности, цепи состояния, цепи комфорта … от меня ждут, что буду молчаливой и милой, словно куколка. Но я не кукла. Я – человек с красной кровью и женщина с трепетным сердцем. Не могу дышать в атмосфере лицемерной трусости – совершу (курсив Эллен, прим. Е.Б. ) что-то великое!»
«Одиночество души» утоляет стихосложение.
«Хотела бы умереть, как птица,
От экстаза радости разорвав горло.
А не жить червем на суше.
Стареть некрасиво, однообразно и глупо!
Нет, почувствуй хоть раз, как зажигаются силы во мне.
И я сгорю в собственном огне».
Вернулась к лошадям; в приливах лихорадочной социальной активности читки, концерты и спектакли. Осенью при проснувшихся жизненном задоре и стремлении к деятельности неизбывны тревога и отчаяние. Подъём в пять, три часа в седле, затем даёт частные уроки и с полудня до ночи готовится к аттестату зрелости. Подстегивает себя кофе и холодными обтираниями. Не выдерживает выпускные экзамены.
ly is horrified seeing her as a living sceleton.
After the age of 20, she experiences more and more mood swings.
Ellen is 21 years old. Once in the summer “something inside me resisted getting fat ... eating rosy cheeks, turning into an ordinary fat woman.”
She daydreams about food, but eats less and less, all alone, secretly and bashfully. She walks daily, has nightmares.
She is torn between "fear of fullness and the desire to eat carelessly", considers herself worthless and useless, frightens the darkness and the sun, silence and noise.
“My whole life is anxiety from food, from hunger, anxiety from anxiety ... at least something would forcibly penetrate me, but instead I force myself and, therefore, achieved the goal. But somewhere in the calculation an error crept in. For I am infinitely poor – but did I ever (even if it sounds stupid) want to be a beggar?
There is no piece at home, idleness is painful for parents, to rise above conventions for "failure": she complaints about “the iron chains of everyday life: the chains of convention, the chains of condition, the chains of comfort… they expect me to be silent and sweet, like a doll. But I'm not a doll. I am a man with red blood and a woman with a trembling heart. I can’t breathe in an atmosphere of hypocritical cowardice – I will (Italics Ellen, approx. E.B. ) be something great!”
She got back to the horses; in the tides of feverish social activity, readings, concerts and plays. In the autumn, with awakened enthusiasm for life and the desire for activity, anxiety and despair are inescapable. She gets up at five, spends three hours in the saddle, then gives private lessons and prepares for the exams from noon until night. She encourages herself with coffee and cold rubdowns. She failed the final exams. In winter, she set up a children's charity reading room.
She is now 22. Charity does not satisfy her: this is not enough. In the spring, she realizes how "low she fell." The world lay before her feet, but shamefully surrendered. Sometimes she feels like a "miserable, insignificant worm", steadily losing strength.
Ellen is 23 years old. After an "unpleasant affair" with a riding teacher, she had another breakdown with haunting thoughts about a "terrible" weight. Fear of becoming fat is accompanied with greed in eating purely in solitude, she likes sweets with inescapable fatigue and nervousness of communication. She finally passes the exam for a teacher's rank and enters the University
Зимой устроила детскую благотворительную читальню.
22 года. Благотворительность не удовлетворяет: только этого мало. Весной осознаёт, как «низко пала». Мир лежал перед её ногами, но позорно сдалась. Порой чувствует себя «жалким, ничтожным червем», неуклонно теряет силы.
Эллен 23 года. После «неприятного романа» с учителем верховой езды очередной срыв с неотвязными мыслями об «ужасном» весе. Страх полноты сопровождает жадность в еде сугубо в одиночестве, тяготеет к сладкому при неизбывном утомлении и нервозности общения. Всё же сдает экзамен на учительский чин и проникает в мюнхенский университет с намерением изучать экономику. Жизнь торжествует: влюбляется в студента. Дневник «наполнен дыханием жизни и чувственности». В восторге от учёбы и вольной жизни, не отказавшись от забот старой няньки. Счастлива. Обручена с любимым, но, по настоянию родителей, пара на время рассталась. По осени поблекли краски мира, не может, как прежде, «любить и ненавидеть всей душой». Упоённо мечтает о смерти, снова и снова возвращается к случайной фразе преподавателя:
«Хорошие люди умирают молодыми».
Завидует участи умершей подружки. Бросает учёбу.
24 года. На морском песочке впадает в депрессию, чтобы похудеть, совершает длинные походы, принимает 36-48 таблеток тиреоидина в день. Тоскуя по дому, возвращается, с разрешения родителей, исхудавшая и дрожащая, но довольная наконец стройностью. Терзается затем всё лето.
В 25 лет – третье путешествие за океан. Выявлена базедова болезнь. За шесть недель постельного режима прибавила в весе до 75 кг и горько плачет. Чуть позже расстраивается помолвка, подавлена. В мае в санатории, а летом – школа садоводства. И осенний роман – с кузеном Карлом, другом детства. Вышагивают дружно по 30-40 км ежедневно, плюс гимнастика. Родители одобряют выбор. Нет препятствий свадьбе, но ещё два года колеблется. В детском доме целует подопечных больных скарлатиной в надежде умереть.
В 26 лет матримониальные планы сопровождает ожившая любовь к музыке. Порывает бесповоротно со студентом, в душе – «открытая рана».
28-летняя замужняя дама. Надеется в браке избавиться от «навязчивой идеи». У зеркала колотит ненавистное «тучное» тело кулаками. Но в приподнятом
of Munich with the intention of studying economics. Life triumphs: Ellen falls in love with a student. The diary is "filled with the breath of life and sensuality." She is enthusiastic about studying and free life, but still has her careful old nanny. She is happy. She was engaged to her beloved, but, at the insistence of her parents, the couple broke up for a while. By autumn, the colors of the world have faded, she cannot as before "love and hate with all her heart." She is intoxicated with dreams of death, again and again returns to the random phrase of the teacher:
"Good people die young."
She envis the fate of the deceased girlfriend and drops out of school.
Ellen is 24. On the sea sand she gets depressed and to lose weight she takes long hikes and 36-48 thyroidin tablets a day. Homesick, she returns, with the permission of her parents, emaciated and trembling, but finally content with her being slim. Then she torments all summer.
At the age of 25 she takes the third trip overseas. Ellen was diagnosed with Graves' disease. During six weeks of bed rest, she has gained weight up to 75 kg and was crying bitterly. A little later, her engagement is cancelled, Ellen is crushed. She spends May in a sanatorium and attends a gardening school in the summer. In the autumn she has an affair with her cousin Karl, a childhood friend. They walk together for 30-40 km daily, plus do gymnastics. Parents approve of the choice. There are no obstacles to the wedding, but she hesitates for two more years. In the orphanage, she kisses cheildren ill with scarlet fever hoping to die.
At the age of 26, matrimonial plans are accompanied by a revived love for music. She breaks up irrevocably with the student and suffers "an open wound" in the soul.
At 28 she is a married lady. She hopes to get rid of the "obsession" in marriage. At the mirror, the hated "fat" body is pounded with fists. But in high spirits, she devotes herself to social work with zeal. In the summer she is overwhelmed with the desire to become a mother and the fear of getting fat. Among the girlfriends, as luck would have it, there are only thin little ones, she feels oppressed. Previously, regular periods are delayed, pregnancy expectations are deceived. Weight gain causes painful feelings. Having learned from the gynecologist that increased nutrition is not necessary for conception and gestation (another doctor said the opposite), she returns to large doses of laxatives.
At the age of 29, in the fall, on another walk-torture, she suffers internal bleeding настроении с рвением оттдаётся социальной работе. Обуреваема летом желанием материнства и страхом растолстеть. Среди подружек, как назло, худых малоежек, угнетена. Ранее регулярные месячные задерживаются, ожидания беременности обмануты. Прибавка веса влечёт тягостные чувства. Узнав от гинеколога, что усиленное питание не обязательно для зачатия и вынашивания (другой врач говорил обратное), возвращается к большим дозам слабительного.
В 29 лет осенью на очередной прогулке-пытке внутреннее кровотечение и выкидыш. Менструации не восстановлены. Постепенно ограничивает рацион. Активна на ниве благотворительности.
В 30 лет заделалась веганом. Лечение третьего гинеколога безуспешно, и Элен принимает все больше слабительных, постепенно теряет вес, рада этому.
Эллен 31. Весной много трудится, но не хватает сил и на щадящие прогулки с мужем. После трёх лет брака откровенна с ним: вся ее жизнь, поступки для стройного тела.
«Инстинкты сильнее разума … всё внутреннее развитие, вся реальная жизнь остановились … всё становление и рост прерваны, так как единственная всепоглощающая идея, давно осознанная как невыразимо нелепая, заполнила всю мою душу».
В ноябре:
«Днём и ночью меня преследует одна и та же мысль. Всегда в разных формах, но всегда присутствует. Да, как будто убийцу преследует образ жертвы. Голодна ли или сыта, отдыхаю ли или работаю, мысль о еде всегда передо мной. Она высасывает мой мозг и делает моё существование невыносимым».
И рядом:
«Мысли об оладьях – для меня самое страшное, что вообще может быть».
Зимний резкий упадок сил. Дозы слабительных растут, ночная рвота и дневной понос, сердечная слабость. Утаивает от близких эпизодическую лихорадку; на ветру, раздетая, ждёт пневмонии. Измождена. Вес 47 кг. Выполняет неизменный объём новой работы без азарта. Спит против обыкновения по 12 часов в сутки. На досуге собирает рецепты вкусностей. Настаивает, чтобы другие ели вволю. Погружена в подсчёт калорий. Малопитательные морепродукты поглощает жадно и споро. Умело скрывает голодную диету. По пути съедает купленное для дома и корит себя. При еде покрыта испариной. Едет с мужем в санаторий для больных с расстройствами обмена веществ. Поначалу следует предписаниям доктора, и её вес достиг 50 кг, но после отъезда мужа игнорирует медицинские советы.
Эллен 32: морит себя голодом и потребляет до 60-
and a miscarriage. Menstruation is not restored. Gradually she restricts the diet and becomes active in the field of charity.
Ellen became a vegan at 30. The third gynecologist's treatment is unsuccessful, and Ellen takes more and more laxatives, gradually losing weight, feeling glad about it.
Ellen is 31. She works hard in the spring, but lacks the strength to go for gentle walks with her husband. After three years of marriage, she is frank with him: all actions she took her whole life are aimed to have a slender body.
In November: “Day and night the same thought haunts me. Always in different forms, but always present. Yes, as if the killer is haunted by the image of the victim. Whether I am hungry or full, whether I am resting or working, the thought of food is always in front of me. It sucks out my brain and makes my existence unbearable.”
And again: “Thoughts about pancakes are the worst thing that can ever happen to me.”
In winter her strength sharply declines. Doses of laxatives are increasing, nighttime vomiting and daytime diarrhea, heart weakness. She hides episodic fever from the loved ones; she stays in the wind, undressed, waiting for pneumonia. Exhausted, weighs 47 kg. She is involved into a constant amount of new work without excitement. Unusually, she spends 12 hours a daysleeping. In her spare time she collects recipes of delicious food. She insists that others eat plenty, while she is immersed in calorie counting. Malnourishing seafood she absorbs greedily and quickly and skillfully hides a hungry diet. On the way home, she eats the food she bought and reproaches herself. She covers with perspiration while eating. She goes with her husband to a sanatorium for patients with metabolic disorders. At first, she follows the doctor's orders, and her weight reached 50 kg, but after her husband's departure, she ignores medical advice.
Ellen is 32: she starves herself and consumes up to 60-70 laxative powders per day. Exhaustion, diarrhea and cardiac weakness:
She weighs 42 kg, looks like a skeleton. Realizes the desperation of the situation in being unable to help herself. But at times she is cheerful, appreciates the care of friends.
In February 1920, Ellen and her husband visited a young psychoanalyst with a victorious name: Victor Emil von Gebsattel, "not a freudian". The sessions clarified her most important task – "subjugation of all people" while not being ready to reject the "ideal", according to Ellen's confession to
70 порошков слабительного в день. Изнеможение, понос и сердечная слабость:
«совершенно отгорожена … словно кричу в стеклянном шаре, но люди не слышат меня».
Весит 42 кг, похожа на скелет. Осознает отчаянность положения в неспособности помочь себе. Но временами жизнерадостна, ценит заботу друзей.
В феврале 1920 года Эллен с мужем у молодого психоаналитика с победительным именем: Виктор Эмиль фон Гебсаттель (von Gebsattel), «не помешанного на Фрейде». Сеансы прояснили её сверхзадачу – «подчинение себе всех людей» при неготовности отвергнуть «идеал», согласно признанию Эллен мужу:
«В то время ты был для меня жизнью, была готова её принять и отказаться от идеала. Но это было... вынужденное решение».
Эллен находит выводы
«обезоруживающе верными и пугающе правдивыми», но
«всё остается для меня на уровне теории».
Участились приступы страха, неотступно думая о еде, ограничивает рацион. Разочаровывается в бесполезном психоанализе, но мужу сообщает, что вновь обнажилась любовь к жизни, посещает театры, концерты, лекции. Однако,
«Мои мысли заняты исключительно моим телом, едой и слабительными, и тот факт, что время от времени на горизонте я вижу появление мифической страны счастья, оазис в пустыне, который я сама себе придумала, ещё больше осложняет мой путь… раньше было легче, когда вокруг меня всё было серым. Часто я полностью разбита конфликтом, который никогда не кончится, и я в отчаянии покидаю своего аналитика и прихожу домой с убеждением, что он может помочь разобраться, но не вылечить».
Устраивает самопроверки:
«съешь добрую порцию бобов или пирог без слабительного?» – бросает в жар и холод, «нечто постоянно сдавливает горло».
Эллен 33. В августе (через шесть месяцев) сеансы прерваны в силу «внешних обстоятельств», и её психическое состояние резко ухудшилось. Пропускает трапезы, затем жадно и без разбору набрасывается на любое съедобное.
«Боюсь саму себя, боюсь чувств, перед которыми каждую минуту беззащитно отступаю… из-за этой страшной болезни больше и больше удаляюсь от людей… чувствую себя исключённой из реальной жизни».
В октябре 1920 года Эллен прибегает к услугам второго аналитика с менее пышным именем: Ганс фон Хаттингберг (Hans von Hattingberg).
Хроника широко объявленной смерти.
Её чужелюбая власть привела К насильственной жаркой могиле.
О. Мандельштам
her husband: “At that time, you were life for me, you were ready to accept it and give up the ideal. But it was… a forced decision.”
Ellen finds clues "disarmingly true and frighteningly truthful", but “everything remains for me at the level of theory”.
Attacks of fear have become more frequent, relentlessly thinking about food, restricts the diet. She is disappointed in useless psychoanalysis, but tells her husband that the love of life has again been exposed, attends theaters, concerts, lectures.
However “my thoughts are exclusively occupied with my body, food and laxatives, and the fact that from time to time I strt seeing on the horizon the emergence of a mythical land of happiness, an oasis in the desert that I invented for myself, but it complicates my path even more .... it was easier before when everything around me was gray. Often I am completely overwhelmed by a conflict that will never end, and in desperation I leave my analyst and come home with the conviction that he can help to sort things out, but he can not cure me.
She arranges self-checks: "If I eat a good portion of beans or pie without laxatives. I am thrown into heat and cold, something constantly squeezes my throat."
Ellen is 33. In August (six months later) the sessions were interrupted due to "external circumstances", and her mental state deteriorated sharply. She skips meals, then greedily and indiscriminately pounces on anything that can be eaten.
“I’m afraid of myself, I’m afraid of feelings, before which every minute I step back defenselessly ... because of this terrible disease, I move more and more away from people ... I feel excluded from real life.”
In October 1920, Ellen enlists the services of a second analyst with a less pompous name: Hans von Hattingberg.
Chronicle of a widely announced death.
On the sixth of October, at the insistence of Huttingburg, her husband leaves Ellen in the care of an old nanny. After two days of separation, Ellen tried to poison herself with 56 somacetin pills, vomited up during the night. Between sessions, she sobs, rushes around the city, not making her way out. On November 7th (a month later) she poisons herselfagain with 120 somacetin tablets. Ellen desperately cries and moans all day long, refuses to eat, considers herself incurable. She declares that she will kill herself when no one is around. On the 8th of November, she greedily eats. A day later (November 10) she threw herself under cars
Шестого октября муж по настоянию Хаттингберга оставляет Эллен на попечении старой нянюшки. Через два дня разлуки Эллен пыталась отравиться 56 таблетками сомнацетина, ночью извергнутыми рвотой. Между сеансами рыдает, мечется по городу, не разбирая пути. Седьмого ноября (через месяц) второе самоотравление – 120 таблетками сомнацетина. Эллен отчаянно плачет и стонет день напролёт, отказывается от еды, считает себя неизлечимой. Заявляет, что убъёт себя, когда никого не будет рядом. Восьмого ноября жадно набрасывается на пищу. Спустя день (10 ноября) не раз бросалась под автомобили, а назавтра, на сеансе психоанализа – пыталась выброситься из окна.
С 12 ноября 1920 г. Эллен в клинике внутренних болезней, где практикует её аналитик. Ищёт и находит душевное успокоение, две недели больше и разнообразнее ест, прибавляя в весе. По заданию Хаттингбер-га возобновляет записи:
«Не верю, что настоящим маниакальным неврозом стал страх растолстеть – им стало постоянное желание есть … Что значит для меня это ужасное чувство пустоты? … характерное чувство пустоты, скорее душевное, чем желудочное. Отвратительное чувство неудовлетворённости после каждого принятия пищи? Сердце проваливается в пропасть, чувствую это своим телом, это неописуемо тягостное ощущение … Мучают две вещи: первое это голод. Второе – страх растолстеть. Не могу вырваться из этой петли … просыпаясь, ощущаю страх голода. Даже когда сыта, боюсь часа, когда опять проголодаюсь … убегаю от хлеба на чайной полке … Голодная, не могу ясно видеть происходящее, анализировать … Совсем себя не понимаю. Ужасно не понимать себя. Сталкиваюсь с собой, как с незнакомкой».
В зачине писанной по-немецки автобиографической «Истории невроза» вспоминает, что желание уйти из жизни преследует с детства. Смерть желанна, как никогда.
Сеансы продолжены:
«… мы объяснили всё так: в процессе принятия пищи пытаюсь удовлетворить желания голода и любви. Голод утихает – любовь нет. Остаётся огромная, ничем не заполненная дыра … Ужасно – не понимать себя. … Смотрю на себя как на совершенно чужого человека, боюсь себя и тех чувств, во власть которым отдана, против которых бес-поиощна и беззащитна … чувствую себя совершенно пассивной, вроде сцены, на которой две враждебные силы кромсают друг друга … В этом отношении я безумна. Погибаю в борьбе против своей собственной природы … Что-то во мне восстает, чтобы я была здоровой, чтобы у меня были румяные круглые щеки, чтобы я была простой цветущей женщиной, соответственно моей истинной природе … я же стремлюсь быть худой и изящной».
Для Эллен, толкует аналитик-2, «стройный» пред- more than once, and the next day, at a psychoanalysis session, she tried to throw herself out of a window.
Since November 12, 1920, Ellen has been in the clinic of internal diseases, where her analyst practices. She seeks and finds peace of mind, eats more and more for two weeks, gains weight. On the instructions of Huttingberg, she resumes recording:
“I don’t believe that the fear of getting fat has become a real manic neurosis – it has become a constant desire to eat ... What does this terrible feeling of emptiness mean to me? ... a characteristic feeling of emptiness, more spiritual than gastric. A disgusting feeling of dissatisfaction after every meal? My heart falls into the abyss, I feel it with my body, it is an indescribably painful feeling... Two things torment me: the first is hunger. The second is the fear of getting fat. I can't get out of this loop... when I wake up, I feel the fear of hunger. Even when I’m full, I’m afraid of the hour when I’ll get hungry again… I run away from bread on the tea shelf… Hungry, I can’t clearly see what is happening, analyze… I don’t understand myself at all. It's terrible not to understand yourself. I face myself like a stranger."
In the beginning of the autobiographical History of Neurosis, written in German, she recalls that the desire to die has haunted her since childhood. Death is desired as never before.
Sessions continued: “... we explained everything this way: in the process of eating, I try to satisfy the desires of hunger and love. Hunger subsides, love does not. There remains a huge, unfilled hole ... It's terrible not to understand yourself.... I look at myself as a completely alien person, I am afraid of myself and those feelings that I have been given over to, against which I am helpless and defenseless... I feel completely passive, like a stage on which two hostile forces are shredding each other... In this respect, I am insane. I am dying in the struggle against my own nature... Something in me rises so that I am healthy, so that I have ruddy round cheeks, so that I am a simple flowering woman, in accordance with my true nature... I strive to be thin and graceful.”
The analyst 2 interprets that for Ellen "slim" represents a high spiritual type of person, while "fat" is associated with unintelligent and ugly. She seeks obsessively to starve the fertile maternal body along with the caricature of the bourgeois-Jewish image. In the reports he writes though "hysterical behavior with her husband and transference": Ellen sat down on the analyst's lap and kissed him.
ставляет высокий духовный тип человека, а «толстый» – неинтеллигентный и некрасивый. Стремится навязчиво уморить голодом фертильное материнское тело заодно с карикатурным буржуазно-еврейским образом. В отчётах «истерическое поведение с мужем и перенос»: Эллен уселась аналитику на колени и поцеловала.
В начале Нового 1921 года домашний врач добивается прекращения общения с Хаттингбергом и судьбоносно направдяет Эллен к некому доктору Бинсвангеру.
14 января покорную Эллен встречает санаторий Бельвю («Красивый вид») в Кройцлингене у Боденского озера, вотчине потомственного психиатра и главного врача Людвига Бинсвангера (дед – основатель заведения, рано умерший отец – продолжатель семейного дела, а дядюшка Отто из Йены пользовал Ницше). В сопроводительной записке терапевта: аменорея несколько лет при эндокринных изменениях. Состояние питания удовлетворительно (при весе 47 кг); пикнического телосложения по ювенильному типу.
Комната с мужем–надежей за стенкой, табльдот с докторами, ассортимент программ восстановления. Поначалу Эллен сообщает родителям о лечащем враче Бинсвангере (старше подопечной на семь лет) с осторожным оптимизмом:
«кажется, умеет слушать, одарён и очень, очень симпатичный. Производит крайне энергичное впечатление в попытках понять и заинтересовать себя мной… Сегодня сказал: «Не буду ни к чему принуждать, но и не позволю вам принуждать меня».
Бинсвангер навещает Эллен дважды в день, расспрашивает о текущих делах и ночах, поощряя открытость. Вечерами в салоне Карл и симпатичный врач музицируют: Бетховен, Шуберт, Шопен. Где-то рядом Эллен.
На фоне типового набора поддерживающей диеты и успокоительных, гидротерапии (длительных ванн), прогулок и «просто поговорить» состояние неустойчиво. Эллен тревожна, подвластна «аскетическим импульсам во время еды» при навязчивом желании «наброситься на еду и проглотить её, подобно зверю». Ощущает себя «трупом среди живых». Возвращаются суицидальные мысли, они все неотступнее. Уклоняется от врачебных предписаний. Хорошие новости: ест почти всё предложенное (вес 53 кг), на терренкуре страдания отступают.
Сновидения (записаны прилежным мужем) касаются еды и смерти.
Первый сон: «Мне приснилось нечто великолепное: разразилась война, и я должна идти воевать. Прощаюсь со всеми, радостно ожидая, что вскоре умру … Радуюсь, что
At the beginning of the New Year of 1921, the family doctor manages to end her communication with Huttingberg and fatefully directs Ellen to a certain Dr. Binswanger.
On January 14, the submissive Ellen is greeted by the Bellevue Sanatorium (“Beautiful View”) in Kreuzlingen near Lake Constance, the patrimony of the hereditary psychiatrist and chief physician Ludwig Binswanger (grandfather is the founder of the institution, the father who died early is the successor of the family business, and Uncle Otto of Jena treated Nietzsche). In the accompanying note of the therapist: amenorrhea for several years with endocrine changes. The nutritional status is satisfactory (with a weight of 47 kg); picnic physique according to the juvenile type.
Ellen occupies a room next to her husband, takes table d'hôte with doctors with an assortment of recovery programs. At first, Ellen informs her parents about attending doctor Binswanger (seven years older than herself) with cautious optimism:
“He seems to be a good listener, gifted and very, very attractive. He makes an extremely energetic impression in trying to understand and interest me ... Today he said: "I will not force you to do anything, but I will not allow you to force me either."
Binswanger visits Ellen twice a day, asking about current affairs and nights, encouraging openness. In the evenings, in the salon, Karl and the handsome doctor play music: Beethoven, Schubert, Chopin. Ellen is usually somewhere close.
Against the background of a typical set of a maintenance diet and sedatives, hydrotherapy (long baths), walks and “just talks”, her state is unstable. Ellen is anxious, subject to "ascetic impulses while eating" with an obsessive desire to "pounce on food and swallow it like a beast." She feels like a "dead among the living." Suicidal thoughts return, they are more and more persistent. She avoids medical orders. Good news: she eats almost everything offered (weight 53 kg), suffering recedes on the health path.
Dreams (recorded by a diligent husband) concern food and death.
First dream: “I dreamed something magnificent: a war broke out, and I must go to fight. I say goodbye to everyone, joyfully expecting that I will die soon ... I am glad that I will finally taste a big piece of coffee cake. The second dream is in the "twilight state". Ellen is the wife of an unsuccessful artist; she is forced to help him in everything (even sewing), but she is sick and powerless, both are starving. She asks her husband to напоследок отведаю большой кусок кофейного торта». Второй сон в «сумеречном состоянии». Эллен – жена неудачливого художника; вынуждена помогать ему во всём (даже шить), но больна-бессильна, оба голодают. Просит мужа достать револьвер и застрелить их обоих, но муж «слишком труслив, чтобы нас застрелить, хотя два художника застрелились». Третий сон. Путешествуя, выпрыгивает в море через иллюминатор. Первый возлюбленный (студент) и муж возвращают её к жизни. Съела много пралине и запаковала чемодан. Четвёртый сон. Очень голодная, заказывает гуляш, но маленькую порцию. Жалуется старой нянюшке, что её очень мучают. Хочет сжечь себя в лесу. Предлагает крестьянину 50 тысяч франков, чтобы тот немедля её застрелил.
24 марта после 2,5 месяцев малоуспешного лечения призваны в помощь Е. Блейлер и, против желания семьи Эллен, неназванный «зарубежный психиатр». Сегодня эту маску знаем – Альфред Гош (Hoche), ярый противник Фрейда, поборник евгеники и эвтаназии: соавтор недавего трактата «Допущение уни чтожения жизни, недостойной жизни» (Hoche A., Binding K. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens: Ihr Maß und ihre Form. Leipzig: Meiner, 1920).
Женатый на еврейке, оставил должности университет-сколго профессора и директора психиатрической клиники после прихода Гитлера. Как частное лицо, критиковал программу эвтаназии нацистов. Вслед гибели на Великой войне единственного сына в 1915 году всё более замкнут и подавлен. В 1943 году (77 лет) совершил самоубийство.
«При наличии отсутствия» действенной терапии шанс исцеления нулевой, а потому консилиум идёт навстречу активному пожеланию бесперспективной Эллен покинуть санаторий, но с оговоркой:
«выписка однозначно повлечёт суицид».
… Пятнадцать лет назад Эллен поведала дневнику: «Сумасшедший дом не станет моим последним прибежищем!»
Верный Карл не одобряет терапевтическую альтернативу для Эллен – закрытое отделение на неопределённый (пожизненный?) срок. В личном дневнике:
«Имею ли право препятствовать ей?»
Тридцатого марта Эллен прощается с лечебным учреждением в весе 47 кг (как при поступлении). Тремя днями позже в лоне семьи выглядит поправившейся, бодра и весела. За завтраком щедро намазывает масло, в кофе не жалеет сахару. Обедает досыта впервые за 15 лет без угрызений. Пробует пралине (сон в руку), шоколадные и марципановые яйца. 3 апреля 1921 года гуляет с мужем, перечитывает избранное из Рильке и Гёте, Теннисона, пишет письма и отходит ко сну в пасхальном настроении, испив благостно в присутствии мужа чашу чаю со смертельной смесью лю- get a revolver and shoot them both, but the husband is "too cowardly to shoot us, although two artists shot themselves." Third dream. Traveling, she jumps into the sea through the porthole. The first lover (student) and husband bring her back to life. I ate a lot of pralines and packed my suitcase. Fourth dream. I am very hungry, order goulash, but a small portion. She complains to the old nanny that she is being tormented a lot. She wants to burn herself in the forest and offers a peasant 50,000 francs to shoot her immediately.
On March 24, after 2.5 months of unsuccessful treatment, E. Bleiler and, against the wishes of the Ellen family, an unnamed "foreign psychiatrist" were called to help. Today we know this mask – Alfred Hoche, an ardent opponent of Freud, a champion of eugenics and euthanasia: co-author of the recent treatise "The Assumption of the Destruction of Life Unworthy of Life" (Hoche A., Binding K. Die Freigabe der Vernich-tung lebensunwerten Lebens: Ihr Maß und ihre Form. Leipzig: Meiner, 1920).
Married to a Jewess, he resigned his positions as a university professor and director of a psychiatric clinic after the rise of Hitler. As a private individual, he criticized the Nazi euthanasia program. Following the death of his only son in the Great War in 1915, he became increasingly withdrawn and depressed. In 1943 (aged 77) he committed suicide.
“In the presence of the absence” of effective therapy, the chance of healing is zero, and therefore the council goes towards the active wish of the unpromising Ellen to leave the sanatorium, but with the proviso: "Discharge will definitely lead to suicide."
… Fifteen years ago, Ellen told her diary: "The lunatic asylum will not be my last resort!"
Faithful Carl does not approve of Ellen's therapeutic alternative – a closed unit for an indefinite (for life?) period. In a personal diary: "Do I have the right to prevent her?"
On the thirtieth of March, Ellen says goodbye to the hospital weighing 47 kg (as on admission). Three days later, surrounded with her family, she looks recovered, cheerful and happy. At breakfast, she generously spreads butter and puts lots of sugar in coffee. She dines to the full for the first time in 15 years without remorse. She tries pralines (like in her dream), chocolate and marzipan eggs. On April 3, 1921, she takes a walk with her husband, re-reads selections from Rilke and Goethe, Tennyson, writes letters and goes to bed in the Easter mood having drunk a cup of tea with a deadly mixture of luminal and
минала и морфина.
Утром выглядела, по свидетельству Бинсвангера,
«как никогда – спокойной, счастливой, умиротворенной».
Во избежание трений с законом, Карл отрицал сопричастность поступку жены, но сознался приятелю-врачу, что не препятствовал последней воле Эллен избавиться наконец от мук – и в том его утешение.
Господа Бинсвангер, Блейлер, Гош и Хаттингберг выразили соболезнования семье усопшей.
Война миров Эллен: ключевые моменты жизни и экзистенциального анализа.
Не то удивительно, что наша жизнь – пьеса, а то, что в ней так мало действующих лиц.
Фредерик Бегбедер
Имя розы. Бинсвангер, сделавший имя Эллен, подарил ей и фамилию персонажа Ибсена («Росмер-схольм», 1886).
Эгоцентричная Ребекка Уест, привлекшая норовом Фрейда, в кризисе индивидуальной свободы бросается под мельничное колесо.
Фамилия, возможно, отражает западное происхождение (жаль, не Ост – была бы россиянка).
Американский буржуа Вест (Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков, к/ф СССР, 1924) наивен и доверчив, в отличие от злонамеренного мистера Твистера.
Эллен – англизированное стерто - распространённые имя – подчеркивает космополитизм и вневремен-ность героя.
Девы по имени Эллен любят быть в центре внимания, высокомерны и эгоистичны. Проявляют заботу об окружающих только при моральном удовлетворении. Счастливое время года осень; от Юпитера получают оптимизм, энтузиазм, неустрашимость, но страдают от импульсивности и отсутствия здравого смысла. Википедия
Хотите – верьте.
Синергия природы и воспитания. Сочетание со-циокультурального, экологического (типовых детских травм не отмечено), нейробиологического и генетического факторов сформировали характерологическую предиспозицию в виде низкой стрессоустойчивости Эллен во время пубертатного криза и типовых жизненных пертурбаций, повысив риск раннего дебюта психических расстройств и континуума СП.
В 192 исследованиях (суммарная выборка почти 710 тысяч больных) у трети (35%) дебют психического расстройства (чаще тревога и страхи, лишь у 2,5% нарушения настроения) до 14 лет, расстройства пищевого поведения до 25 лет у более 80% [3].
В истории Эллен более типичного, чем особенного. Отягощённая наследственность разнообразными
morphine in the presence of her husband.
In the morning she looked, according to Binswanger, "better than ever – calm, happy, peaceful."
In order to avoid frictions with the law, Karl denied involvement in his wife's act, but confessed to a doctor friend that he did not interfere with Ellen's last will to finally get rid of the torment – and this is his consolation.
Messrs. Binswanger, Bleuler, Gosch and Huttingberg expressed their condolences to the family of the deceased.
War of the Worlds by Ellen: key moments of life and existential analysis.
The name of the rose. Binswanger, who made Ellen's name, gave her the character Ibsen's surname as well ("Rosmersholm", 1886).
The egocentric Rebecca West, attracted Freud with her temper, in a crisis of individual freedom, throws herself under the mill wheel.
The surname, perhaps, reflects Western origin (pity that it was not Eastern – it could be Russian).
The American bourgeois West (The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks, film USSR, 1924) is naive and trusting, in contrast to the malicious Mr. Twister.
Ellen – an anglicized erased common name – emphasizes the cosmopolitanism and timelessness of the character.
Girls named Ellen love to be the center of attention, are arrogant and selfish. They show concern for others only with moral satisfaction. Lucky season is autumn; from Jupiter they get optimism, enthusiasm, fearlessness, but suffer from impulsiveness and lack of common sense. Wikipedia
If you want you can believe that.
Synergy of nature and education. A combination of sociocultural, environmental (typical childhood traumas were not noted), neurobiological and genetic factors formed a characteristic predisposition in the form of Ellen's low stress resistance during the pubertal crisis and typical life disturbances, increasing the risk of early onset of mental disorders and the SB continuum.
In 192 studies (a total sample of almost 710,000 patients), a third (35%) had the onset of a mental disorder (more often anxiety and fears, only 2.5% had mood disorders) before the age of 14, eating disorders before the age of 25 in more than 80% [3].
Ellen's story is more typical than special. Burdened heredity with a variety of mental (psychosis, depression with special triggers for engagement and marriage, de- психическими (психозы, депрессии с особыми триггерами помолвки и свадьбы, деменции) расстройствами и СП с двух сторон по нисходящей и восходящей линиям.
«Отец его был алкоголиком и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения, младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд, брат бросился с вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел; другая бабушка, шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию; двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа». Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
Семья – эмигранты в первом поколении, но о культуральной травме не известно (вернулись на землю предков, к корням?). Благостно сытое детство с горечью предчувствия. И. Бродский о большей частью идеализированных воспоминаниях:
«когда-уже-все-известно», но «еще-ничего-не началось».
Бинсвангер [1, 2] считает девчушку «немного странной»: рано и чересчур разборчива в еде, своенравна.
«Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного своенравия … была с норовом, но это не только свойство характера, а ещё жизненная установка». Н.Я. Мандельштам
В отказе от молока, по Бинсвангеру, – «разделяющая черта» телесного и окружающего. Избегание сладкого (сладкоежки – на совести взрослых. Е.Б .) не «антипатия», а также ранний акт отказа. Анальный характер («упрямоупорную самость») находит в своенравии, честолюбии. Добавим: сосёт палец до отрочества (затянувшаяся оральная фаза?).
Терпимый Роджерс [1, 4] представляет Эллен до роковых 20 лет многогранно и тонко чувствующей, любознательной, с хорошими задатками при экспрессивности, изменчивости поведения, творческого склада ума и недюжинными литературными задатками. Привязана к возможно, излишне опекающим родителям (более – к отцу?). Её волновали (когда же ещё) предназначение жизни, мечты идеального мира.
«У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы». Бенджамин Дизраэли
Невинное «упрямство» ребёнка более отражает желание неразумных взрослых превратить ребёнка в куклу («взрослая кукла Эллен» – вот печально). Не «образцовый ребёнок» – хорошо. Активность и самостоятельность (ребёнок «резов, но мил») – свидетельство здорового «Я». Самоутверждение и протест игра-
mentia) disorders and SB on both sides in descending and ascending lines.
The family is first-generation emigrants, but no cultural trauma is known (returned to the land of their ancestors, to their roots?). Blessedly well-fed childhood with bitter foreboding. I. Brodsky about mostly idealized memories: “when-already-everything-is-known”, but “nothing -has-began yet”.
Binswanger [1, 2] considers the girl "a little strange": early and too picky about food, capricious.
“Marina Tsvetaeva impressed me with absolute naturalness and stunning willfulness... she had a temper, but this is not only a trait of character, but also a life attitude.” N.Ya. Mandelstam
In the refusal of milk, according to Binswanger, the “separating feature” of the body and the environment shows itself. Avoidance of sweets (sweet tooth – on the conscience of adults. E.B. ) is not "antipathy", but also an early act of refusal. The anal character (“stubborn self”) is found in capriciousness, ambition. Let's add: she sucks her thumb until adolescence (protracted oral phase?).
Tolerant Rogers [1, 4] represents Ellen before her fatal 20s as multifaceted and sensitive, inquisitive, with good inclinations for expressiveness, variability of behavior, creative mindset and remarkable literary inclinations. Attached to possibly overprotective parents (more to father?), she was worried (when else) about the purpose of life, the dreams of an ideal world.
“He who at sixteen was not a liberal has no heart; whoever hasn't become a conservative by sixty has no brain." Benjamin Disraeli
The innocent "stubbornness" of the child more reflects the desire of unreasonable adults to turn the child into a doll ("Ellen's adult doll" – that's sad). Not a "model child" is good. Activity and independence (the child is “frisky, but sweet”) is the evidence of a healthy “I”. Self-affirmation and protest played a liberating role.
Paraphrase by A. Camus of Descartes Coqito "I think, therefore I am": "I rebel, therefore I exist."
Stubbornness and self-will turn into ambition. She shakes, as best as she can, the traditional restrictions of sex. Wearing pants is more comfortable when you lead a semi-sporty lifestyle of a "tom boy" (“a healthy teenage child is thin and scratched, according to telepediatrist Komarovsky), a sign of emancipation ... or a desire to cover up pale ли освобождающую роль.
Парафраз А. Камю Coqito Декарта «мыслю, следовательно, существую»: «бунтую, следовательно, существую».
Упрямство и своеволие превращаются в честолюбие. Расшатывает, как умеет, традиционные ограничения пола. Брюки – удобно при полуспортивном стиле жизни «пацанки»
(«здоровый ребёнок-подросток – худой и поцарапанный, по мнению телепедиатра Комаровского), знак эмансипации … или желания прикрыть бледные ноги.
Однако с туманного детства ощущение пустоты, недовольство настоящим. И привычны мысли о смерти.
В Марине была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни, и в то же время её неустройство и невозможность найти полноту в этой жизни иногда звучали пессимистическим отказом от жизни. К. Родзевич о М. Цветаевой.
В период полового созревания «серьёзная попытка тщательной самоинтерпретации» [2]. С подростковых ногтей фрустрация тревоги, депрессия, отвращение к себе – телесной, возможны проблемы половой идентичности.
В 16 лет переживает эмоциональную бурю первого чувства («любовь длится три года»). Максималист и ригорист Эллен свободно выбирала все или ничего (девиз), ответственности поступка («выдавливала раба»). В неудачах винила всегда только себя.
«Цельность её характера, целостность её человеческой личности была замешена на противоречиях; ей была присуща двоякость (но отнюдь не двойственность) восприятия и самовыражения; чувств (из жарчайшей глубины души) и – взгляда на (чувства же, людей, события), взгляда до такой степени со стороны, что – как бы с иной планеты». Ариадна Эфрон о матери.
Альтруистический мотив («теория малых дел») в благотворительности и критическом отношении к социальному неравенству и, в частности, гендерным ограничениям.
Будущий нарком и посол СССР Коллонтай, а пока Шурочка «С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы – «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку – и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: «Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть!» И. Бунин «Окаянные дни»
Тягу (и боязнь?) сердечного общения заменяла суррогатом «заботы о бедных». «Педантично» [2] наполняла пустое время развлечениями. Пока не предали душевные и физические силы. Поочерёдно и «в одном бокале» романтичная и рассудительная, Эллен в предвкусье любви, в омутах бурной влюблённости и её горьком послевкусье.
legs.
However, from a foggy childhood, she has a feeling of emptiness, dissatisfaction with the present and habitual thoughts about death.
During puberty she suffers "a serious attempt of careful self-interpretation" [2]. From teenage nails, she experiences frustration anxiety, depression, self-loathing including her body, gender identity problems are possible.
At the age of 16, she experiences an emotional storm of the first feeling (“love lasts three years”). Maximalist and rigorist Ellen freely chose all or nothing (the motto), the responsibility of the act (“squeezed out the slave”). She always blamed herself for her failures.
“The integrity of her character, the integrity of her human personality, was mixed up with contradictions; it was inherent in the duality (but by no means duplicity) of perception and self-expression; feelings (from the hottest depths of the soul) and – a look at (feelings, people, events), a look to such an extent from the side that – as if from another planet. Ariadne Efron about mother.
Altruistic motive ("the theory of small deeds") in charity and a critical attitude towards social inequality and, in particular, gender restrictions.
The future People's Commissar and Ambassador of the USSR Kollontai, but for now Shurochka “In the morning put on the simplest dress and galloped to the working slums - “to work”. And turning back to mine, she took a bath, put on a blue shirt – and sniffed with a box of sweets into bed with a friend: “Well, come on, my friend, now let's chat to our heart's content!” I. Bunin "The Cursed days"
She replaced the craving (and fear?) of cordial communication with a surrogate for "concern for the poor." "Pedantically" [2] she filled the empty time with entertainment. Until they betrayed mental and physical strength. Alternately and “in one glass” romantic and reasonable, Ellen is in anticipation of love, in the whirlpools of violent love and its bitter aftertaste.
"From the fire of sudden passion, only ash remains." I. Kalman "Silva"
On her short journey – "dreams and loneliness", deaf suffering and desperate joy of life (" carpe diem – seize the day"), blurring of the inner "I" and self-destruction (Ellen would have laughed in the face of a fair fortune teller).
“What fastidious horses I got –
I didn’t have time to live, I didn’t have
«От огня внезапной страсти остаётся лишь зола». Имре Кальман «Сильва»
На её недолгом пути – «мечты и одиночество», глухое страдание и отчаянное веселие жизни («carpe diem – лови день»), размывание внутреннего «Я» и саморазрушение (Эллен засмеялась бы в лицо ярмарочной гадалки).
«н о что-то кони мне попались привередливые –
И дожить не успел, мне допеть не успеть».
В. Высоцкий
Слово Лизе Дьяконовой, чей посмертный (убилась в 27 лет в начале ХХ века) дневник стал душевным попутчиком и компасом идейных российских дев в «темном царстве».
Не по годам мудрая, рассуждающая в своём дневнике о Надсоне и Бисмарке, русской империи и французской демократии, но в каких-то областях жизненного опыта наивная до святости, «умственная» по типу своего отношения к жизни и в то же время душевно ранимая и трепетная, Лиза всё воспринимала непосредственно, открытой душой, но при этом старалась всё осмыслить и сформулировать [5].
Очередной испытательный срок проверки чувств преодолён.
В почти ежедневных (более 900) письмах за четыре года помолвки, причём три года – в дальней разлуке, Зигмунда (26) и Марты (20) «теплый» Фрейд тревожный, страстный (грозит суицидом) и тиранический, а Марта – «нормальная» и надёжная.
Отношение к официальному жениху («молодая уже не молода») узаконены одобрением премудрого и уважаемого отца (где-то в задних комнатах повествования – мать, намаявшаяся в долгом ожидании или неприятии своей свадьбы). «Головной роман»?
Родителей не смутило (привлекло?) близкое родство брачующихся.
Девочка в слезах отказывает детсадовскому жениху: «В моей семье женятся только родственники. Мама на папе, бабушка на дедушке. Из Сети
В Торе (Ваикра, гл. 18), вряд ли руководстве ассимилированной семьи, в списке родственников, браки между которыми запрещены, нет кузенов. Однако близкородственные союзы чреваты у пар с «ущербными» генами.
Интерпретация болезни в свете дазайн-анализа. Спустя 23 года после смерти Эллен (в 1944 г.) Бинсвангер посредством антропологического подхода ищет связь между телесностью и восприятием мира; развитие материализованного противоречия ментального мира Эллен и её окружения [2]. Кисло-сладкие увлечения (не отпугивала ли Эллен мужчин огнём и льдом чувств), расторгнутые помолвки вели к сомнениям подлинности своих чувств и смысла им руковод-
time to finish singing.” V. Vysotsky
The word is given now to Lisa Dya-konova, whose posthumous diary (killed herself at the age of 27 in the beginning of the 20th century) became a spiritual companion and compass of ideological Russian maidens in the "dark kingdom".
Wise beyond her years, discussing in her diary about Nadson and Bismarck, the Russian Empire and French democracy, but in some areas of life experience she is naive to the point of holiness, “intellectual” by the type of her attitude to life and at the same time mentally vulnerable and quivering, Liza perceived everything directly, with an open soul, but at the same time she tried to comprehend and formulate everything [5].
Another test of feelings.
In almost daily (more than 900) letters of Sigmund (26) and Martha (20) during four years of engagement of which three years were spent in distant separation. we can see Freud as "warm" and anxious, passionate (threatens suicide) and tyrannical, while Martha is "normal" and reliable.
The attitude towards the official groom (“the bride is no longer young”) is approved by the wise and respected father (somewhere in the back rooms of the story there is mother who has been languishing in a long wait or rejection of her wedding). "The main novel".
Parents were not embarrassed (may be even attracted?) by the close familial relationship of the spouses.
The girl in tears refuses the kindergarten fiance: “Only relatives marry in my family. Mom to dad, grandma to grandpa. From the web
The Torah (Vayikra, ch. 18) doesn’t mention cousins in the list of relatives marriages between whom is forbidden. However, closely related unions are fraught with couples with "flawed" genes.
Interpretation of the disease in the light of Dasein analysis. 23 years after Ellen's death (in 1944), Binswanger, through an anthropological approach, is looking for a connection between corporeality and perception of the world; the development of a materialized contradiction of the mental world of Ellen and her environment [2]. Sweet and sour hobbies (didn't Ellen scare men away with fire and ice of her feelings), broken engagements led to doubts about the authenticity of her feelings and the meaning of being guided by them. Ellen rejected her romantic hobbies voluntarily-forced (the shadow of her parents), the "only" idealized love (her independent "I"). Parting marks the ствоваться. Эллен добровольно-вынужденно (тень родителей) отвергла романтические увлечения, «единственную» идеализированную любовь (читай – независимое «Я»). Расставание знаменует крушение веры в способности разумно руководить собой и жизнью [1, 4].
Эллен перед выбором тугоподвижного «мира могилы», давлеющего «телесного», оков души из-за произвола консервативных родителей-домостроевцев (не навет ли на несчастных людей. Е.Б .), выродившегося буржуазного благополучия и дивным блестящим иллюзорно «эфирном миром» незамутненной, сотканной счастьем свободной души.
Эллен замерла у пропасти несовместимых (контрастных, как и желания / метания Эллен) противоположностей: света надежды и тьмы отчаяния, цветения (материнства) и бесплодного увядания; стройный = духовный (тип белокурого студиозуса) и толстый = «бездуховный» (прочно укоренённый жених-муж Карл).
«... противоречие между конфликтующими тенденциями у здорового значительно меньше, чем у невротика». К. Хорни
Рубеж («манифестация») клинического расстройства приходится на 20 лет («гигантский аппетит»), а с антропологической позиции – впереди коварный поворот в экзистенциальный тупик. Неразрешимая дилемма обернулась пожизненным заточением в мрачном лабиринте отчаяния и безнадёжности.
«Идеальная» Эллен стремится воспарить над со-бою-«реальной» и мирской суетой, облегчая, насколько даётся, грузное тело.
«… сама себя сделала смолоду, что со свойственной её натуре решимостью и энергией она начала созидать себя заново, наперекор природе. Она мало ела, изнуряла себя ходьбой. Стремилась придать некую аскетичность своему облику». М. Белкина о М. Цветаевой
«Страх стать толстой» отмечает начало жизни в болезни Эллен с ограничениями свободного существования (вспомним определение болезни Энгельса). Внутреннее развитие, внешняя и духовная жизнь притормаживают. Многообещающе стартовавшая Эллен
collapse of faith in the ability to reasonably manage oneself and life [1, 4].
Ellen faces the choice of the stiffly moving “world of the grave”, the “bodily” that oppresses everything, the shackles of the soul due to the arbitrariness of conservative parents- house builders (we are not accusing those people. E.B. ), the degenerate bourgeois prosperity and the marvelous brilliant illusory woven by the happiness of a free soul.
Ellen froze at the abyss of incompatible (contrasting, like Ellen's desires/throwing) opposites: the light of hope and the darkness of despair, flowering (motherhood) and barren withering; slender = spiritual (a type of blond studious) and fat = "unspiritual" (firmly rooted fiancé-husband Carl).
"... the contradiction between conflicting tendencies is much less in the healthy than in the neurotic." C. Horney
The boundary (“manifestation”) of a clinical disorder falls on 20 years (“giant appetite”), and from an anthropological position, there is an insidious turn to an existential dead end ahead. An unsolvable dilemma turned into a lifelong imprisonment in a gloomy labyrinth of despair and hopelessness.
Like an earthworm, it whirls uneasily in the dusk of a shriveled frozen Eigenwelt (the sphere of self-awareness, selfrelationship and personal meanings). Ellen's world is like a grave [2]. "I" is like an avalanche alienated from feelings, from the experience of suffering outside of trusting open relationships. The uncontrolled filling of the stomach with “whatever you need” temporarily seals the painful emptiness of Ellen’s anal -erotic worldview.
The "ideal" Ellen strives to soar above herself - the "real" and worldly fuss, easing, as far as it is given, a heavy body.
“... she made herself from a young age, that with the determination and energy characteristic of her nature, she began to create herself anew, contrary to nature. She ate little, exhausted herself by walking. I tried to give some asceticism to my appearance. M. Belkina about M. Tsvetaeva
"Fear of becoming fat" marks the beginning of life in Ellen's illness with the limitations of free existence (recall the definition of Engels' illness). Internal development, external and spiritual life slow down. A promising start, Ellen bogs deeper and deeper into the quicksands of the past:
“What remains with her is only an attempt to break out of this circle, more and more perceived as a prison” [2].
увязает все глубже в зыбучих песках прошлого:
«То, что остается у неё, – лишь попытка вырваться из этого круга, всё более воспринимаемого как заключение» [2].
Возможно, это известная защитная реакция.
«У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нем и не бываю». М. Цветаева – Б. Пастернаку St. Gilles, 21-го июня 1926 г.
Влюбленная в смерть: сломанные часы.
Так и теперь на меня снова напал ужас перед всем тем, что в каком-то невыразимом заблуждении зовётся жизнью.
Р. Рильке «Письма к Сезанну»
Поэтика ухода из жизни проходит сквозь жизнь и судьбу Эллен, омраченные хроническим антивиталь-ным (тревожно-депрессивным) настроением.
Смерть, которая всем владеет, становилась будничной, домашней и прирученной, собеседницей и наперсницей одинокой души.
«Смерть – моя младшая сестра». Франциск Ассизский
Эллен привычно призывает смерть, но время встречи можно изменить.
«Измененная без нужды,
С венчиком на лбу, –
Собственному сердцу чуждой
Буду я в гробу».
М. Цветаева
Интуитивное чаяние смерти как тени жизни Эллен ощущает бытийной радостью [2].
«Молодость ходит со смертью в обнимку». С. Гандлевский
Но «это» обычно проходит, как ветрянка.
«В 16 – жизнь-боль, и лишь смерть несёт покой, в 40 – сковородочка по акции – возьму две!» Из Сети
Боялась ли Эллен повторить судьбу близких, одобряла их суициды?
Продолжая сопоставление (почти буквальное – указывает «типичность и вневременность» переживаний и ликов суицидентов) Эллен с иными умненькими домашними девами, её духовными сестрами.
У Елизаветы Дьяконовой с 13 лет желание смерти, рефрен «я сама больше не живая», «на душе целый ад» [цит. по 5].
«Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!»
М. Цветаева «Крысолов»
Вдалеке от трагического финала Эллен самозабвенно заряжена альтруистической горячечной деятельностью (тругоголизм – гиперкомпенсация депрессии?).
«Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой». Марина Цветаева
Perhaps this is a well-known defensive reaction.
“In general, I have an atrophy of the present, not only do I not live, I never go into it.” M. Tsvetaeva to B. Pasternak Gilles, June 21st, 1926
In love with death: a broken clock.
The poetics of passing away passes through the life and fate of Ellen, overshadowed by a chronic anti-vital (anxious-depressive) mood.
Death, which owns everything, became everyday, domestic and tamed, the companion and confidante of a lonely soul.
"Death is my little sister." Francis of Assisi
Ellen habitually calls for death, but the meeting time can be changed.
"Changed without need,
With a halo on the forehead, -
Alien to my own heart
I'll be in the coffin."
M. Tsvetaeva
Ellen feels the intuitive expectation of death as a shadow of life with existential joy [2].
"Youth walks embraced by death." S. Gandlevsky
But "it" usually goes away like chickenpox.
“At 16 life is pain and only death brings peace, at 40 – oh there is a frying pan on a promotion – I’ll take two!” From the web
Was Ellen afraid of repeating the fate of her loved ones, did she approve of their suicides?
Let’s continue with a comparison (almost literal, which indicates the "typicality and timelessness" of the experiences and portraits of suicide attempters) Ellen with other smart house maidens, her spiritual sisters.
At Elizabeth Dyakonova from the age of 13, there is observed desire for death, the refrain “ I myself am no longer alive”, “ there is a whole hell in my soul” [cit. by 5 ].
"You gave me childhood - better than a fairy tale
Now give me death – at seventeen!
M. Tsvetaeva "Pied Piper"
Far from the tragic finale, Ellen is selflessly charged with altruistic feverish activity (workaholism – overcompensation for depression?).
“I give, as I do everything, out of some spiritual adventurism – for the sake of a smile – my own and someone else's." Marina Tsvetaeva
Noticed in risky behavior (the desire to
Замечена в рискованном поведении (желание приблизить смерть легитимными средствами от болезни и травмы при недамской джигитовке).
«Мне смерть – предмет первой необходимости … чахотка заразительна. Я была в восторге! Значит, стоит мне прийти к больной Лизе, поцеловаться с ней несколько раз, подольше посидеть – и заражусь. Я чуть на стуле не подпрыгнула, но Александра Николаевна сказала, что можно заразиться, находясь постоянно с больным, и притом долгое время, а я ведь самое долгое могу просидеть у Лизы – час!» [цит. по 5].
А
Игрок со смертью Байярд вскакивал на необъезженного жеребца. У. Фолкнер. «Сарторис »
Показателен (единичный?) опыт несуицидального самоповреждения («колотила себя кулаками») в приливе отвращения и ненависти к живущему по своим законам телу у зеркала.
17-летняя Лизавета утром посмотрела на себя в зеркале: на меня смотрел урод! [цит. по 5].
… Рекламный видеоролик «Идеал»: «Как я люблю свою великолепную фигуру … и ненавижу жир, который всё это скрывает».
Неизвестна сексуальная сфера Эллен, помимо спекуляций вокруг её подсознательных гомоэротиче-ских «зефирных» влечениях и горячечным влюблённостям.
По Фрейду, суицид – акт мести за отказ от принятия утраты либидинозного удовлетворения.
Но очевидно отвращение к телесному Я
«Направленная против себя любовь ведёт к самоде-струкции, так, например, к самоумерщвлению плоти, мученичеству, да и полному уничтожению собственной сексуальности как при кастрации. Это лишь различные формы и степени самоуничтожения». С. Шпильрейн
Жизнь обывателя («премудрого пескаря») Эллен не прочувствована и отставлена как неудачный сценарий. Мечущаяся Эллен до срока одряхлела (вариант духовной прогерии, и представляется живым трупом.
«Моя внутренняя самость так тесно сплетена с моим телом, что оба вместе образуют целое и заполняют мое Я, нелогичное, нервное, индивидуальное Я … Презираю себя … день ото дня становлюсь все толще, дряхлее и уродливее …».
Экзистенциальные старение и смерть опережают таковые биологические [2]. Бытие последних лет монотонно и утомительно безрадостно, сужено «актами еды» и защитной самоизоляцией (+ депрессивный аутизм). Насыщение с угрызениями обостряло знакомое с детства ощущение опустошения. Эллен отягощена негативным опытом жизни, угнетающим настоящее и затуманивающим будущее при неподъёмном hasten death by legitimate means from illness and injury during non-lady's horse riding).
“To me, death is a matter of prime necessity… consumption is contagious. I was delighted! So, as soon as I come to sick Liza, kiss her several times, sit longer – I will become infected. I almost jumped in my chair, but Alexandra Nikolaevna said that you can get infected by being constantly with the patients, and moreover for a long time, and I can sit with Lisa for the longest time – an hour! [cit. by 5].
BUT
The player with death Bayard jumped on an unbroken stallion. W. Faulkner. " Sartoris "
Indicative is the (isolated?) experience of non- suicidal self-harm (“beating herself with her fists”) in a surge of disgust and hatred for the body that lives according to its own laws in front of the mirror.
17-year-old Lizaveta looked at herself in the mirror in the morning: a freak was looking at me! [cit. by 5].
... Promotional video "Ideal": "How I love my great figure ... and I hate the fat that hides it all."
Ellen's sexual background is unknown, aside from speculation surrounding her subconscious homoerotic "marshmallow" attractions and feverish crushes.
According to Freud, suicide is an act of revenge for refusing to accept the loss of libidinal satisfaction.
But the disgust for the bodily self is obvious: “Love directed against oneself leads to self-destruction, for example, to self- mortification of the flesh, martyrdom, and even the complete destruction of one’s own sexuality, such as castration. These are just different forms and degrees of self -destruction.” S. Spielrein
The life of an everyman ("wise minnow") led by Ellen is not felt and set aside as an unsuccessful scenario. Ellen, rushing around, has become decrepit before her time (a variant of spiritual progeria), and appears to be a living corpse.
“My inner self is so closely intertwined with my body that both together form a whole and fill my I, illogical, nervous, individual I ... I despise myself ... every day I become fatter, decrepit and uglier ... ".
Existential aging and death are ahead of biological ones [2]. The life of recent years is monotonous and tediously joyless, narrowed down by “acts of eating” and protective self-isolation (+ depressive autism). Satiation with remorse exacerbated the feeling of devastation familiar from childhood.
грузе «светлого» прошлого. Время неумолимо и неправильно.
«Я пошел к столику, часы взял – циферблатом по-прежнему вниз. Стукнул их об угол столика стеклом, собрал осколки в подставленную руку, высыпал в пепельницу, сорвал стрелки и тоже в пепельницу. А они все тикают». У. Фолкнер «Шум и ярость»
Эмпатия к себе, свойственная более женщинам, близка гуманистическому подходу А. Маслоу и К. Роджерса. Эллен с едкой гипертрофированной самокритикой презирает себя как жалкое заблудшее существо. Обостренное понимание проблемы усугубляет духовный и эмоциональный дистресс, и жизнь становится непосильным бременем (суицидогенный фактор, по Т. Джойнеру). Сочувствующий себе в неудаче понимает общечеловеческую природу несовершенства (не такова перфекционист Эллен. Е.Б. ), не избегает и не преувеличивает переживания, не бежит от своих чувств и не бежит с ними [6]. Эллен замечает, но не вытесняет «ошибки», и не учится на них.
Коли совсем невмоготу, бессильно бунтует и тщетно пытается разорвать тенёты неразрешимых полярных желаний и страхов (пассивно агрессивное отношение к малоуспешной терапии, суицидальные попытки «побега»). Потерпев очередного поражение («даже» не удалось убить себя) – униженно принимает заемные правила игры. «Тени сомнения и страха» заставили её, изнемогая от раздвоенности (контрастности желаний) приветствовать и подстегивать гибель, но до последнего рубежа надеется на лучшее (амбивалентность суицидента Э. Шнейдмана).
Желание похудеть (быть стройной) связано с типовым антисуицидальным фактором. «Надежды маленький оркестрик» откладывает смерть: худеет, чтобы жить. Вряд ли голодная смерть стала подспудной целью её жизни [7].
«Если бы существовало питание в наиболее концентрированной форме, и я оставалась бы худой, тогда я была бы рада продолжать жить».
Если бы.
К христовым 33 – Эллен дозрела до смерти (внешних форм суицидогенеза).
Два незавершённых суицида через короткий промежуток времени (вторая попытка пришлась на острый постсуицид первой) – самоотравления-клише. «Болезнь судьбы» загоняет Эллен во внутренний тупик, где время и события застывают в стоп-кадре, в повторении одного и того же болезненного стереотипа.
Первая попытка самоубийства вслед насильственной («терапевтической») разлуке. Аналитик-2 патер-
Ellen is weighed down by negative life experiences that depress the present and cloud the future with the unbearable burden of the “bright” past. Time is relentless and wrong.
“I went to the table, took the watch – the clock face is still down. I hit the glass on the corner of the table, collected the fragments in his outstretched hand, poured them into the ashtray, tore off the arrows and also into the ashtray. And they're all ticking." W. Faulkner "The Sound and the Fury"
Self-empathy, which is more characteristic of women, is close to the humanistic approach of A. Maslow and K. Rogers. Ellen, with caustic hypertrophied selfcriticism, despises herself as a miserable misguided creature. A heightened understanding of the problem exacerbates spiritual and emotional distress, and life becomes an unbearable burden (a suicidal factor, according to T. Joyner). He who sympathizes with himself in failure understands the universal nature of imperfection (this is not the perfectionist Ellen. E.B. ), does not avoid or exaggerate experiences, does not run away from his feelings and does not run with them [6]. Ellen notices but does not repress "mistakes" and does not learn from them.
If it is completely unbearable, she revolts helplessly and tries in vain to break the snares of insoluble polar desires and fears (passive aggressive attitude towards unsuccessful therapy, suicidal attempts to “escape”). Having suffered another defeat (“even” failed to kill herself), she humbly accepts the borrowed rules of the game. “Shadows of doubt and fear” made her, exhausted by duality (contrast of desires), greet and spur death, but until the end she hopes for the best (the ambivalence of the suicide E. Shneidman).
The desire to lose weight (to be slim) is associated with a typical anti-suicidal factor. "Hope's little orchestra" puts off death: losing weight in order to live. It is unlikely that starvation became the hidden goal of her life [7].
“If nutrition existed in its most concentrated form and I stayed thin, then I would be happy to continue living.”
If only
By Christ's 33 years of age Ellen has matured to death (external forms of suicido-genesis).
Two incomplete suicide attempts in a short period of time (the second attempt was an acute post-suicide of the first attempt) – self-poisoning-cliché. "Sickness of Destiny" drives Ellen into an inner dead end, where time and events are frozen in a freeze-frame repeating the same painful stereotype.
налистски-авторитарно и ревниво настоял на спешном отъезде мужа, «разрушая остатки доверия к себе и своим чувствам» [4] клиентки. Нахлынувшее острое одиночество приблизило промежуточную развязку.
Способы самоубийства представляют у Фрейда исполнение различных сексуальных желаний (отравиться = забеременеть). При спекулятивности тезиса – подтверждение в истории самоотравлений вынужденно бесплодной Эллен.
Сосудорасширяющий препарат стал доступным («под рукой») средством. Запас аптеки Эллен неисчерпаем; нажитый опыт «неудачи» в повышении вдвое дозы при рецидиве попытки, пришедшейся на острый постсуицид (по сути, попытка – одна, рассеченная случайным спасением).
Сомнацетин прописан Вождю революции (склонному к суициду последние годы) германскими врачами. «Прошу прислать мне по 2-3 трубочки (или коробки?) … Somnacetin-tabletten Veronal-tabletten ... Ленин. Записка в кремлевскую аптеку 6 апреля 1922 г. Фонд 2. Oп. 1. Д. 23036 – автограф.
Мотив попыток (прерванных природой суицидов) может быть понят как сообщение, крик о помощи. Экзистенциально-гуманистическое направление К. Роджерса – Р. Мэя внимательно к эмоциональным расстройствам (тревоге) в суицидогенезе. Ажитация толкала безнадзорную Эллен под колеса. Импульсивная дефенестрация на сеансе аналитика – классика жанра ( к/ф Цвет ночи. США, 1994 ).
Подопечная доктора Фрейда Анна О. трое суток не спала, отказывалась от еды, пыталась порезаться стеклом и прибегала к другим способам суицида. Затем несколько успокоилась и послушно принимала хлорал на ночь.
Удручает, с позиции медицинского патернализма, отстранённость аналитика. Госпитализация хронологически следует за непоследней (увы) попыткой; они продолжены в кефирном заведении Бинсвангера.
Сны и сновидения – манки антропологического анализа и не только его.
«У бодрствующих один общий мир, а спящие отворачиваются каждый в свой собственный». Гераклит
М. Фуко в предисловии к «Сну и существованию» Бинсвангера:
«Он устанавливает конкретный путь анализа по направлению к фундаментальным формам существования: анализ сновидения не ограничивается уровнем герменевтики символа, но, отталкиваясь от внешней интерпретации, имеющей порядок дешифровки, он способен, не пренебрегая философией, достичь постижения сущностных структур».
В больнице и казарме – сны особо яркие.
Отнимите у человека надежду и сновидения, и он бу-
The first suicide attempt follows violent ("therapeutic") separation. The 2nd analyst, paternalistically authoritarian and jealous, insisted on the hasty departure of her husband, “destroying the remnants of trust in herself and her feelings” [4] of the client. The surging acute loneliness brought an intermediate outcome closer.
Freud analyzes ways of suicide as fulfillment of various sexual desires (to be poisoned = to become pregnant). While the thesis is speculative, it is confirmed in the history of self-poisoning by the forced barren Ellen.
The vasodilator drug has become an available ("on hand") means. The supply of Ellen's pharmacy is inexhaustible; the accumulated experience of “failure” in doubling the dose during a relapse of an attempt that fell on an acute post-suicide (in fact, there is only one attempt dissected by an accidental rescue).
The motive of attempts (interrupted by the nature of suicides) can be understood as a message, a cry for help. The existential-humanistic direction of K. Rogers - R. May pays attention to emotional disorders (anxiety) in suicidogenesis. Agitation pushed neglected Ellen under the wheels. Impulsive defenestration at an analyst session is a classic of the genre ( film Color of the Night. USA, 1994 ).
Dr. Freud's patient Anna O. did not sleep for three days, refused to eat, tried to cut herself with glass and resorted to other methods of suicide. Then she calmed down a little and obediently took chloral at night.
From the standpoint of medical paternalism, the detachment of the analyst is worrying. Hospitalization chronologically follows the attempt which is not, alas, the last one; they are continued at Binswanger 's establishment.
Dreams are decoys of anthropological analysis and not only it.
“Those who are awake have one common world, while those who sleep each turn away into their own.” Heraclitus
M. Foucault in the preface to "Sleep and Existence" by Binswanger: “He establishes a specific path of analysis towards the fundamental forms of existence: the analysis of a dream is not limited to the level of the hermeneutics of the symbol, but, starting from an external interpretation that has an order of decipherment, it is able, without neglecting philosophy, to achieve comprehension of essential structures.”
In the hospital and the barracks dreams become especially vivid.
дет несчастнейшим существом на свете. И. Кант
Неизвестны количество и качество сна Эллен, но её сновидения беллетристически-дидактичные («Если это и неправда, то хорошо придумано») и плоско аллегоричные, как у хрестоматийной Веры Павловны, возможно, «наведены» сеансами.
«И как настроение мужчин появляется из тёмных глубин, так и мнение женщин основывается на столь же бессознательных априорных предпосылках». К. Юнг
В серии снов диалектическое родство мотивов жизни (есть, чтобы жить) и смерти, которая всем владеет и всё спишет.
«Сны правдивы, пока они длятся. Но не живём ли мы во сне?». А. Теннисон
Появляются из детства преданная нянюшка и ниоткуда (бог из машины) пейзанин, как в кошмаре Анны Карениной «мужик с длинной талией». Смерть чужими руками – недешева («цена жизни») и не состоялась. Воспоминание о днях счастья свободно монтируется с утоплением, почти как в «Титанике», вновь «неудачном».
При толковании сновидения абсолютно безразлично, исполняется ли драма, разыгрываемая в мёртвой тишине души, собственной личностью того, кто видит сон, или любой комбинацией собственной личности спящего и производных personae. Л. Бинсвангер «Сон и существование»
В первом сне спокойное поглощение пищи на пороге смерти. Второй сон создаёт драматичную ситуацию парного суицида.
Эллен, бывало, подбивала «трусливого» мужа принять смерть вместе.
Четвёртый сон не столь прямолинеен. Фрейдист увидит в реанимации мужем и экс-возлюбленным оплодотворение; путешествие, прыжок намекают на роды; упаковка чемодана, символа смерти и беременности, связана со сферой анального (заполнение пустоты – та же функция переедания). Возможно, направленное в будущее толкование [2]: студент и муж помогут в смерти, чтобы всласть поесть и собрать чемодан с билетом в один конец.
Синтетический образ значимых для Эллен мужчин (отец=муж) – анимус. Напротив, Гвидо (к/ф 8½, Феллини, 1963) в купели окружает цветник важных ему женщин – мать, жена, любовница.
Из дневника молоденькой Лизы Дьяконовой.
«Снилось мне, что лежу я на постели у самой двери моей комнаты; а за дверью стоит кто-то и просит у меня ключа от двери (она заперта), чтобы повеситься на моей стороне двери на продолговатой формы задвижке» [цит. по 5].
Особо суицидоопасен ближайший период после структурированных условий санатория. В отличие от
Take away hope and dreams from a man, and he will be the most miserable creature in the world. I. Kant
The quantity and quality of Ellen’s sleep are unknown, but her dreams are fic-tionalistic-didactic (“If this is not true, then it’s well thought out”) and flatly allegorical, like in the textbook, perhaps “induced” by sessions.
“And just as the mood of men emerges from dark depths, so the opinion of women is based on equally unconscious a priori premises.” K. Jung
In a series of dreams, there is a dialectical relationship between the motives of life (to eat in order to live) and death, which owns everything and writes everything off.
“Dreams are true as long as they last. But aren't we living in a dream? A. Tennyson
A devoted nanny appears from childhood and out of nowhere (God from the machine) Peizanin, as in Anna Karenina's nightmare "a man with a long waist. "Death through the hands of others is not cheap (“the price of life”) and did not take place. The memory of the days of happiness easily combines with drowning, almost like in the "Titanic", and is again "unsuccessful".
In the interpretation of a dream it is absolutely immaterial whether the drama enacted in the dead silence of the soul is performed by the dreamer's own personality, or by any combination of the dreamer's own personality and derived personae. L. Binswanger "Sleep and Existence"
In the first dream, we see the calm absorption of food on the verge of death. The second dream creates a dramatic situation of a couple's suicide.
Ellen used to encourage her "cowardly" husband to die together.
The fourth dream is not so straightforward. A Freudian sees fertilization in resuscitation of the husband and ex-lover; travel and jump hint at childbirth; packing a suitcase, a symbol of death and pregnancy, is associated with the anal sphere (filling the void is the same function of overeating). Perhaps a forward-looking interpretation [2]: the student and husband will help in death to eat well and pack a suitcase with a one-way ticket.
The synthetic image of the men significant to Ellen (father=husband) is the animus. On the contrary, Guido (film 8½, Fellini, 1963) in the bath is surrounded by a flower garden of important women – his mother, wife, mistress.
From the diary of a young Liza Dya-konova. "I dreamed that I lie on my bed at the very door of my room; and someone предыдущих импульсивных попыток (последняя в суженном сознании), сконцентрированных в течение года, суицид Эллен «на холоду» запланирован.
Фотоувеличение беспристрастно фиксирует хронику последних дней Эллен, её пасхальное преображение (на клиническом уровне – инверсия зыбкого аффекта).
Отчаянное существование Эллен, по сути, «бо-лезнь-к-смерти» Кьеркегора
«Мука всегда остаётся в том, что невозможно избавиться от себя самого».
На заре психического расстройства Эллен открывает метафизическое зияние бытия, в котором, как заглянувший в «колодец судьбы» (Дж. Лондон. «Сердца трёх») видит образ неминуемо гибельной судьбы.
«… словно в жизни этих людей когда-то что-то мимолетно открылось, вызвав трепет и блаженство, чтобы затем, оставив по себе некоторые реминисценции, завершиться неизлечимым слабоумием конечного состояния» [8].
Эллен, при эго-дистонности переживаний, овладевает холодный страх неминуемой «недепрессивной» деградации.
Страх перед разрушительной «неизлечимой» болезнью, распадом «Я», безнадежность и отчаяние чаще сопутствуют суициду, чем реальные страдания.
Беспомощно и безнадежно (типовые черты суи-цидента, по Э. Шнейдману) тоскует по «Я-которого-нет» и загоняет себя в когнитивный туннель к «единственно верному» пути освобождения из концлагеря самоограничений, побега из юдоли печали и страданий.
«Существование – пытка, и ничто иное… жизнь превратилась в концентрационный лагерь… я с тоской жду насилия и мучений… и, на самом деле, насилую и мучаю себя каждый час, каждый день».
Решение принято: невидимые миру слезы уронены, мечты похоронены.
«Тайные расходы себя, своей личности, в особенности своей энергии, органической своей энергии, расходы тела оказываются и «расходованием души» являются едва ли не главным источником «беспричинных самоубийств» или самоубийств за «потерею смысла жизни». В. Розанов
Эллен устраивает «праздник непослушания». Или поминки. Кофейный торт из вещего сна становится последней отрадой приговоренного.
Перенесемся вперед на полвека.
Сара Кейн на свидании с литагентом в больничной палате (острый постсуицид) за несколько часов до самопове-шения казалась счастливой, забавной. самоуверенной: болтали о смерти, Боге, пьесах, дружбе. Визитер, прощаясь, поцеловал ее в лоб: «Люблю тебя», и она в ответ: «Я тоже stands outside the door and asks me for the key to the door (it is locked), so that he can hang himself on my side of the door on an oblong-shaped bolt” [cit. by 5].
The immediate period after the structured conditions of the sanatorium is especially dangerous for suicide. Unlike previous impulsive attempts (the latter in a narrowed mind), concentrated over the course of a year, Ellen's suicide is planned "in the cold".
Photo enlargement impartially captures the chronicle of Ellen's last days, her Easter transformation (at the clinical level it is the inversion of unsteady affect).
Ellen's desperate existence is essentially Kierkegaard's "Sickness-to-Death".
"The torment always remains in the fact that it is impossible to get rid of oneself."
At the dawn of the mental disorder, Ellen discovers the metaphysical void of existence, in which, as one who looks into “the well of fate” (J. London. “Hearts of the Three”), he sees an image of an inevitably disastrous fate.
Ellen, with ego-dystony experiences, is absorbed into a cold fear of inevitable “non-depressive” degradation.
Fear of a devastating "incurable" disease, the collapse of the "I", hopelessness and despair often accompany suicide rather than real suffering.
Helplessly and hopelessly (typical traits of a suicidal person, according to E. Shneidman) she yearns for the “I-that-no longer-is” and drives herself into a cognitive tunnel to the “only true” path of liberation from the concentration camp of selfrestraints, escape from the vale of sadness and suffering.
“Existence is torture and nothing else… life has become a concentration camp… I yearn for violence and torment… and, in fact, I rape and torture myself every hour, every day.”
The decision has been made: tears invisible to the world are shed, dreams are buried.
Ellen throws a "disobedience party". Or memorial service. The coffee cake from a prophetic dream becomes the last consolation of the condemned.
Let’s jump forward half a century.
Meeting her literary agent in a hospital ward (acute post-suicide) Sarah Kane , a few hours before self-hanging, seemed happy,
тебя люблю».
В суициде Эллен экзистенциальный противо-смысл «перестать быть».
«Если нет сил для жизни – надо умереть». Лиза [цит. по 5].
Капитуляция на всех фронтах влечёт зловещее успокоение (перемирие).
«Но, если выбирать между этой жизнью, которая вся обратилась для меня в одну страшную темную ночь, и этим неизвестным… Жить? Нет, нет и тысячу раз нет! По крайней мере, покой и забвение… Их надо мне». Последняя запись в дневнике Лизы Дьяконовой (27 лет), 18 января 1902 г. [цит. по 5].
Трагическое существование реализовано.
«На твой безумный мир
Ответ один – отказ».
М. Цветаева
Эллен умирает, как жила. У Э. Шнейдмана общая закономерность суицида – соответствие СП жизненному стилю. Лучший прогноз ее поведения – в поведении в прошлом (попытки суицида). «Миропроект» Эллен завершён рукотворным крахом: гибнет в борьбе со своей природой.
«… потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу». Ф. Кафка «Голодарь»
Через 23 года после гибели Эллен, когда не стало главных фигурантов «дела», Бинсвангер 17 раз (измерено и проверено) подтверждает «подлинность» (authentic) самоубийства [2], постулируя «неизбежность осуществления смысла жизни». Согласно установке на восстановление «мира взаимоотношений», Бинсвангер замечает, напротив, неподлинность» её самости. Суицид Эллен – акт произвола, неизбежное событие круговращения жизни, последняя отчаянная попытка здесь-бытия вернуться к себе.
«Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле».
О. Мандельштам
«Воздержимся от окончательного суждения, предоставив опыту самому разрешить эту проблему». Фрейд, закрывая посвященное проблеме самоубийства заседание Венского психоаналитического общества . Ему вторит через десятилетия классик суицидологии: «На самом деле никто не знает, почему совершают суицид». Эдвин Шнейдман «Британская энциклопедия», 1973.
Но живые отвечают, как могут, за мёртвых, преодолевая их ритуальное молчание.
Неподдающаяся-покорная Эллен напоследок играет по своим правилам.
«Многие вещи мы вынуждены делать добровольно». Ежи Лец
funny, self-confident: they chatted about death, God, plays, friendship. The visitor, saying goodbye, kissed her on the forehead: “I love you,” and she replied: “I love you too.”
In Ellen's suicide, the existential countermeaning is "to cease to be".
“If you don’t have the strength to live, you must die.” Lisa [cit. by 5].
Capitulation on all fronts entails an ominous calm (truce).
“But choosing between this life, which all turned for me in one terrible dark night, and this unknown... To live? No, no, and a thousand times no! At least peace and oblivion… I need them.” The last entry in the diary of Liza Dyakonova (age 27), January 18, 1902 [op. by 5].
Tragic existence is now realized.
Ellen dies as she lived. E. Shneidman writes about the correspondence between SB and the life style as the general pattern of suicide. The best predictor of her behavior is in her past behavior (suicide attempts). Ellen's "world project " is completed by a man-made collapse: she dies in the struggle with her nature.
"...because I will never find food to my liking." F. Kafka "The Hunger "
23 years after Ellen's death, when the main characters of the "case" were no longer alive, Binswanger 17 times (measured and verified) confirms the "authenticity" of suicide [2], postulating "the inevitability of the fulfillment of the meaning of life. "According to the setting for the restoration of the "world of relationships", Binswanger notices, on the contrary, the inauthenticity of Ellen’s "self”. Ellen's suicide is an act of arbitrariness, an inevitable event in the cycle of life, a last desperate attempt to return being-here to being.
“Let us refrain from final judgment, leaving experience to solve this problem for itself. ”Freud, closing the meeting of the Vienna Psychoanalytic Society devoted to the problem of suicide. He is echoed decades later by the classic of suicidology: “In fact, no one knows why they commit suicide.” Edwin Shneidman, Encyclopædia Britannica, 1973.
But the living try to speak, as best they can, for the dead, overcoming their ritual silence.
Recalcitrant-submissive Ellen finally plays by her own rules.
"Many things we have to do voluntarily." Jerzy Lec
Were it not these lines that attracted the scribe Ellen in the last hour:
"To anyone, God, send his death
Не эти ли строки привлекли книжницу Эллен в последний час:
«Любому, Боже, смерть его пошли той самой жизнью умирать, когдав нем горе, разум и любовь прошли!» …
Человек должен осознать конечность своего бытия и отдать все силы этой жизни. Для этого он родит смерть, став смерто-родителем». Рильке, любимец суицидальных дев. У Гёте смерть суть «самостоятельного акта» жизни. «До тех пор, пока вы не осознали непрерывный закон умирания и рождения вновь, вы просто смутный гость на этой Земле».
Или, примирительно, на темных аллеях:
Деревьев жизнь пройдёт, леса поникнут,
Туман прольётся тихою слезою,
И пашня примет пахаря в объятья,
И лебедь через много лет умрёт.
А. Теннисон
Не вспомнила ли перепахавшую юную душу книгу:
«Великая печаль наша, что душа одинока всегда. Нет никакого слияния душ, все обман. С кем сольётся душа? Ни с матерью, которая тебя баюкала, ни с другом, ни с женою, которую покоил у сердца...». Н. Люне
Хочу верить, Эллен все-таки достигла лучезарной точки равновесии между прошлым и будущим.
«… есть властолюбие (Наполеон), а, ещё выше, le divin orgueil ( моё слово – и моё чувство), то есть окончательное уединение, упокоение». М. Цветаева. Из письма В.Н. Буниной. Кламар, 20 ноября 1933 г.
Мир лечений.
Боже, почему ты оставил меня?..
Где твоё, смерть, жало, где твоя, ад, победа?
Иоанн Златоуст
Вокруг Эллен хоровод симптомов и череда целителей, синхронизируясь, составивших бы противоречивую многопрофессиональную бригаду. Эллен удостоили вниманием три гинеколога, по паре интернистов и аналитиков.
Пикническое сложение свойственно биполярным больным. Ювенильность (раннее развитие процесса) в противоречии с старообразностью.
В многоголосье профессионалов интернисты опередили психиатров. Лакмусовой бумажкой их несистематических усилий становится динамика веса Эллен и СП.
Период нелеченой болезни (переживания и поведение Эллен были её «частным делом») почти 15 лет – континуальных аффективных колебаний, сопряженных с нарушениями пищевого поведения, в предкахе-тическом (опасном для жизни) состоянии – первая психиатрическая помощь психоаналитика.
to die the same life when grief, reason and love have passed for him!” …
A person must realize the finiteness of his being and give all his strength to this life. To do this, he will give birth to death, becoming a death- parent. Rilke, favorite author of suicidal girls. For Goethe, death is the essence of an "independent act" of life. "Until you realize the continuous law of dying and being born again, you are just a vague guest on this Earth."
Or, conciliatory, on dark alleys:
The life of the trees will pass, the forests will fall,
The fog will shed a quiet tear,
And the arable land will embrace the plowman,
And the swan will die in many years.
A. Tennyson
Did she remember the book that plowed up her young soul:
“Our great sadness is that the soul is always alone. There is no merging of souls, everything is a hoax. With whom will the soul merge? Not with your mother, who cradled you, not with a friend, not with your wife, whom you rested at your heart ... ". N. Lune
I want to believe that Ellen has finally reached a radiant point of balance between the past and the future.
“... there is lust for power (Napoleon), and, even higher, le divin orgueil ( my word – and my feeling), that is, the final solitude, repose. M. Tsvetaeva. From a letter to V.N. Bunina. Clamart, November 20, 1933
The world of cures.
God, why did you leave me?
Where is your sting, death, where is your victory, hell?
John Chrysostom
Ellen is surrounded with a succession of healers who syncronizeto make up a controversial multi-professional team to attend her numerous symptoms. Ellen was seen by three gynecologists, a couple of internists and analysts.
Pycnic body type is characteristic of bipolar patients. Juvenility (early development of the process) is in contradiction with oldness.
In the polyphony of the professionals, the internists were ahead of the psychiatrists. The litmus test of their non-systematic efforts is the dynamics of the weight of Ellen and her SB.
The period of an untreated illness (Ellen's feelings and behavior were her "private affair") of almost 15 years is continual affec-
Аналитики пользовали Эллен около года в сферах влечений, по Фрейду:
«наблюдаемые феномены должны уступить место предполагаемым стремлениям».
Проясняли чувства, но не помогли пережить их.
Уклоняется прямо или косвенно (пассивная агрессивность) от следования предписаниям. Неудовлетворённость лечением приводила к смене врачей и/или обрыву невнятной терапии (онер рискованного поведения) и СП. Самолечение – ипостась рискованного поведения. Злоупотребляет слабительными и снижающими аппетит препаратами (тиронин, возможно, назначен в связи с микседемой). Побочные действия (дозозависимые) препарата: возбудимость, двигательная расторможенность, нарушения сна, потливость, тахикардия усугубляют подлежащую хроническую тревогу (её психический и соматический компоненты).
Длительность клинико-санаторного лечения 4,5 месяца. (При)альпийские санатории у Т. Манна или ЭМ. Ремарка – хронотоп с неспешным ходом жизни и ритуалами измерения температуры. Лечение в клинике и санатории (всего 2,5 месяца) ненавязчиво, как дистанцированная речевая терапия Бинсвангера дважды в день. Современный комментатор [9] допускает вытесненное гомосексуальное влечение Бинсвангера к Карлу или наоборот, но чем занимала себя Эллен вне салона, отпустили ли её на время «тени тревоги и страхов». Возможен приём успокоительных (снотворных).
«Анну О.» из избранного набора «случаев» Фрейда потчевали хлоралом.
У Бинсвангера – собственная лаборатория, учреждение, на зависть Фрейду. Кушетка как вариант истеблишмента, вне (или над) времени и социальной жизни и (отчасти) клинического опыта, растворяется в дымке при распространении практики анализа в институциональных условиях (первая клиника Эллен).
Бинсвангера не привлекают результаты лечения при пристрастной экспликации экзистенциальных принципов («побег в болезнь», как в тибетский монастырь). Подход к Эллен показывает отказ от «телеологии лечения» и сдерживания (закрытое отделение – равносильно смерти, а не спасение).
Трагические рефрен и кода Эллен –
«Я кричу, но они не слышат меня»,
– годны для самоэпитафии.
Р. Мэй [10] выделяет среди модусов бытия-в-мире мир взаимоотношений, «со-бытия». По М. Буберу, в отношении «Я – Ты» диалог, взаимное признание. За 10 лет лечения не связанными функционально и идео-
tive fluctuations associated with eating disorders, in a pre-cachetic (life-threatening) state – the first psychiatric help of a psychoanalyst.
Analysts treated Ellen for about a year in the areas of attraction, according to Freud: "observed phenomena must give way to supposed aspirations."
Her feelings were clarified, but it did not help to overcome them.
She keeps deviating directly or indirectly (passive aggressiveness) from following the instructions. Dissatisfaction with treatment led to a change of doctors and/or interruption of slurred therapy (oner of risky behavior) and SB. Self-medication is a hypostasis of risky behavior. Ellen abuses laxatives and appetite-reducing drugs (thyronine, possibly prescribed in connection with myxedema). Side effects (dose-dependent) of the drug: excitability, motor disinhibition, sleep disturbances, sweating, tachycardia aggravate underlying chronic anxiety (its mental and somatic components).
The duration of clinical and sanatorium treatment is 4.5 months. (Pri)alpine sanatoriums described by T. Mann or E-M. Remarque is a chronotope with a leisurely course of life and temperature measurement rituals. Treatment in the clinic and sanatorium (only 2.5 months) is unobtrusive, like Binswanger 's distant speech therapy twice a day. A modern commentator [9] admits Binswanger 's repressed homosexual attraction to Karl, or vice versa, but what Ellen occupied herself with outside the salon, if she was released for a while by "shadows of anxiety and fears" remains unknown She might have been given sedatives (sleeping pills).
"Anna O" from a select set of Freud's "cases" was treated with chloral.
Binswanger has his own laboratory, an institution that Freud envy. The couch as a variant of the establishment, outside (or above) time and social life and (partially) clinical experience, dissolves in a haze with the spread of the practice of analysis in institutional settings (Ellen's first clinic).
Binswanger is not attracted by the results of treatment with a biased explication of existential principles ("escape into illness", as in a Tibetan monastery). The approach to Ellen shows a rejection of the "teleology of treatment" and containment (a closed department is tantamount to death, not salvation).
Tragic refrain and Ellen's coda –
"I scream but they don't hear me" is suitable for self-epitaphs.
R. May [10] singles out among the modes of being-in-the-world the world of логически врачами, Эллен не нашла «исцеление через встречу». Общее препятствие психотерапевтической цели [4] – врачи (консультанты) не отнеслись к Эллен гуманно и уважительно, как к уникальной личности, низведя её до обезличенного объекта вмешательства («вещи»), неспособного отвечать за свою жизнь, с обманчивыми переживаниями.
В духе ли «тогдашней психиатрии» – вопрос.
Аналитики и Бинсвангер следуют принципам традиционной медицинской этики задолго до рождения биоэтики. Психотерапевтический диалог опирается на доверие, разумные суждения и добродетели как личные достоинства. Эллен вовлечена в построение объяснительных гипотез, осведомлена о диагнозах (озадачена и удручена) и печальной альтернативе лечения, свободна в планировании будущего (увы, суицида).
«… всю правду» в резкой форме могут перенести немногие, особо больные. Самый тяжелый прогноз можно дать в такой форме, что при полной серьезности суждения и правде останется маленький след надежды, и этого достаточно для больного». Э. Кречмер «Медицинская психология»
Если, по Фрейду, врач – не философ, то пациент, принимающий решение о своём лечении или отказе от него, может им быть. Самоубийство предсказано при уважении выбора Эллен проекта существования, пусть неудачного. Естественная смерть приходит как «внешняя судьба», но добровольный уход из жизни задаёт вопрос:
«где начинается вина и кончается судьба» [2].
Мир диагнозов.
Одна из самых распространённых болезней – ставить диагноз. Карл Краус
«Трудный пациент» обрастает диагнозами. Интернисты отметили физическое неблагополучие с клинически значимыми (более 10%) резкими колебаниями веса и аппетита, проблемами щитовидной железы (при злоупотреблении тироксином) и задержкой месячных до аменореи, выраженную астению, утяжеляемую депрессией. Психиатрическим учреждениям предшествовал санаторий для эндокринных больных.
Ортодоксальные аналитики Эллен полагали симптомы ограниченного репертуара переложением типичной буржуазной женской судьбы на язык осязаемых телесных выражений и назад, к глухой самоизоляции. Аналитик-1 утром после повторного самоотравления констатирует «истерическое сумеречное состояние».
Среди больничных «шизофреников всех мастей» Шарль-Эрнест Ласег (Lasègue) в 1873 году выявил «парадоксально оживлённых» (в отличие от голодных бедняков)
relationships, "co-existence". According to M. Buber it is dialogue, mutual recognition in relation to "I – You". After 10 years of treatment by functionally and ideologically unrelated physicians, Ellen has not found "healing through the meeting." A common obstacle to the psychotherapeutic goal [4] is that doctors (consultants) did not treat Ellen humanely and respectfully, as a unique person, reducing her to an impersonal object of intervention (“thing”), unable to take responsibility for her life, with deceptive experiences.
Whether it was in the spirit of "then psychiatry" remains a question.
Analysts and Binswanger follow the principles of traditional medical ethics long before the birth of bioethics. The psychotherapeutic dialogue is based on trust, reasonable judgment and virtues as personal virtues. Ellen is involved in the construction of explanatory hypotheses, aware of the diagnoses (perplexed and dejected) and the sad alternative to treatment, free to plan for the future (alas, suicide).
"All truth" in a sharp form can be onlu accepted by a few, especially the sick ones. The most difficult prognosis can be given in such a form that, with the full seriousness of the judgment and the truth, there will be a small trace of hope, and this is enough for the patient. E. Kretschmer "Medical Psychology"
If, according to Freud, the doctor is not a philosopher, then the patient, who decides whether to treat himself or not, may be one. Suicide is foretold while respecting Ellen's choice of the project of existence, albeit an unfortunate one. Natural death comes as "outer destiny," but voluntary death begs the question:
“where guilt begins and fate ends” [2].
The world of diagnoses.
One of the most common diseases is to make a diagnosis. Karl Kraus
The “difficult patient” accumulates diagnoses. Internists noted physical distress with clinically significant (more than 10%) sharp fluctuations in weight and appetite, thyroid problems (with thyroxine abuse) and delayed menstruation to amenorrhea, severe asthenia aggravated by depression. Psychiatric institutions were preceded by a sanatorium for endocrine patients.
Orthodox analysts considered the symptoms of a limited repertoire to be a transposition of a typical bourgeois female fate into the language of tangible bodily expressions and back to deaf self-isolation. In the morning after repeated self- poisoning the first Analyst reports a "hysterical twilight state."
дев 15-20 лет из буржуазных семей с «истерической анорексией» вследствие психологических факторов, как боязнь предстоящего замужества. Поведение объяснялось и желанием контролировать окружающих, стать центром внимания, избежать обязанностей жены и уцепиться за ускользающее детство.
В декабре 1919 года Э. Крепелин находит у истощённой донельзя Эллен «врождённую меланхолию» с сопутствующими «навязчивостями» (не исключено, что они когда-нибудь покинут страдалицу). Диагноз в русле дименсионального подхода (писал о «мультинаправленности» нозологии) соответствует сквозному (осевому) симптомокомплексу и поперечному – в момент осмотра.
Спустя два месяца аналитик-2 оспоривает Крепелина: «тяжёлый невроз навязчивых состояний, сопровождаемый маниакально-депрессивными колебаниями». Вольность закрывшего ладошкой светило объяснима: психоанализ – отдельное государство, уточняющее суверенные границы и выбирающее кумиров. Однако замечает подъёмы аффекта («поцарапай депрессию – увидишь манию» и наоборот).
Элен озадачена разнобоем мнений врачей.
Диагноз от Бинсвангера сходен с крепелиновым: «довольно тяжёлый случай циклотимической депрессии с ... сильным чувством тревоги и временными мыслями о самоубийстве», вскоре сменен на паранойю и незамедлительно – на шизофрению.
Бинсвангер не видел Эллен «случаем нервной анорексии»: не утрачен аппетит, а переедание заполняет экзистенциальный вакуум. Не сомневался, вкупе с Блейлером (первый стажировался у второго), в шизофрении (одной из) с изначально неутешительным прогнозом протяжения по причине «врождённого эгоизма».
Бинсвангер неспешно поднял вымпел феноменологии в 1922 г, в 1944-45 годах (спустя почти четверть века после смерти Эллен) сформулировал постулаты нового учения (метод провозглашен состоявшимся на первом Международном конгрессе психиатров в Париже в 1950 году), представив ретроспективный «дазайн-анализ» (Daseins-Analyse) ипостасей здесь-бытия и миров Эллен на более 30 страницах петитом в четырех обширных статьях в Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie как пример шизофрении. Затем Эллен находим среди пяти пространных случаев в «Введении в шизофрению».
На нелёгком пути познания и размышлений очевидна преемственность клинической и терапевтической практики.
Бинсвангер обосновывает диагноз шизофрении с
Among the hospital "schizophrenics of all stripes" Charles-Ernest Lasègue in 1873 identified "paradoxically lively" (as opposed to the hungry poor) girls of 15-20 years old from bourgeois families with "hysterical anorexia" due to psychological factors, such as fear of impending marriage. Behavior was also explained by the desire to control others, to become the center of attention, to avoid the duties of a wife and to cling to an elusive childhood.
In December 1919, E. Kraepelin finds in the utterly exhausted Ellen "congenital melancholy" with accompanying "obsessions" (it is possible that they will someday leave the sufferer). Diagnosis in line with the dimensional approach (he wrote about the "multidirectionality" of nosology) corresponds to a through (axial) symptom complex and a transverse one – at the time of examination.
Two months later, the second analyst disputes Kraepelin: "severe obsessivecompulsive disorder accompanied by manic-depressive fluctuations." The freedom of the one who closed the luminary with his palm is understandable: psychoanalysis is a separate state, clarifying sovereign borders and choosing idols. However, he notices rises in affect ("scratch depression – you will see mania" and vice versa).
Helen is puzzled by the disparity of doctors' opinions.
Binswanger 's diagnosis is similar to Kraepelin's: "a rather severe case of cyclothymic depression with ... intense anxiety and temporary suicidal thoughts", soon changed to paranoia and immediately schizophrenia.
Binswanger didn't see Ellen as a "case of anorexia nervosa": no appetite lost, overeating filling an existential vacuum. I had no doubt, together with Bleuler (the second was an intern of the first), in schizophrenia (one of) with an initially disappointing prognosis due to “innate egoism”.
Binswanger slowly raised the pennant of phenomenology in 1922, in 1944-45 (almost a quarter of a century after Ellen's death) formulated the postulates of a new doctrine (the method was proclaimed held at the first International Congress of Psychiatrists in Paris in 1950), presenting a retrospective "dasein analysis" (Daseins - Analysis) Here-Being Persons and Ellen's Worlds in over 30 petite pages in four extensive articles in Schweizer Archive fur Neurology und Psychiatry as an example of schizophrenia. Ellen is then found among five lengthy cases in Introduction to Schizophrenia.
On the difficult path of knowledge and антропологической позиции в отсутствие вторичных симптомов (бреда и галлюцинаций), блокирования мышления или стереотипий при ряде нешизофренических черт в дополнение к преимущественно аффективно отягощенной наследственности. Утверждает сквозь путаницу и расплывчатость симптоматики, прогрессирующее сужение, потерю силы и «обыденность» (Verweltlichung) психопатологически выраженного опустошения личности, типичного для шизофренического «рубца» (клиническая картина, по МКБ-10, соответствует простой форме шизофрении). Шизофрения представлена «процессом экзистенциального опустошения» с переходом во всё более зависимый (несвободный) объект, «странный для самого себя» при расщеплении согласованности опыта на альтернативы, на жесткое или … подчинении экзистенциально чуждым силам (курсив Бинсвангера [11] естественного опыта «позволить вещам быть», безмятежно пребывать среди них. «Вещи» (денотативная сфера А.М. Пятигорского) служат онтологическим основанием семиотического подхода к шизофрении в Daseins-анализе. Эллен властно распоряжается «вещами» вокруг себя, диктуя им, какими быть (помним аналитика-1), она же – жертва, игрушка и пленник контрастных страстей. В изменившемся отношении к миру и преувеличенном внимании к себе – «ядро шизофренического аутизма» (одно из коренных «А» Блейлера). Источник болезни, по Бинсвангеру, в «идиотической позиции» Эллен (идиот с греч. – не участвующий в общественных делах) на смену истощенному альтруистическому накалу.
Для Блейлера schizophrenia simplex несомненна, иностранный гость Гош замечает прогрессирующую психопатическую конституцию (психоастению, обсессивно-компульсивное расстройство), не выявив «обязательный» для шизофрении дефект интеллектуальной сферы.
Эллен примыкает, по классификации Гоша, к «психически мертвым»: без ясного воображения и чувств, желаний или решимости, возможности развивать мировоззрение или отношения к окружающей среде.
Оба исключают невроз навязчивых состояний и маниакально-депрессивный психоз (нет очерченных мантиакальных фаз).
Эллен в курсе дебатов психиатров, смиренно называет себя
«сломанным механизмом, стремящимся бесконтрольно к саморазрушению».
22 марта 1921 г. (за неделю до выписки из санатория) последняя дневниковая запись:
reflection, the continuity of clinical and therapeutic practice is obvious.
Binswanger justifies the diagnosis of schizophrenia from an anthropological standpoint in the absence of secondary symptoms (delusions and hallucinations), thought blocking, or stereotypes in a number of nonschizophrenic traits in addition to a predominantly affectively burdened heredity. He affirms through the confusion and vagueness of the symptoms, the progressive narrowing, loss of strength and "ordinary" (Verwelt-lichung) psychopathologically pronounced devastation of the personality, typical of a schizophrenic "scar" (the clinical picture, according to ICD-10, corresponds to a simple form of schizophrenia). Schizophrenia is represented by a “process of existential devastation” with a transition to an increasingly dependent (non-free) object, “strange to itself” while splitting the consistency of experience into alternatives, into rigid or ... subordination to existentially alien forces (Binswanger ’s italics) [11] of natural experience “to allow things to be", to stay serenely among them. "Things" (the denotative sphere of A.M. Pyatigorsky) serve as the ontological basis of the semiotic approach to schizophrenia in Daseins analysis. Ellen powerfully disposes of the “things” around her, dictating to them what to be (remember the first Analyst), she is also a victim, a toy and a prisoner of contrasting passions. In the changed attitude to the world and exaggerated attention to oneself – "the core of schizophrenic autism" (one of Bleuler 's root "A"). The source of the disease, according to Binswanger, in Ellen's "idiotic position" (an idiot from Greek means not participating in public affairs) to replace the exhausted altruistic intensity.
For Bleiler schizophrenia simplex is undoubted, the foreign guest Gosh notices a progressive psychopathic constitution ( psychasthenia, obsessive-compulsive disorder), without revealing a defect in the intellectual sphere that is “mandatory” for schizophrenia.
Ellen is, according to Ghosh's classification, "mentally dead": without a clear imagination and feelings, desires or determination, the ability to develop a worldview or attitude towards the environment.
Both exclude obsessive-compulsive disorder and manic-depressive psychosis (no delineated mantic phases).
Ellen is aware of the psychiatric debate, humbly refers to herself as
"a broken mechanism, striving uncontrollably towards self-destruction."
March 22, 1921 (a week before discharge from the sanatorium) the last diary
«Поскольку отныне я более не меланхолик, болезнь явилась во всей наготе… умереть необходимо».
Утро, ХХI век: Что он Гекубе, что ему Гекуба…
Цель экзистенциальной психотерапии не объяснить патологию набором категорий, но понять целостную структуру «бытия-в-мире» философским, а не строго научным образом. Художественно одаренная натура, склонная к самоанализу – находка для Бинсвангера. При детальном обсуждении внутренней картины жизни в болезни Эллен и ее неоднозначного объяснения важна квалификация ее клинической картины в свете современных психиатрических классификаций.
Осевая симптоматика Эллен с раннего возраста – аффективно-неврозоподобного уровня в виде континуальных резких (стихи - «барометр») субсиндро-мальных циклотимических колебаний со сполохами краткосрочных подъёмов и возможных (гнев, дисфория не прописаны) смешанных аффективных расстройств (определяющих неустойчивость настроения), сочетанных с тревогой и достигающих степени рапту-са. Эллен-подросток «доросла» до смешанного расстройства поведения и эмоций (F.92). Горячечные энтузиазм идеалиста, экстаз любви сменяют чувства вины, стыда, обеспокоенности, самоуничижения, разочарования. Резкие мировоззренческие перемены («жизнь делать с кого»), хаотические деятельность / учёба обусловлены аффективно изменчивым фоном и амбивалентным Я.
В юности присоединены рыхло связанные с аффектом нарушения пищевого поведения, выходящими, наряду с СП, по выраженности и клинико-социальным последствиям на переднний план и ставшие поводами обращения к психиатрам (точка завершения многолетнего периода нелеченой болезни). Повторное СП стало формальным основанием первой госпитализации и … выписки из последней в жизни клиники.
У Эллен в анамнезе не менее одного эпизода (соблюден временной критерий) клинической («большой», по DSM) депрессии с «атипичными» чертами, как при БАР («непривычная» гиперсомния, гиперфа-гия – в дебюте расстройства), открытой психосоциальному дистрессу. Видима связь с сезоном, неблагоприятными жизненными событиями, их кумуляцией.
Показательны расстройства само- и мироощущения и внутренних устремлений: депрессивные деперсонализация-дереализация «одиночества в толпе», «инакости», самоуничижения, отделения от мира.
Длительные эпидемиологические исследования
entry: “Because from now on I am no longer a melancholic, the disease has appeared in all its nakedness ... it is necessary to die.”
Morning, XXI century: What is he Hecuba, what is Hecuba to him ...
The goal of existential psychotherapy is not to explain pathology in terms of a set of categories, but to understand the whole structure of "being-in-the-world" in a philosophical rather than strictly scientific way. An artistically gifted nature prone to introspection is a godsend for Binswanger. In a detailed discussion of the internal picture of life in Ellen's illness and her ambiguous explanation, it is important to qualify her clinical picture in the light of modern psychiatric classifications.
Ellen's axial symptomatology from an early age – an affective-neurosis like level in the form of continual sharp (verses are the "barometer" here) subsyndromal cyclothymic fluctuations with flashes of short-term rises and possible (anger, dysphoria are not registered) mixed affective disorders (determining mood instability), combined with anxiety and reaching the degree of raptus. Ellen, a teenager, has "grown up" to a mixed disorder of behavior and emotions (F.92). The feverish enthusiasm of the idealist, the ecstasy of love are replaced by feelings of guilt, shame, anxiety, self-abasement, disappointment. Sharp worldview changes (“life to do with whom”), chaotic activity/study are due to an affectively changeable background and an ambivalent self.
In adolescence, loosely affect-related eating disorders are attached, which, along with SB, come forward in terms of severity and clinical and social consequences and become reasons for turning to psychiatrists (the end point of a long period of untreated illness). Repeated SB became the formal basis for the first hospitalization and ... discharge from the last clinic in her life.
Ellen has a history of at least one episode (time criterion met) of clinical (“major”, according to DSM) depression with “atypical” features, as in bipolar disorder (“unaccustomed” hypersomnia, hyperphagia – at the onset of the disorder), open to psychosocial distress. We can see the connection with the season, adverse life events, their cumulation.
Disorders of self-attitude and worldattitude and inner aspirations are indicative: depressive depersonalization – derealization of “loneliness in the crowd”, “otherness”, self-abasement, separation from the world.
Long-term epidemiological studies [classic – 12] have indicated a close rela-
[классические – 12] указали тесную взаимосвязь депрессивного расстройства и тревоги.
С 20 лет депрессивная тревога (или тревожная депрессия) Эллен канализирована в страх полноты.
Апокриф: мать грацильной по жизни Одри Хепберн, оттянув складку девичьего тельца, веско заметила, что мужчину не удержать при весе более 46 кг.
Эллен после детского неприятия стороннего мнения трепетно чувствительна к критике второстепенного окружения.
«В 18 лет заботит, что о вас думают; в 40 лет наплевать на то, что о вас думают; в 60 – знаете, что никто вообще не думает о вас». Джон Фаулз
Затем Эллен плывёт (скорее – барахтается-захлебывается) по проложенному значимыми для неё лицами руслу (резиньяция) послежизни, всё более доверяясь мужу, отдаваясь на милость профессионалам – выученная беспомощность.
Самоограничение в еде следует за случайными насмешками подружек, но зерно падает в предуготованную почву низкой жизнестойкости (стрессоустой-чивости).
Неустанную погоню за худобой психоаналитик объяснит отчаянным поиском независимости и уважающей себя идентичности.
В «голоде я король». Никос Казандзакис «Путешествуя по Испании»
Волны отчаяния и приливов радости, потаенного гнева (?) и тихого послушания [6] сопровождаются, затмевая их, импульсивным обжорствоом. На меру одиночества и отчаяния указывает истязания иезуитским постом.
Надя у Пьера Жане страдала анорексией. Её ежедневное меню (которым она сводила с ума членов семьи) включало несколько ложек бульона, желток, чайную ложку уксуса и чашку крепкого чая с лимоном. Её ночным кошмаром было растолстеть, как растолстела её мать; она хотела быть лёгкой – такой представляла свою личность. Все, имеющее отношение к еде, вызывало стыд. Никому не было дозволено видеть или слышать, как она глотает. Ненавидела своё тело и удаляла лобковые волосы: хотела остаться маленькой девочкой. Ведь «большую» меньше любят.
Переедание споро, но ненадолго избавляет от эмоционального дистресса, но влечёт мучительные стыд и вину за «слабость», неукротимое желание очередного (автоматизированного) действия для облегчения новой боли, тем замыкая порочный круг душевных и физических страданий. Эллен все труднее видеть себя-реальную, понять, что ценит, во что верит, что предпочитает в противовес экзистенциальной «потерянности». Неразумные подружки по несчастью
tionship between depressive disorder and anxiety.
From the age of 20, Ellen's depressive anxiety (or anxious depression) has been channeled into a fear of becoming fat.
Apocrypha: the mother of graceful life Audrey Hepburn, pulling back the fold of a girl's body, weightily noticed that you cannot keep a man weighing less than 46 kg.
Ellen, after a childhood rejection of third-party opinion, is tremulously sensitive to criticism of a secondary environment.
“At 18, you care what they think of you; at 40, don't give a damn about what they think of you; at 60, you know that no one thinks about you at all. John Fowles
Then Ellen floats (rather – flounders and chokes) along the afterlife channel (resignation) laid by significant persons for her , trusting her husband more and more, surrendering to the mercy of professionals – learned helplessness.
Self-restraint in food follows the occasional teasing of girlfriends, but the grain falls into the prepared soil of low vitality (stress tolerance).
The psychoanalyst will explain the relentless pursuit of thinness as a desperate search for independence and a self - respecting identity.
In "hunger I am the king". Nikos Ka-zantzakis "Travelling around Spain"
Waves of despair and tides of joy, hidden anger (?) and quiet obedience [6] are accompanied, overshadowing them, by impulsive gluttony. To measure loneliness and despair indicates the torture of the Jesuit fast.
Nadia at Pierre Janet suffered from anorexia. Her daily menu (with which she drove family members crazy) included several spoons of broth, egg yolk, a teaspoon of vinegar and a cup of strong tea with lemon. Her nightmare was to get fat, like her mother got fat; she wanted to be light – this is how she imagined her personality. Everything related to food caused shame. No one was allowed to see or hear her swallow. She hated her body and removed her pubic hair: she wanted to remain a little girl. After all, “big girls” are less loved.
Overeating quickly but briefly relieves emotional distress, but entails excruciating shame and guilt for “weakness”, an indomitable desire for another (automated) action to alleviate new pain, thereby closing the vicious circle of mental and physical suffering. Ellen finds it increasingly difficult to see herself as real, to understand what she values, what she believes in, what she prefers, as opposed to existential "lostness".
Эллен (с пониженной социальной ответственностью) в качестве дезадаптивного совладания пустились бы здесь во все тяжкие, чтобы ощутить жизнь и быть кому-то, хоть на академический час, нужной.
«Человек – существо, которое может осознавать своё существование и, следовательно, нести за него ответственность». Ролло Мей
«Политетическая» МКБ-10 использует перечень признаков (сложенный в симптомокомплекс) в отличие от феноменологического (антропологического) подхода – целостного, ориентированного на рисунок феномена в жизни больного [цит. по 13].
Хроническая опустошённость, напряжённые и нестабильные межличностные отношения (рябь смены идеализации и обожания на обесценивание, горячей веры и разочарования любимыми или терапевтами – феномен расщепления), саморазрушающее поведении в виде несуицидальных самоповреждений («самоизби-ения»), эквивалентов СП в виде рискованного поведения и уклонения от «жизнеспасающего» лечения, самолечения, голодания и переедания. Попытки контроля и избегания отрицательных эмоций приводят к самоизоляции, несуицидальным самоповреждениям и СП [14].
Эллен обуреваема надеждой в начале нового лечения, проникается очередным врачом, но рано-скоро впадает в привычное отчаяние (мужество слабых).
… тот, кто быстро пламенеет, тот охладевает вмиг! И.Кальман «Сильва»
Очевидно снижение уровня социализации при относительно высоком образовательном цензе, интеллектуальном развитии, развитой сети профессиональной и неформальной поддержки. Эллен «проваливается» меж её ячей. Долгосрочные цели в отношениях и карьере туманны. Вместе с нарушениями настроения идеализация и обесценивание могут подтачивать отношения с семьёй, друзьями и коллегами. Страстно желая близких отношений, склонна к опасным, избегающим, амбивалентным или полным страха моделям преданности, видит мир враждебным. Хронический дистресс и конфликты в романтических отношениях, снижен уровень удовлетворённости партнёром (?).
Диагноз шизофрении, ввергнувший в последний омут отчаяния Эллен, не соответствует ограничительным критериям МКБ-10, критикуемой как упрощенную «бухгалтерию симптомов».
Клиническая картина и не обязательный для диагноза симптомокинез (динамика расстройства) наиболее соответствуют следующим нозографическим единицам.
Unreasonable girlfriends in misfortune Ellen (with reduced social responsibility), as a maladaptive coping, would go all out here in order to feel life and be needed by someone, at least for an academic hour.
“Man is a being who can be aware of his existence and therefore be responsible for it.” Rollo May
"Polythetic " ICD-10 uses a list of signs (folded into a symptom complex) in contrast to the phenomenological (anthropological) approach – a holistic, pattern-oriented phenomenon in the patient's life [cit. according to 13].
Chronic emptiness, tense and unstable interpersonal relationships (ripples from idealization and adoration to devaluation, ardent faith and disappointment with loved ones or therapists – a splitting phenomenon), self-destructive behavior in the form of non-suicidal self-harm (" self -beating "), SB equivalents in the form of risky behavior and avoidance of " life-saving " treatment, selfmedication, fasting and overeating. Attempts to control and avoid negative emotions lead to self-isolation, non- suicidal self-harm, and SB [14].
Ellen is overwhelmed with hope at the beginning of a new treatment, imbued with the next doctor, but soon falls into habitual despair (courage of the weak).
... the one who quickly blazes, he cools down in an instant! I. Kalman "Silva"
Obviously, the decrease in the level of socialization w ith a relatively high educational qualification, intellectual development, and a developed network of professional and informal support. Ellen "falls through" between her cells. Long-term relationship and career goals are nebulous. Along with mood disturbances, idealization and devaluation can undermine relationships with family, friends, and colleagues. Craving close relationships, prone to dangerous, avoidant, ambivalent or fearful patterns of commitment, sees the world as hostile. Chronic distress and conflicts in romantic relationships, decreased partner satisfaction (?).
The diagnosis of schizophrenia, which plunged Ellen into the last pool of despair, does not meet the restrictive criteria of ICD-10, criticized as a simplistic "accounting for symptoms."
The clinical picture and symptomokin-esis (disorder dynamics) not mandatory for diagnosis are most consistent with the following nosographic units.
Borderline Personality Disorder (BPD) has been in the DSM-III since 1980
Пограничное расстройство личности ( ПРЛ) представлено в DSM-III с 1980 года (Эллен в могиле уже 60 лет) и в МКБ – спустя 10 лет. В МКБ-10 (F60.31) ПРЛ означает тип эмоционально неустойчи вого расстройства личности.
Диагностические критерии ПРЛ в DSM-V взамен категориального описания, разделены на следующие измерения («дименсии»), узнаваемые у Эллен:
-
1) нестабильность межличностных отношений (интенсивные, напряжённые и нестабильные с чередованием крайностей идеализации и обесценивания) при опасении одиночества;
-
2) когнитивные расстройства в виде деперсонализации / дереализации и нарушений идентичности (заметная и стойкая неустойчивость образа Я, постоянное чувство опустошённости);
-
3) аффективно-эмоциональные: переменчивый аффект с тревогой, несколько часов, а не дней;
-
4) поведенческая дисрегуляция (импульсивность как ключевая черта в виде самоповреждающего поведения, в том числе в виде переедания). Стрессогенные параноидные идеи, неконтролируемый гнев, вербальная и / или физическая агрессия (особо к близким) у интеллигентнейшей Эллен не отмечены или опущены (вымараны) повествователями.
В диагностике личностных расстройств в МКБ -11 тот же подход. Основное внимание – обобщённой оценке снижения личностно-социального и трудового функционирования (осевой признак DSM), когнитивного и эмоционального опыта, риску причинения вреда себе и окружающим. Диагноз определён характерными чертами домена как негативная аффективность или ананкастия. Ранжир тяжести клинико - функциональных нарушений объективизирует выбор, условия и арсенал (интенсивность) лечения, отчасти – прогноз ПРЛ.
История болезни Эллен выходит за размытые границы ПРЛ. Клиническая картина (ведущий симптомо-комплекс) Эллен изменчиво, и в разные месяцы (дни) соответствует разным диагнозам при оценке «здесь и сейчас».
Истинная коморбидность – две сосуществующих в одном теле (разделённой душе Эллен) болезни, не связанные друг с другом. В повседневной практике нозографические единицы, особенно когда одна из них – депрессия, усугубляют друг друга.
Коморбидные психические расстройства у большинства (до 85%) больных ПРЛ [15] представлены большей частью депрессивными (80-95%) и/или тревожными (90%) с рыхлой связью с расстройствами пищевого поведения (55%).
Согласно категориальному подходу, Эллен с ви-
(Ellen has been in the grave for 60 years) and in the ICD 10 years later. In ICD-10 ( F 60.31) BPD means a type of emotionally unstable personality disorder .
The diagnostic criteria for BPD in the DSM-V, instead of a categorical description, are divided into the following dimensions ("dimensions"), recognizable in Ellen:
1) instability of interpersonal relationships (intense, tense and unstable with alternating extremes of idealization and devaluation) with fear of loneliness; 2) cognitive disorders in the form of depersonaliza-tion/derealization and identity disorders (a noticeable and persistent instability of the self-image, a constant feeling of emptiness ); 3) affective-emotional: changeable affect with anxiety, several hours, not days; 4) behavioral dysregulation (impulsivity as a key feature in the form self-injurious behavior, including overeating). Stressful paranoid ideas, uncontrollable anger, verbal and / or physical aggression (especially towards relatives) in the most intelligent Ellen are not noted or omitted (blacked out) by the narrators.
In the diagnosis of personality disorders in the ICD-11, the same approach. The focus is on a generalized assessment of the decline in personal-social and work functioning (DSM core feature), cognitive and emotional experience, the risk of harm to oneself and others. The diagnosis is defined by the characteristic features of the domain as negative affectivity or anancastia. The ranking of the severity of clinical and functional disorders objectifies the choice, conditions and arsenal (intensity) of treatment, in part – the prognosis of BPD.
Ellen's medical history goes beyond the blurred boundaries of BPD. The clinical picture (the leading symptom complex) of Ellen is variable, and in different months (days) corresponds to different diagnoses when assessed "here and now".
True comorbidity is two diseases coexisting in the same body (Ellen's divided soul) that are not related to each other. In everyday practice, nosographic units, especially when one of them is depression, exacerbate each other.
Comorbid mental disorders in the majority (up to 85%) of patients with BPD [15] are mostly depressive (80-95%) and/or anxious (90%) with a loose connection with eating disorders ( 55%).
According to the categorical approach, Ellen with vital depression, ideas of selfabasement and an obsessive (overvalued) fear of fullness appears to be suffering from тальной подавленностью, идеями самоуничижения и навязчивым (сверхценным) страхом полноты представляется страдающей депрессией и обсессивнокомпульсивным расстройством с фасадными нарушениями пищевого поведения. Личностному расстройству отведена отдельная ось DSM.
После перевода на английский Эллен интернационально известна как классический пример нервной анорексии, подтипа переедания-очищения (bingeing-purging). В МКБ различные категории расстройств пищевого поведения взаимоисключающие, поэтому их нельзя диагностировать одновременно.
Нервная анорексия (F50.0 по МКБ-10) означает преднамеренное снижение веса, чаще девочками-подростками и молодыми женщинами, нередко скрывающими переживания и причины особого поведения (Эллен открылась не очень зоркому мужу на третий год брака). Для достоверного диагноза достаточно признаков: а) вес ≥ 15% менее ожидаемого (индекс массы не известен); б) потеря веса вызвана Эллен за счёт избегания пищи, которая «полнит», вызывания рвоты, приёма слабительных, чрезмерных физических нагрузок, использование средств, подавляющих аппетит (гормон щитовидной железы); в) навязчивый и/или сверхценный страх ожирения ( страх ожирения включен и в критерий искажения образа тела): допустим лишь низкий вес; г) аменорея (согласно «весовому порогу менструации»), снижение функции тиреоидного гормона («микседема»).
Старообразность и полнота – образ бывшей хорошенькой курсистки Н. Крупской после ножа Кохера.
Среди критериев нервной анорексии МКБ не обязательна гиперактивность, характерная особенность Эллен (при возможном смешанном аффективном состоянии). Аппетит может быть сохранен и повышен, особо на ранних этапах расстройства. Снижение аппетита / похудание отчасти объясняет депрессия. Эллен совершала виртуальные пиршества, собирая кулинарную книгу и потчивая гостей. В анамнезе эпизоды анорексии с ремиссиями по нескольких месяцев.
Нервная булимия (F50.2) . Для достоверного диагноза у Эллен следующие признаки: а) постоянная озабоченность едой и непреодолимое периодическое переедание; б) противодействие «полноте» посредством повторной рвоты (объясняющей мышечную слабость и «дрожь» не только тревогой), передозировкой слабительных, периодами голодания, подавляющих аппетит тиреоидных гормонов; в) страх ожирения. Эллен устанавливает предел веса, намного ниже оптимального.
depression and obsessive-compulsive disorder with facade eating disorders. Personality disorder is assigned a separate DSM axis.
After being translated into English, Ellen is internationally known as a classic example of anorexia nervosa, a subtype of bingeing – purging. In the ICD, the different categories of eating disorders are mutually exclusive, so they cannot be diagnosed at the same time.
Anorexia nervosa (F50.0 according to ICD-10) means deliberate weight loss, more often by teenage girls and young women, often hiding experiences and reasons for special behavior (Ellen opened up to her not very vigilant husband in the third year of marriage). For a reliable diagnosis, the following signs are sufficient: a) weight ≥ 15% less than expected (mass index not known); b) weight loss caused by Ellen by avoiding fattening foods, inducing vomiting, taking laxatives, excessive exercise, use of appetite suppressants (thyroid hormone); c) obsessive and/or overvalued fear of obesity ( the fear of obesity is also included in the criterion of distortion of body image ): only low weight is acceptable; d) amenorrhea (according to the "weight threshold of menstruation"), decreased function of thyroid hormone ("myxedema").
Old-fashionedness and fullness – the image of the former pretty student N. Krupskaya after the Kocher knife.
Among the criteria for anorexia nervosa, the ICD does not necessarily include hyperactivity, a characteristic feature of Ellen (with a possible mixed affective state). Appetite may be preserved and increased, especially in the early stages of the disorder. Decreased appetite/weight loss partly explains the depression. Ellen made virtual feasts, collecting a cookbook and serving guests. History of episodes of anorexia with remissions for several months.
Bulimia nervosa (F50.2) For a reliable diagnosis, Ellen has the following signs: a) constant preoccupation with food and irresistible occasional overeating; b) counteracting "fullness" through repeated vomiting (explaining muscle weakness and "trembling" not only with anxiety), overdose of laxatives, periods of fasting, appetitesuppressing thyroid hormones; c) fear of obesity. Ellen sets a weight limit, well below the optimum.
Let's imagine bulimia as a stage of anorexia with fear of getting fat, and not vice versa. Anorexia/bulimia should be distinguished from Ellen's depressive disorder. However, chronologically, depression pre-
Булимию представим этапом анорексии со страхом растолстеть, а не наоборот. Анорексию / булимию следует отличать от депрессивного расстройства Эллен. Однако хронологически депрессия предшествовала анорексии, если не фиксироваться на психоаналитических маркерах. «Тучность» вследствие сицилианского переедания (маска депрессии?) стала мотивацией к ограничению еды, затем к тревоге и «депрессии диеты». Фиксация на еде или на воздержании от неё привела к депрессии.
В клинической картине преобладали симптомы анорексии. Но Эллен, как большинство пациентов с симптоматикой, связанной с приёмом пищи, не соответствуют критериям отдельного расстройства и классифицируется по остаточным категориям «другие» или «не указано иное». Подтипы рестриктивного типа и периодической «чистки организма» у Эллен, видимо, указывают этапы развития одного расстройства. Во избежание повторных изменений диагноза, предложено анорексию с перееданием и чисткой организма классифицировать в МКБ-11 как комбинированное расстройство пищевого поведения , включающего нервную анорексию, подтип перееданияи и случаи, когда аноректическая и булимическая симптоматика проявляются последовательно. Периоды голодания, жёсткого ограничения пищи Эллен чередуются с эпизодами импульсивного обжорства. Распространённое проявление – пищевой «запой», неконтролируемый приступ потребления большого количества еды за короткий промежуток времени. Эллен не выбирала продукты, не наслаждалась вкусом и не регулировала объём съедаемого в одиночестве. После эксцесса развивались чувство вины и ненависти к себе.
Депрессия, самоубийство часто оказывались результатом неправильной диеты. Чарльз Буковски
СП – ключевой диагностический критерий ПРЛ в DSM-V, но, по сути, наднозологический феномен.
В рубрике МКБ-10 «Преднамеренное самоповре-ждение» (X60-X84) включены преднамеренное отравление лекарственными средствами и самоубийство (попытка).
Каждый десятый пациент совершает суицид [16], наибольший риск суицидов психически больных женщин – приходится на ПРЛ [17]. Однако по гендерному парадоксу, риск суицида женщин вдвое ниже при их преобладании в клинических выборках [16].
Эллен с семейной историей суицида, мучительными симптомами диссоциации, аффективной лабильности, сопутствующей депрессии, эпизодом (единичным?) несуицидального самоповреждения (как у
ceded anorexia, unless fixed on psychoanalytic markers. "Obesity" due to Sicilian overeating (a mask for depression?) became the motivation for food restriction, then anxiety and "diet depression". A fixation on food or abstaining from it led to depression.
The clinical picture was dominated by symptoms of anorexia. But Ellen, like most patients with food-related symptoms, does not meet the criteria for a single disorder and is classified in the residual "other" or "not otherwise specified" categories. Ellen's restrictive type and intermittent "cleansing" subtypes seem to indicate stages in the development of a single disorder. In order to avoid repeated changes in the diagnosis, it is proposed that anorexia with binge eating and purging be classified in the ICD-11 as a combined eating disorder , including anorexia nervosa, a subtype of binge eating , and cases where anorexia and bulimic symptoms appear sequentially. Periods of starvation, severe food restriction Ellen alternate with episodes of impulsive gluttony. A common manifestation is food binge, an uncontrolled bout of eating large amounts of food in a short period of time. Ellen didn't choose foods, enjoy taste, or regulate the amount she ate alone. After the excess, feelings of guilt and self-hatred developed.
Depression, suicide were often the result of an improper diet. Charles Bukowski
SB is a key diagnostic criterion for BPD in DSM-V, but in fact supra-nosological phenomenon.
The ICD-10 heading "Intentional selfharm" (X60-X84) includes intentional drug poisoning and suicide (attempt).
Every tenth patient commits suicide [16], the highest risk of suicide among mentally ill women is in BPD [17]. However, according to the gender paradox, the risk of suicide in women is two times lower with their predominance in clinical samples [16].
Ellen with a family history of suicide, distressing symptoms of dissociation, affective lability, concomitant depression, an episode (single?) of non- suicidal self-harm (as in 80% of patients) in response to negative emotions, repeated "true" attempts (interrupted by suicides) is in the high-risk group even in a heterogeneous group of BPDs.
Somatic disorders are a consequence (not necessarily causal) of eating disorders, but any clinical mental disorder is a systemic disorder, and their combination cumulates. somato-neurological consequences. It is possible that a somatotropic drug, a means of repeated self- heating, served the same
80% больных) в ответ на отрицательные эмоции, повторными «истинными» попытками (прерванными суицидами) входит в группу высокого риска даже в разнородной группе ПРЛ.
Соматические нарушения – следствие (не обязательно – каузальное) нарушений пищевого поведения, но любое клиническое психическое нарушение – суть системное расстройство, а их сочетание кумулируют сомато-неврологические последствия. Возможно, соматотропный препарат, средство повторных само-отапвлений, служил этим же целям и/или назначен для купирования медицинских последствий голодания / переедания.
Сочетание ПРЛ с депрессивной и иной симптоматикой (включая СП) требует нескольких диагностических кодов.
Бремя Эллен и её окружения. ПРЛ как хроническое психическое расстройство влечёт значительные нарушения и страдания [18]. Больные составляют до ½ ресурсоемких психиатрических пациентов. Сегодня Эллен была бы замечена среди 5% пациентов первичной медицинской помощи, 10% амбулаторных и 20% стационарных психиатрических [17]. Нарушения пищевого поведения, достигая клинического уровня со страхом полноты сверхценного порядка, требуют активного лечения, значительно затрудняют повседневное (бытовое) и социальное функционирование. Неизвестна реакция на болезнь дочери семьи (при опыте психиатрической госпитализации младшего сына). Отдельной главы заслуживает самоотверженный (со-зависимый?) Карл, доктор права (но не все доктора оказались правы. Е.Б. ), его послежизнь без Эллен.
Резервы помощи.
Пока есть болезнь, будет не только страх, но и надежда.
Сэмюэль Батлер
При равной половой распространённости ПРЛ в течение жизни (6%), женщины чаще обращаются за лечением (соотношение женщин и мужчин в клинических выборках 3:1). Увы, приверженность лечению больных ПРЛ низкая («надоедает», «разочарованы»).
Успешная личностно (клиент)-центрированная психотерапия в сочетании с психоанализом, поведенческой терапией и физиотерапией (не повредит) придала бы упругость (стрессоустойчивость) структуре «Я», «открыла» непредвзято опыт жизни при неизбежной боли бытия и открытом приятии сложных и противоречивых чувств [4]. Воскресшая Эллен не обречена на одиночество, ладит с собой; её тело и чувства представляют дружественные и конструктивные части её самой. При освобождении из «стеклянного
purposes and/or was prescribed to stop the medical consequences of starvation / overeating.
The combination of BPD with depressive and other symptoms (including SB) requires several diagnostic codes.
The burden of Ellen and her entourage. BPD as a chronic mental disorder entails significant impairment and suffering [18]. Patients account for up to ½ of resourceintensive psychiatric patients. Today, Ellen would be seen among 5% of primary care patients, 10% of outpatients, and 20% of psychiatric inpatients [17]. Eating disorders, reaching the clinical level with the fear of completeness of an overvalued order, require active treatment, significantly complicate everyday (domestic) and social functioning. The reaction to the illness of the daughter of the family is unknown (with the experience of psychiatric hospitalization of the youngest son). A separate chapter deserves the selfless (co-dependent?) Carl, Doctor of Law (but not all doctors were right. EB ), his afterlife without Ellen.
Aid Reserves.
As long as there is illness, there will be not only fear, but also hope. Samuel Butler
With an equal lifetime sexual prevalence of BPD (6%), women are more likely to seek treatment (female to male ratio in clinical samples 3:1). Alas, the adherence to treatment of patients with BPD is low (“annoyed”, “disappointed”).
Successful person (client)-centered psychotherapy combined with psychoanalysis, behavioral therapy and physiotherapy (does not hurt) would give elasticity (stress resistance) to the structure of the "I", "discovered" an unbiased experience of life with the inevitable pain of being and open acceptance of complex and conflicting feelings [4]. The resurrected Ellen is not doomed to loneliness, gets along with herself; her body and senses represent friendly and constructive parts of herself. When released from the "glass ball" (remember "Under a glass jar" by Sylvia Plath), Ellen will gain guidance and support for life, open relationships. The guarantor of change at a deep personal level – perhaps physiological, irreversible – is the union of equal, trusting each other client and therapist.
The first line of evidence-based effective treatment is psychotherapy: dialectical behavioral or psychodynamic approaches (as treatment based on mentalization) in individual or group formats for 12-18 months. It is possible to reduce the chronic risk of SB шара» (помним «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат) Эллен обретет ориентиры и опору жизни, открытых отношений. Гарантом изменения на глубоком личностном уровне – возможно, физиологического, необратимого, становится союз равноправных, доверяющих друг другу клиента и терапевта.
Первая линия научно доказательного эффективного лечения – психотерапия: диалектическая поведенческая или психодинамические подходы (как лечение, основанное на ментализации) в индивидуальном или групповом форматах 12-18 месяцев. Возможно снижение хронического риска СП [19]. Сфокусированная на переносе терапия использует связь пациента и терапевта (любая модальность работает, если хорошо друг с другом) для развития понимания межличностной динамики. Психообразование включило бы информирование Эллен и её близких о ПРЛ, его объективных и субъективных проявлениях, ресурсах помощи.
Психофармакотерапия как дополнительное относительно краткосрочное (кризисное) лечение ограниченно эффективна в отношении ядерных симптомов-мишеней как аффективной неустойчивости, импульсивной (ауто)агрессии, то есть подлежащей психопатологии [20]. Тревогу Эллен сложно контролировать медикаментозно: возможно, она обозначает страх одиночества. Избегая нерациональной полифармации, Эллен показан нормотимик (вальпроаты). Трофотроп-ный эффект препарата полезен при риске отказа от лечения на ранних этапах в связи с возможным повышением веса или иных нежелательных действий, опережающих собственно эффект. В связи с риском намеренной и случайной передозировки – препарат выдаст дважды в день после еды скрупулёзный Карл. Вместе вели бы дневник наблюдений с мониторингом СП и (как же без) веса.
ПРЛ, как большинство психических расстройств, есть амбулаторная болезнь при контроле риска СП. Кризисные стационирования более, чем на неделю не показаны во избежание госпитализма (у Эллен – вне-больничный госпитализм, по И.Я. Гуровичу). ПРЛ – одно из самых сложных психических расстройств, лучше всего справляется полипрофессиональная бригада, включающая психиатров, клинических психологов и фармакологов, медсестер и социальных работников. Возможно привлечение обученных добровольцев с опытом преодоления дистресса болезни (болезней) в группе самопомощи. И сегодня это – не химера Нью Васюков повседневной практики.
Более гибкими, в свете концепции процесса (а не
[19]. Transference-focused therapy uses the patient-therapist relationship (either modality works as long as it works well with each other) to develop an understanding of interpersonal dynamics. Psychoeducation would include informing Ellen and her loved ones about BPD, its objective and subjective manifestations, and resources for help.
Psychopharmacotherapy as an additional relatively short-term (crisis) treatment is limitedly effective in relation to nuclear target symptoms as affective instability, impulsive (auto) aggression, that is, subject to psychopathology [20]. Ellen's anxiety is difficult to control with medication: it may indicate a fear of being alone. Avoiding irrational polypharmacy, Ellen is shown normotimic (valproate). The trophotropic effect of the drug is useful at the risk of refusal of treatment at an early stage due to possible weight gain or other undesirable effects ahead of the actual effect. Due to the risk of intentional and accidental overdose, the drug will be given out twice a day after meals by scrupulous Karl. Together they would keep a diary of observations with monitoring of SB and (as without) weight.
BPD, like most psychiatric disorders, is an outpatient disease when the risk of SB is controlled. Crisis hospitalizations for more than a week are not indicated in order to avoid hospitalism (Ellen has community hospitalism, according to I.Ya. Gurovich). BPD is one of the most complex mental disorders and is best managed by a multiprofessional team including psychiatrists, clinical psychologists and pharmacologists, nurses and social workers. It is possible to involve trained volunteers with experience in coping with the distress of illness(es) in a self-help group. And today it is not a chimera of New Vasyukov's everyday practice.
More flexible, in the light of the concept of the process (and not the starting point) of personal and social recovery [21], is the result of treatment – not necessarily a “complete cure”, here and immediately, but a long process with temporary retreats and forward movement.
Ellen's prediction: fight and seek.
We remained ourselves; The hearts of heroes Are worn out by years and fate, But the will inexorably calls us To fight and seek, to find and not to give up.
A. Tennyson
Ellen balanced between life and death, glimmering hope and despair for 13 years.
As long as there is life, there is hope. Cicero исходной точки) личностно-социального восстановления [21], видится результат лечения – не обязательно «полное излечение», здесь и сразу, но длительный процесс с временными отступлениями и движением вперед.
Прогноз Эллен: бороться и искать.
Собой остались мы; сердца героев Изношены годами и судьбой, Но воля непреклонно нас зовёт Бороться и искать, найти и не сдаваться.
А. Теннисон
Эллен 13 лет балансировала между жизнью и смертью, теплящейся надеждой и отчаянием.
Пока есть жизнь, есть и надежда. Цицерон
Диагностические прения завершены беспристрастным приговором: неизлечимо больная шизофренией, отягощенная «психопатическую конституцией», подлежит плановой выписке, влекущей фаталистический суицид.
«Всю правду» в резкой форме могут перенести немногие, особо больные. Самый тяжелый прогноз можно дать в такой форме, что при полной серьезности суждения и правде останется маленький след надежды, и этого достаточно для больного. Такой подход не гуманнее и умнее, так как мы сами можем ошибиться. … никогда не обнаруживать своей неуверенности и нервной спешки, а распространять спокойствие и уверенность. … никогда не вызывать болезни неосторожными приговорами». Э. Кречмер «Медицинская психология»
16-летний катамнез стационарных больных ПРЛ [22] показал 99% ремиссии, причём более трети (35%) достигли через два года. По достижении ремиссии у 75% пациентов она сохранялась более восьми лет.
Прогноз улучшен при биопсихосоциальном и духовном подходе посредством полипрофессионального (бригадного) взаимодействия. Комплексное лечение позволяет выйти из активного периода болезни с наименьшими социальными потерями. К сожалению, симптоматическое послабление само по себе не улучшает межличностные отношения. Немало аргументов в пользу предопределённости болезни (наследственная отягощенность аффективными расстройствами и СП, раннее начало недуга). Ухудшает прогноз – ко-морбидность, склонность к СП, возраст старше 25 лет (сформировалась – не дозрела в болезни). Ряд фактов обнадеживают: отсутствие в анамнезе видимых детских травм (насилия), злоупотребления психоактивными веществами, высокая исходная работоспособность (в школе, на работе). Всегда есть шанс, выбор, свобода человека по отношению к физиологическому бытию [23].
The diagnostic debate ended with an impartial verdict: terminally ill with schizophrenia, weighed down by a "psychopathic constitution", is subject to a planned discharge, entailing a fatalistic suicide.
"All the truth" in a sharp form can be transferred by a few, especially the sick. The most difficult prognosis can be given in such a form that, with the full seriousness of the judgment and the truth, there will be a small trace of hope, and this is enough for the patient. This approach is not more humane and smarter, since we ourselves can make mistakes. … never reveal your insecurities and nervous haste, but spread calmness and confidence.... never cause illness by careless sentences. E. Kretschmer "Medical Psychology"
A 16-year follow-up of inpatients with BPD [22] showed 99% remission, with more than a third (35%) achieved after two years. Upon reaching remission in 75% of patients, it persisted for more than eight years.
Forecast improved at biopsychosocial and spiritual approach through multi -professional (team) interaction. Comprehensive treatment allows you to get out of the active period of the disease with the least social losses. Unfortunately, symptomatic relief alone does not improve interpersonal relationships. There are many arguments in favor of the predestination of the disease (hereditary burden of affective disorders and joint ventures, early onset of the disease). Worsens the prognosis - comorbidity, propensity to SB, age over 25 years (formed – not ripe in the disease). A number of facts are encouraging: no history of visible childhood trauma (violence), substance abuse, high initial performance (at school, at work). There is always a chance, a choice, a person's freedom in relation to physiological being [23].
The triumph and mystery of Ellen.
Ellen failed to become a staid, fertile matron or a subversive of vicious social foundations. It was not given to her to mature and grow old wisely/quietly, but defeat from personal “demons” was destined. However, they do not triumph – her locally revered name, "a futile death" evokes "bewilderment, sadness and anger" in the empathetic reader [4] with cautious optimism: professionals have learned something since that historically recent time and do not consider (the best) themselves to be perfect and masters of other people's destinies.
The difference between a psychiatrist and God is that God does not consider himself a psychiatrist.
Триумф и тайна Эллен.
Эллен не удалось сделаться степенной фертильной матроной или ниспровергателем порочных социальных основ. Или, как «раненый целитель», лидером инициативной группы Анонимных Аноректиков. Ей не дано было вызреть и мудро / тихо состариться, но суждено поражение от личных «демонов». Однако им не торжествовать – её местночтимое имя, «напрасная смерть» вызывает у сопереживающего читателя «недоумение, печаль и гнев» [4] при осторожном оптимизме: чему-то профессионалы научились с той исторически недавней поры и не полагают (лучшие) себя совершенными и хозяевами чужих судеб.
Отличае психиатра от Бога – Бог не считает себя психиатром.
Объемная (3 D) картина жизни в болезни и смерти Эллен представляет коллаж из многолетних личных дневников и писем (обильно цитированых благодарным Бинсвангером), стихов и неформализованной меддокументации. Самоописания (внутренняя картина болезни) образны и полезны пациенту и доктору. Так, показательны стереотипные фразкологические повторы, свидетельства суицидоопасной тревожно - депрессивной руминации, зыби в омутах замершего времени Эллен.
Разнородные документы насыщают неброскую («без марсиан») историю «женской болезни» (гендерный аспект психиатрии) цветами индивидуальности. Поучительность истории угасшей звездочки (вселенной?) – в скрещении судеб, долгом эхе персоналий, известных по портретам в актовом зале и учебнике, живых картинах медицинской науки и избранной практики (богатые тоже плачут) межвоенной золотой поры.
Эллен стала пробным камнем великолепной троицы Крепелин – Е. Блейлер – Бинсвангер (хронологический список соответствует гамбургскому счёту) с примкнувшим к ним Гошем.
Бинсвангер неспешно поднял вымпел феноменологии в 1922 г. (не в годовщину ли смерти Эллен), сформулировал постулаты нового учения спустя 20 лет и провозгласил метод состоявшимся ещё через 10, на первом Международном конгрессе психиатров в Париже. На нелёгком пути познания и размышлений очевидна преемственность клинической и терапевтической практики.
Запутанная история стала интернациональным достоянием после перевода на английский (1958) в знаменитой монографии Existence [2], изложении экзистенциалистского подхода в психиатрии. Осенью того же года на симпозиуме конференции новорож-
A three- dimensional (3D) picture of Ellen's life in illness and death is a collage of many years of personal diaries and letters (quoted abundantly by the grateful Binswanger), poems and non-formalized medical documentation. Self-descriptions (internal picture of the disease) are figurative and useful to the patient and the doctor. So, stereotyped repetitions are typical, evidence of suicidal anxious verbigeration and/or “mental chewing gum” (rumination, according to A. Beck), swell in the whirlpools of Ellen's frozen time.
Diverse documents saturate the low-key ("without Martians") history of "women's disease" (the gender aspect of psychiatry) with the colors of individuality. The instructiveness of the history of the extinct star (the universe?) is in the intersection of destinies, the long echo of personalities known from the portraits in the assembly hall and the textbook, living pictures of medical science and chosen practice (the rich also cry) of the interwar golden age.
Ellen became the touchstone of the magnificent trinity Kraepelin – E. Bleuler – Binswanger (the chronological list corresponds to the Hamburg account) with Gosh who joined them/
Binswanger slowly raised the pennant of phenomenology in 1922 (whether on the anniversary of Ellen's death), formulated the postulates of a new doctrine 20 years later, and proclaimed the method valid 10 years later, at the first International Congress of Psychiatrists in Paris. On the difficult path of knowledge and reflection, the continuity of clinical and therapeutic practice is obvious.
The tangled story became international property after being translated into English (1958) in the famous monograph Existence [2], an exposition of the existentialist approach to psychiatry. In the fall of that year, at the Newborn Conference Symposium of the American Academy of Psychotherapists, three psychiatrists, two psychologists, an anthropologist, and a social historian brainstormed together in a one-day interprofessional team.
Chance abstracts and distances itself from Ellen's life and destiny; was included in the classical anthology [2], in the historical R. May and K. Rogers [1] commented on it in the context, and everywhere else.
A number of aspects are under scrutiny: the role of the family [24], the “erroneous” diagnosis and the associated therapeutic nihilism (refusal of treatment). Carl Rogers [4] noticed Ellen's loneliness and her дённой Американской академии психотерапевтов сошлись в мозговом штурме три психиатра, два психолога, антрополог и социальный историк, составив однодневную межпрофессиональную бригаду.
«Случай» абстрагируется и дистанцируется от жизни и судьбы Эллен; вошел в состав классической антологии [2], в историческом контексте его комментировали Р. Мэй и К. Роджерс [1] и далее везде.
Под пристальным вниманием ряд аспектов: роль семьи [24], «ошибочный» диагноз и связанный с ним терапевтический нигилизм (отказ от лечения). Карл Роджерс [4] заметил одиночество Эллен и её статус объекта беспомощных терапевтов. Автобиографические сочинения A. Гоша (1934), новые документы из архива Bellevue и переписка мужа с Бинсвангером [25] допускают содействие мужа в самоубийстве Эллен. Возможно, самоубийство – суть ассистированное [25], «разрешённое» [26] убийство, обеспеченное выданным профессионалом орудием смерти и содействие известного сострадательного лица. Cуицид Эллен объяснен в русле психоаналитической концепции психического убийства (убийства души) и мазохизма [24] с допущением бессознательной враждебности (в виде самонаказания-саморазрушения) Эллен к отцу и мужу и vice versa.
Аргументы в поддержку ассистированной смерти включают уважение автономии пациента, равное отношение к неизлечимо больным, сострадание, личную свободу, прозрачность и этику ответственности. Когда смерть неизбежна (полгода или меньше), пациенты могут выбрать ассистированную смерть в качестве медицинского варианта, чтобы сократить то, что человек воспринимает как невыносимый процесс наступления смерти. Википедия
Критики («каждый мнит себя стратегом…»), любители, как и «подсудимый», ретроспективного анализа, ослепление Бинсвангера «психозом» («неизлечимая» шизофрения) выводят из неловкой попытки ле-чащего-нелечащего врача совладать с грузом вины, отстраниться от ответственности за судьбу любимой пациентки и, заодно, … сына-суицидента. «Неудача» Бинсвангера оправдаться («отобъяснение» М. Мамардашвили) / оправдать смерть Эллен наводит на мысль о невозможности нарратива контролировать и решать проблему суицида.
«Словно в истории орудовала компания двоечников». К/ф «Доживем до понедельника», СССР, 1968.
Вторят Хайдеггеру, обесценивая экзистенциальный подход в целом:
«неправильно, насколько возможно».
Однако.
Феноменологическая психиатрия показала «безу-
status as an object of helpless therapists. Autobiographical writings A. Gosh (1934), new documents from the Bellevue archive, and the husband's correspondence with Binswanger [25] admit her husband's assistance in Ellen's suicide. Perhaps suicide is an assisted [25], "permitted" [26] murder, provided by a death instrument issued by a professional and the assistance of a well-known compassionate person. Ellen 's suicide is explained in line with the psychoanalytic concept of psychic murder (murder of the soul) and masochism [24] with the assumption of Ellen's unconscious hostility (in the form of self-punishment-self-destruction) to her father and husband and vice versa.
Arguments in support of assisted death include respect for patient autonomy, equal treatment of the terminally ill, compassion, personal freedom, transparency, and an ethic of accountability. When death is imminent (half a year or less), patients may choose assisted death as a medical option to shorten what the individual perceives as the unbearable process of death. Wikipedia
Critics (“everyone thinks he is a strategist…”), lovers, like the “defendant”, of retrospective analysis, Binswanger ’s blinding by “psychosis” (“incurable” schizophrenia) are taken out of the awkward attempt of the treating -non- treating doctor to cope with the burden of guilt, to step back from responsibility for the fate of a beloved patient and, at the same time, ... a suicidal son. Binswanger 's "failure" to justify himself ("re-explanation " by M. Mamardashvili)/to justify Ellen's death suggests the impossibility of the narrative to control and solve the problem of suicide.
“As if in history, a company of losers was operating.” Film "Let’s Live Till Monday", USSR, 1968.
They echo Heidegger, devaluing the existential approach as a whole:
"Wrong, as possible." However.
Phenomenological psychiatry showed "madness" not only as a regression, but as a special essence, having seen, according to M. Foucault, the play of social institutions and the expansion of the limits of scientific methods.
It is impossible to understand psychological disorders from the outside, on the basis of positivist determinism, or to reconstruct them with a combination of concepts outside of the disease as lived and experienced. J-P. Sartre, 1964.
Binswanger reflects philosophically мие» не только регрессией, но особой сущностью, разглядев, по М. Фуко, игру общественных институций и расширение пределов научных методов.
Невозможно понять психологические расстройства извне, на основе позитивистского детерминизма, или реконструировать их с помощью комбинации концепций за пределами болезни как прожитые и пережитые. Ж-П. Сартр, 1964.
Бинсвангер философически размышляет о болезни, бытии человека в больном и больного в человеке в отношении к бытию-в-мире.
Рассмотрение философом вопроса подобно лечению болезни. Людвиг Витгенштейн. «Философские исследования» (1953).
Выделяет априорные или трансцендентальные формы человеческого разума, формирующие опыт (Эллен).
«Экзистенциальный анализ… не постулирует устойчивость структуры внутренней жизни-истории, а скорее исследует предшествующую или лежащую в её основе фундаментальную трансцендентальную структуру, a priori всех психических структур как само условие возможности разрушения психической структуры».
Бинсвангер новаторски интонирует врачебную практику.
«Борьба с психоанализом как наукой и отраслью психиатрии проходит через всю мою жизнь … всё мое научное развитие, как в его положительных, так и в отрицательных аспектах, разыгрывалось на основе философской и научной полемики с психоанализом...» [цит по 27].
И резюмирует:
«Центральным понятием психоанализа служит абсолютно не понятие болезни, а – полного исцеления» (restitutio ad integrum) [цит. по 27].
«Экзистенциальный гештальт по имени Эллен» приближает понимание её существования во всей полноте и обнаженности: не в отказе от активной терапии, а в новом видении болезни как личностного и духовного опыта, вписанного в современные концепции психиатрической помощи, ориеннтированной, не на изоляцию и попечение, но – на восстановление [21].
Загадка Эллен как зеркала психиатрии первой четверти ХХ века отражает актуальные проблемы и риски, миссию профессионала в понимании (цель экзистенциального анализа Бинсвангера), классификации (вклад Крепелина и Блейлера) или исцелении (психоанализ Фрейда). Совместимы ли эти цели.
Непреходящ интерес научного сообщества и почтенной пресыщенной публики к энигме «Кто убил Эллен Уест?». Анонсирована увлекательная история провалов лечения, переплетенных с контрпереносами
on illness, the being of man in the sick and the sick in man in relation to being-in-the-world.
The consideration of a question by a philosopher is like the treatment of a disease. Ludwig Wittgenstein. "Philosophical Investigations" (1953).
A priori or transcendental forms of the human mind that shape experience are highlighted (Ellen).
"Existential analysis ... does not postulate the stability of the structure of inner lifehistory, but rather investigates the antecedent or underlying fundamental transcendental structure, a priori of all mental structures, as the very condition for the possibility of the destruction of mental structure."
Binswanger innovatively intones the practice of medicine.
“The fight against psychoanalysis as a science and branch of psychiatry goes through my whole life ... all my scientific development, both in its positive and negative aspects, played out on the basis of philosophical and scientific polemics with psychoanalysis...” [cited at 27].
And he sums up:
“The central concept of psychoanalysis is absolutely not the concept of illness, but of complete healing” (restitutio ad integrum) [op. according to 27].
"An Existential Gestalt named Ellen "brings closer the understanding of her existence in its entirety and nakedness: not in the rejection of active therapy, but in a new vision of the disease as a personal and spiritual experience, inscribed in modern concepts of psychiatric care, oriented, not on isolation and care, but for recovery [21].
Ellen's enigma as a mirror of psychiatry in the first quarter of the 20th century reflects current problems and risks, the mission of a professional in understanding (the goal of Binswanger 's existential analysis), classification (the contribution of Kraepelin and Bleuler) or healing (Freud's psychoanalysis). Are these goals compatible?
The enduring interest of the scientific community and the venerable jaded public in the enigma "Who killed Ellen West?". A fascinating story of treatment failures intertwined with psychoanalysts' countertransferences, a dark intrigue of "device" by a doctor friend, coupled with Ellen's beloved suicide husband, is announced.
And looping the text:
I cherish your heavy memory
– Wild, teddy bear, Minion,
– But the mill wheels hibernate in the snow, психоаналитиков, мрачная интрига «устройства» доктором-другом вкупе с любимым мужем самоубийства Эллен.
И закольцовывая текст:
Я тяжкую память твою берегу
– Дичок, медвежонок, Миньона,
– Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.
О. Мандельштам
Ограничения метатекста в изначальной субъективности текстов и комментариев. Тексты Эллен тщательно (пристрастно) отобраны и отредактированы доктором и вдовцом.
Вдова Хемингуэя несколько дней после выстрела жгла архивы, избавляясь от бумаг, искажающих его канонический образ. И её, последней жены гения, – тоже.
Переводы с немецкого на английский (адекватна нашему вчувствованию в мироощущение далекой-близкой Эллен изысканная форма будущего времени Future Perfect Continuous in the Past) и – на русский языки могут исказить нюансы стилей личных и официальных документов. Медицинские документы пока защищены замками конфиденциальности. Истина в конечной инстанции скучна и недостижима, ведь она в глазах смотрящего.
«Но мы – сумма всех мгновений нашей жизни: всё, что есть мы, заключено в них, и ни избежать, ни скрыть этого мы не можем. Если для создания своей книги писатель употребил глину жизни, он только воспользовался тем, чем должны пользоваться все люди, без чего не может обойтись никто». Томас Вулф «Взгляни на дом свой, ангел»
История Эллен – «микс» прихотливых версий ненадежных свидетелей (и евангелисты таковы, и Эллен – в первую голову). «Шум и ярость» жизни описывает, по Бергсону, поток сознания, а не упорядоч-ность причинно-следственных связей эпизодов бытия, а потому ощущение неповторимо и невоспроизводимо.
Так, возможно телескопирование депрессии и ан-тивитального настроения (нежелания жить) в само-описании Эллен.
В исповеди Эллен при пиршестве рефлексии и метафор, мазохистическом любовании «пейзажа после битвы», отсутствуют, как у пожизненно депрессивного эгоцентриста, приметы и цвета тягостно ненужного стерильного времени. Взамен было – Слово .
При относительно последовательной хронологии мук и радостей, биография Эллен («была ли девочка») детально неизвестна и отрывочна вне ретроспективного истолкования «чревовещателем» (то есть подменяющим «истинный» голос Эллен. Е.Б .) [29] Бинсванге-
And the postman's horn freezes.
O. Mandelstam
Metatext Limitations in the original subjectivity of texts and comments. Ellen's texts are carefully (biasedly) selected and edited by a doctor and a widower.
Hemingway's widow burned archives for several days after the shot, getting rid of papers that distorted his canonical image. And her, the last wife of a genius, too.
Translations from German into English (adequate to our empathy for the worldview of the far-close Ellen, an exquisite form of the future tense Future Perfect continuous in the Past) and – into Russian can distort the nuances of the styles of personal and official documents. Medical documents are still protected by confidentiality locks. Truth in the final instance is boring and unattainable, because it is in the eyes of the beholder.
“But we are a summary of all the moments of our life: everything that we are is contained in them, and we cannot avoid or hide it. If a writer used the clay of life to create his book, he only took advantage of what all people should use, without which no one can do. Thomas Wolfe "Look at your house, angel"
Ellen's story is a "mix" of whimsical versions of unreliable witnesses (and evangelists are like that, and Ellen is in the first place). The “noise and fury” of life describes, according to Bergson, a stream of consciousness, and not the orderliness of cause-and-effect relationships of episodes of being, and therefore the feeling is unique and irreproducible.
Thus, it is possible to telescoping depression and anti-vital mood (unwillingness to live) in Ellen's self-description.
In Ellen's confession, during the feast of reflection and metaphors, the masochistic admiration of the "landscape after the battle", there are no signs and colors of painfully unnecessary sterile time, as in a lifelong depressive egocentrist. Instead, it was the Word.
With a relatively consistent chronology of pain and joy, Ellen's biography ("was there a girl") is unknown in detail and fragmentary beyond the retrospective interpretation of the "ventriloquist" (that is, replacing the "true" voice of Ellen. E.B.) [29] Binswanger in contrast to the portraits oils of some characters of Freud. Even the years of Ellen's life are approximate, the data differ – which brother was mentally ill, the details of the joint venture (attempt) in the last sanatorium. Off -stage characters were her relatives. The age of the parents, the ром в контрасте с портретами маслом некоторых персонажей Фрейда. Даже годы жизни Эллен приблизительны, разнятся данные – который брат был душевно болен, подробности СП (попытки) в последнем санатории. Внесценическими персонажами оказались её близкие. Возраст родителей, занятия отца – «бизнесмена», отношения в родительской и собственной семьях, не известны. В результате «вопиющих пробелов» множатся спекуляции, обидные праху родителей (не терпят независимого мнения дочери. Их средства убеждения столь убедительны, что Эллен не устоять).
Отрицая фрейдистскую трактовку отношений отцов и детей, Бинсвангер cообщает о наследственности, «деспоте-отце», но объясняет болезнь выбором Эллен в связи с узостью её "матрицы", задающей горизонт опыта. Причины такой зауженности (врождённые и/или приобретённые) неизвестны.
Представление о личности дает закрытая по определению интимная жизнь, жизнь в любви, когда не пропускаем страниц. Эллен под сенью брака не прописана. Бинсвангер обходит ряд ключевых моментов жизни и неочевидные связи событий в угоду заданному лекалу экзистенциального анализа без усердного вживания (эмпатии). Однако сверхотождествление с пациентом – предмет критики дазайн-анализа [25] – неразумно и опасно (к/ф «Цареубийца, 1991, СССР).
Расширяющийся доныне корпус разнородных архивных источников множит методологические вопросы о возможностях и ограничениях исторической реконструкции – личного опыта и клинических знаний, вопросов авторства и интертекстуальности псевдодо-кументальной прозы в виде истории болезни.
Неуловимую Эллен неверно поняли и её обижали? Глас вопиющей в пустыне доносится сквозь помехи времени.
Новый Вертер ещё не написан.
Список литературы О бедной Эллен замолвите слово: сто лет психиатрических разночтений
- Бинсвангер Л., Мэй Р., Роджерс К. Три взгляда на случай Эллен Вест. Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия. 2. Случаи из практики. Под ред. А.Б. Фенько, Н.С. Игнатьевой, М.Ю. Локтаева. М.: Московский психотерапевтический журнал. 2001: 97-100. [Binswanger L., May R., Rogers K. Three views on the case of Ellen West. Psychological counseling and psychotherapy: A textbook. 2. Cases from practice. Edited by A.B. Fenko, N.S. Igna-tieva, M.Y. Loktaeva. M.: Moscow Psychotherapeutic Journal. 2001: 97-100.] (In Russ)
- Binswanger L. The Case of Ellen West: An Anthropological-Clinical Study. Existence: A New Dimension in Psychiatry and Psychology. May R., Angel E. Ellenberger H, eds. NY: Basic Books / Hachette Book Group, 1958: 237-364. DOI: 10.1037/11321-009
- Solmi M., Radua J., Olivola M., et al. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies.Mol. Psychiatry. 2022; 27: 281-295. DOI: 10.1038/s41380-021-01161-7
- Роджерс К. Эллен Вест и одиночество. Психология личности: хрестоматия. Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей, В.В. Архангельская. М., АСТ: Астрель, 2009: 216-225. [Rogers K. Ellen West and Loneliness. Psychology of personality: a textbook. Ed. Yu.B. Gippenreiter, A.A. Puzyrei, V.V. Arkhan-gelskaya. M., AST: Astrel, 2009: 216-225.] (In Russ)
- Басинский П.В. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. АСТ, 2018. [Basinsky P.V. Look at me. The secret history of Lisa Diakonova. AST, 2018.] (In Russ) Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self Identity. 2003; 2 (2): 85-101. DOI: 10.1080/15298860390129863
- Jackson C., Davidson G., Russell J., Vandereycken W. Ellen West Revisited: The Theme of Death in Eating Disorders. Int. J. Eating Dis. 1990; 9 (5): 529-536.
- Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог. Пер. с нем. СПб., 1997: 153. [Jaspers K. Strindberg and Van Gogh. Trans. from it. SPb., 1997: 153.] (In Russ)
- Johanisson K. Fallet Ellen West. Om psykiatrins icke-granser. Granta, 2013.
- May R. The Discovery of Being: Writings in Existential Psychology. NY: Norton, 1983.
- Бинсвангер Л. Феноменология и психопатология. Логос. 1992; (3): 132. [Binswanger L. Phenomenology and Psycho-pathology. Logos. 1992; (3): 132.] (In Russ)
- Angst J. The epidemiology of depressive disorders. Eur. Neuro-psychopharmacol. 1995; 5 (Suppl): 95-8. DOI: 10.1016/0924-977x(95)00025-k
- Любов Е.Б., Зотов П.Б., Куликов А.Н. Качественные исследования в суицидологии. Часть I: зачем и почему. Суицидология. 2021; 12 (2): 139-157. [Lyubov E.B., Zotov P.B., Kulikov A.N. Qualitative research in suicidology. Part I: why and what for. Suicidology. 2021; 12 (2): 139-157.] DOI: 10.32878/suiciderus.21-12-02(43)-139-157 (In Russ / Engl)
- Reichl C., Kaess M. Self-harm in the context of borderline personality disorder. Curr. Opin. Psychol. 2021; 37: 139-144. DOI: 10.1016/j.copsyc.2020.12.007
- Shea M.T., Stout R.L., Yen S., et al. Associations in the course of personality disorders and Axis I disorders over time. J. Abnorm. Psychol. 2004; 113: 499-508.
- Garland J., Miller S. Borderline personality disorder: Part 1 -assessment and diagnosis. J. Psych. Adv. 2020; 26 (3): 159-172. DOI: 10.1192/bj a.2019.76
- Kulacaoglu F, Samet K. "Borderline Personality Disorder (BPD): In the Midst of Vulnerability, Chaos, and Awe." Brain Sci. 2018; 8 (11): 201. DOI: 10.3390/brainsci8110201
- Lieb K., Zanarini M.C., Schmahl C., et al. Borderline personality disorder. Lancet. 2004; 364: 453-461. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16770-6
- Storeb0 O.J., Stoffers-Winterling J.M., Vollm B.A., et al. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 5 (5): CD012955.
- Del Casale A., Bonanni L., Bargagna P., et al. Current Clinical Psychopharmacology in Borderline Personality Disorder. Curr. Neuropharmacol. 2021; 19 (10): 1760-179. DOI: 10.2174/1570159X19666210610092958
- Гурович И.Я., Любов Е.Б., Сторожакова Я.А. Выздоровление при шизофрении: Концепция «recovery». Социальная и клиническая психиатрия. 2008; 18 (2): 7 -14. [Gurovich I.Ya., Lyubov E.B., Storozhakova Ya.A. Recovery in schizophrenia: The concept of "recovery". Social and clinical psychiatry. 2008; 18 (2): 7 -14.] (In Russ)
- Gunderson J., Herpertz S., Skodol A., et al. Borderline personality disorder. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4: 18029. DOI: 10.1038/nrdp.2018.29
- Валенурова Н.Г., Матвейчев О.А. Современный человек: в поисках смысла. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2004: 260. [Valenurova N.G., Matveichev O.A. Modern man: in search of meaning. Yekaterinburg: Ed. Ural. un-ta, 2004: 260.] (In Russ)
- Lester D. Ellen West's suicide as a case of psychic homicide. Psychoanalytic Rev. 1971; 58 (2): 251-63.
- Akavia N. Writing "The case of Ellen West": clinical knowledge and historical representation. Sci Context. 2008; 21 (1): 119-44. DOI: 10.1017/s0269889707001585
- Maltsberger J.T. Case consultation. The case of Ellen West revisited: a permitted suicide. Suicide Life Threat Behav. 1996; 26 (1): 86-89. discussion 89-97. PMID: 9173614
- Veysset Ph. Freud and Binswanger: An Asymptotic Relationship. Psychoanalysis - a new overview. F. Irtelli, B. Marchesi, F. Dur-bano, еds, 2020: 146-289.
- Minuchin S. The triumph of Ellen West. Minuchin, S. The family kaleidoscope. Images of violence and healing. Cambridge: Harvard University Press, 1984: 195-246.
- Furt L.R. The elusive patient and her ventriloquist therapist: Ludwig Binswanger's "The Case of Ellen West". L. R. Furst: Just talk. Narratives of psychotherapy. Kentucky: University of Kentucky Press, 1999: 193-209.