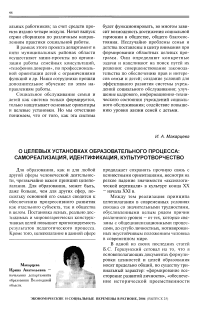О целевых установках образовательного процесса: самореализация, идентификация, культуротворчество
Автор: Макарцева Ирина Анатольевна
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Дети и молодежь - будущее России
Статья в выпуске: 2 (25), 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147110304
IDR: 147110304
Текст статьи О целевых установках образовательного процесса: самореализация, идентификация, культуротворчество
Для образования, как и для любой другой сферы человеческой деятельности, чрезвычайно важен принцип целеполагания. Для образования, может быть, даже больше, чем для других сфер, поскольку основной его смысл сводится к обеспечению прогрессивного развития как отдельного субъекта, так и общества в целом. Постановка ясных, реально достижимых и мировоззренчески конструктивных целей повышает прогнозируемость результатов педагогического процесса. Кроме того, целеполагание в данной сфере
Макарцева Ирина Анатольевна — начальник департамента образования Вологодской области.

продолжает сохранять прочную связь с ценностными ориентациями, несмотря на резкое падение значимости «аксиологической вертикали» в культуре конца XX - начала XXI в.
Между тем реализация принципа целеполагания в современных условиях связана со значительными трудностями, обусловленными целым рядом причин различного уровня — от тех, которые связаны с общецивилизационными процессами, до сугубо личностных, мотивированных неустойчивым положением человека в современном мире.
В одной из своих последних статей Б.С. Гершунский сетовал на то, что в основополагающих документах формулировки ценностей и целей образования носят предельно общий, по существу тривиальный характер: «формирование всесторонне развитой личности», «обеспечение исторической преемственности поколений», «воспитание патриотов России», «формирование творческой личности», «обеспечение современного уровня и качества образования», «возвращение государства в сферу образования» и т. п. [2].
Думается, что в основополагающих документах формулировки и должны носить общий характер, а если они становятся тривиальными, то это прямое следствие усердной их эксплуатации без должного внимания к содержательному наполнению. Однако неудовлетворенность ученого вполне обоснованна. Чтобы в этом убедиться, достаточно спроецировать любую из приведенных им в качестве примера формул на реальную ситуацию в образовательном пространстве современной России. «Формирование всесторонне развитой личности» — задача для общеобразовательной школы вообще непосильная. «Обеспечение исторической преемственности поколений» - одна из самых больных проблем в условиях, когда «распалась времен связующая нить» и общество живет по революционному, а не эволюционному сценарию. «Воспитание патриотов России» затрудняется все усиливающейся ориентацией на западные модели экономической, социальной и культурной жизни, которые воспринимаются подрастающим поколением как престижные. Эффективность «формирования творческой личности» не может быть высокой, пока недостаточно ясным остается то, что значит «творчество» применительно ко всем видам учебной деятельности школьника, а в вузовской и послевузовской подготовке педагога этому аспекту должного внимания не уделяется. «Обеспечение современного уровня и качества образования» сдерживается отсутствием не только необходимой материальной базы, но и надежных критериев экспертной оценки. Что же касается «возвращения государства в сферу образования», то это положение больше похоже на политический лозунг, чем на целевую установку. Во-первых, из сферы образования государство не уходило. По сей день подавляющее большинство образовательных учреждений России — это государственные учреждения (речь может идти лишь об их федеральном, региональном или муниципальном статусе, т. е. о принадлежности к государственным структурам разного уровня). Во-вторых, неизбежным следствием вхождения России в европейское образовательное пространство должно стать некоторое сужение государственного сектора в данной сфере (другое дело — пределы этого сужения и функции, которые государство сочтет целесообразным и сможет за собой сохранить). В-третьих, вопрос о присутствии государства в сфере образования связан не только с его ответственностью за полномасштабное обеспечение деятельности этой сферы, но и с удовлетворением государственных потребностей за счет ресурсов этой сферы. Между тем о государственных гарантиях обеспечения права на образование приходится читать и слышать едва ли не чаще, чем об интересах государства, с образованием связанных. В предельно упрощенном виде доминирующая точка зрения в суждениях по данному поводу выглядит так: государство в полной мере должно удовлетворять образовательные потребности личности, а личность вольна распоряжаться возможностями, обретенными в процессе образования, как ей угодно. Однако приемлемой для России в ее современном состоянии является позиция более сбалансированная, учитывающая в равной мере интересы обеих сторон.
Б.С. Гершунский, предлагая главной целью образования считать наиболее полную жизненную самореализацию человека, писал, что это предполагает «максимально возможную пользу, которую он может принести самому себе, своим близким, обществу, в котором живет, человеческой цивилизации в целом. Принести на основе своих индивидуальных способностей, знаний, умений, навыков, нравственных и мировоззренческих приоритетов, определяющих масштаб личности, ее реальный вклад в обогащение материальных и духовных ценностей мира»[2].
Как заметил сам ученый, идея эта не нова, поскольку пронизывает практически все философские и религиозные учения. Однако она привлекательна тем, что позволяет тесно увязать в единое целое устремления личности и общие интересы. А глубокая укорененность в мировой культуре придает ей авторитетность и позволяет проецировать ее на многие (если не на все) виды человеческой деятельности — как материальной, так и духовной. Правда, при этом остается актуальным вопрос о путях педагогически эффективного внедрения ее в современную образовательную практику.
Можно с уверенностью сказать, что образовательная установка на наиболее полную жизненную самореализацию человека может обрести чрезвычайно существенное значение для процесса идентификации личности, особенно интенсивно протекающего в период ее становления. Поиск персонифицированного образа, социальной роли, группы, сообщества, с которыми молодой человек мог бы и хотел бы отождествить себя, становится важнейшим инструментом социализации в пору ранней юности. Успешность этого поиска, соответствие его результатов склонностям и возможностям личности, с одной стороны, и общественным потребностям — с другой, может расцениваться как важнейший показатель результативности образовательного процесса. При этом, конечно, идентификация должна предусматриваться образовательным процессом, включаться в него как необходимый компонент, направляться и регулироваться им. Педагогическое «сопровождение» идентификации личности школьника необходимо, так как «ни один человек не может сам, в одиночку составить адекватное представление о своем поведении и образе мысли. Сколь бы искренними ни были его попытки разобраться в себе, он рано или поздно оказывается вынужден обратиться к чужому суждению и толкованию»[3].
Роль такого «сопровождения» приобретает особую значимость с наступлением кризиса переходного возраста, когда становится реальной угроза потери идентичности, ведущей к отчуждению, маргинализации, девиантному поведению. Именно в период юношеского кризиса «человек получает уникальную возможность обрести свое подлинное «Я» или утратить его навсегда»[4]. Утрата идентичности провоцируется не только возрастными, но и социальными факторами. Массовый характер она носит, как правило, в периоды быстрых изменений в социокультурной области. Нет необходимости специально обосновывать то, что один из таких периодов приходится на время, в которое мы живем.
Продуктивность идентификации как целевой установки образовательного процесса определяется ее многоаспектностью, возможностью выхода как на сугубо индивидуальные (интроверсивные), так и на социально ориентированные (экстра-версивные) ценности. Отвечает эта установка и тенденциям развития современной педагогики.
В последние годы широкую популярность получила идея антропологизации образовательного процесса. При всем многообразии трактовок этой идеи основной ее смысл сводится к воспроизведению в содержании образования такой модели человека, которая стала бы важным стимулом развития личности учащегося.
С принципом антропологизации, в свою очередь, хорошо согласуется и представление о цели образования как о формировании субъекта культуры — личности, способной к культуротворчеству. (Под культуротворчеством в данном случае понимается любая человеческая деятельность, имеющая положительную, созидательную направленность.) Данный поворот проблемы открывает возможность говорить о «совпадении целей образования с целями культуры»[1]. Конечно, такое совпадение — своего рода идеал, реальная значимость которого заключается в стремлении к нему, а не в возможности полностью осуществить его. Но продуктивность использования этого идеала в образовательном процессе сомнений не вызывает. По своему характеру он соответствует доминирующим тенденциям развития современного общественного сознания и в то же время может способствовать удовлетворению запросов отдельной личности, обращенных к окружающему миру и к самой себе.
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕСТРУКЦИЙ
Реклама и манипуляция. В последнее десятилетие XX века в России активно развивается особый жанр, представляющий собой сплав прикладных гуманитарных наук и различных видов искусства. Границы жанра, четко обозначенные приземленными задачами — представление товара и информация о его положительных свойствах, со временем расширились и стали претендовать на более важные функции. Реклама, — а речь, как вы поняли, идет именно о ней, — нисколько не смутясь, взялась за формирование нравственных ценностей, образа жизни и даже национальной идеи.
Из оскудевшего кинематографа, литературы и других видов искусств молодые профессионалы плавно потекли в русло печатной и телевизионной рекламы, имеющей сильную денежную подпитку.
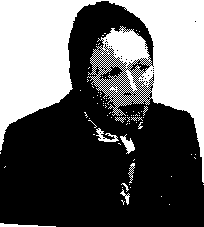
Маркова Наталья Ефимовна — руководитель Центра коммуникативных исследований ИСЭПН РАН.
Появились школы, агентства и множество работников медиарынка, активно занимающихся рекламой и саморекламой. Параллельно происходил процесс перетекания рекламных функций (презентация объекта и его свойств) в привычные виды искусств — литературу, театр, кинематограф. Реклама возносила не только предметы потребления, но и политиков, идеи и идеологии. Она сразу стала выгодным бизнесом, а наиболее удачливые представители рекламных агентств претендовали на звание властителей умов, своего рода касты жрецов, инженеров человеческих душ. Именно при помощи рекламы несколько раз и очень успешно были ограблены миллионы вкладчиков. Благодаря скрытым и явным приемам рекламы возникла грандиозная перманентная эпидемия наркомании среди подростков. Общество заговорило о рекламных манипуляциях.
Один из известных персонажей литературного рынка, специализирующийся на дискредитации отечественной истории, нравственных ценностей и сложносочиненной рекламе наркотиков, в интервью популярной газете «АиФ» назвал себя и других современных художников «проститутками в хорошем смысле слова». Он же, озаботившись нравственной стороной