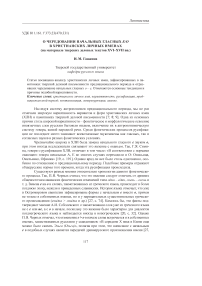О чередовании начальных гласных е / о в христианских личных именах (на материале тверских деловых текстов XVI–XVII вв.)
Автор: Ганжина Ирина Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу христианских личных имен, зафиксированных в памятниках тверской деловой письменности преднационального периода и отразивших чередование начальных гласных о – е. Отмечаются основные тенденции и причины подобной вариативности.
Христианское личное имя, вариативность, русификация, преднациональный период, контаминация, гиперкоррекция, аканье
Короткий адрес: https://sciup.org/146121878
IDR: 146121878 | УДК: 811.161.1’373.23(470.331)
Текст научной статьи О чередовании начальных гласных е / о в христианских личных именах (на материале тверских деловых текстов XVI–XVII вв.)
Исследуя систему антропонимов преднационального периода, мы не раз отмечали широкую вариативность вариантов и форм христианских личных имен (ХЛИ) в памятниках тверской деловой письменности [7; 8; 9]. Одна из основных причин столь широкой вариативности – фонетическое и морфологическое освоение иноязычных слов русским бытовым языком, включение их в антропонимическую систему говора, живой народной речи. Среди фонетических процессов русификации не последнее место занимают всевозможные звукозамены как гласных, так и согласных звуков в разных фонетических условиях.
Чрезвычайно широка в ХЛИ была замена начального гласного е звуком о , при этом иногда исследователи связывают это явление с оканьем. Так, Г. Я. Симина, говоря о русификации ХЛИ, отмечает в том числе: «В соответствии с нормами окающего говора начальные А, Е во многих случаях переходили в О: Онисьица, Омельянко, Офимка» [19, с. 191]. Однако вряд ли все было столь однозначно, особенно по отношению к преднациональному периоду. Подобные примеры отражают общерусские нормы того времени, когда эта русификация происходила.
Существуют разные мнения относительно хронологии данного фонетического процесса. Так, П. Я. Черных считал, что это явление следует отличать от древних общевосточнославянских фонетических изменений типа один – един, олень – елень и т. д. Замена е на о в словах, заимствованных из греческого языка, происходит в более позднюю эпоху, нежели в приведенных славянских. Историк языка отмечает, что уже в Остромировом евангелии зафиксированы формы с начальным е вместо о, причем не только в собственных именах, но и у нарицательных существительных греческого происхождения (ехидна > охидна и др.) [27, с. 74]. Казалось бы, эти факты подтверждают мнение А.И. Соболевского о заимствовании слов уже из греческого языка не с е или ие, а с о в начале, поскольку это явление было характерно для диалектов позднегреческого языка и наблюдается иногда в новогреческом [20, с. 32]. Однако П. Я. Черных отмечал, что изменение е > о в начале слова встречается и в собственных именах, заимствованных русскими у скандинавов: «В середине X века в Киеве еще можно было сказать Эльга (Ольга)», полагая при этом, что написание с начальным е в подобных случаях является передачей древнерусского произношения имени [27, с. 74]. Подобную точку зрения о собственно русском появлении начального о на месте е в собственных именах высказывал в начале прошлого века М. Фасмер [25, с. 11].
Безусловно, данный процесс является достаточно древним: так, В.А. Никонов отмечает, что замена инициального е на о в ХЛИ была известна уже в X веке [13, с. 62], а исследователи украинской [28, с. 6] и белорусской [4, с. 4] антропонимии отмечают наличие этого изменения в XI в. Н.В. Подольская, анализировавшая антропонимию древнерусского периода на материале берестяных грамот, отмечает: «Почти все календарные имена имеют местную общерусскую фонетическую или морфологическую окраску. Так, <…> начальное Е заменяется на О …» [18, с. 58].
Подобная замена гласных продолжалась и после распада единого древнерусского языка и фиксируется в памятниках среднерусского периода, что отмечается исследователями антропонимии разных территорий, причем свойственна она не только для русского языка того периода. Так, А. К. Устинович, анализируя антропонимию белорусских памятников преднационального периода, тоже отмечает замену начальной безударной е гласным о в греческих словах (Ефрем > Офрем, Евтих > Евтух, Овтух) [24, с. 263].
В исследуемых нами текстах [1; 3; 5; 6; 10; 14; 15; 16; 17; 29; 30] данное явление представлено достаточно широко:
Овдоким, Овдокимко, Овдокимка, Овдакимка, Овдюшка < Евдоким;
Овгинья < Евгений;
Овсевей, Овсей, Овсеик, Овсейко, Осей, Осейко, Овсяник (?) < Евсевий;
Олис, Олиско < Елисей;
Олух < Елисей / Елевферий (через разговорный вариант Олфер );
Олферей, Олферий, Олферка, Олферко, Олферец, Олфер, Олфиш < Елев-ферий;
Омельян, Омельянка, Омельянко, Омелка, Омелька, Оменя < Емелиан;
Онтроп, Онтропко, Онтрош < Евтропий;
Онтух, Онтуфей, Онтушко, Олтуфей < Евтихий;
Остафей, Остафейко, Остах, Остап, Останя, Осташ, Осташка, Осташ-ко, Остошка < Евстафий;
Острат, Остратко < Евстратий;
Офишко < [Офим / Ефим] < Евфимий;
Офрем, Офремко < Ефрем.
Тем не менее данный переход наблюдается не повсеместно во всех модифи-катах ХЛИ, и во многих случаях фиксируются параллельные формы с начальными о , е – иногда даже в одном документе: Евдоким – Овдоким, Евдокимко – Овдокимко, Евсей – Овсей, Овсевей – Евсивей, Евстафей – Остафей, Елистратка – Остратко, Ефишко - Офишко, Ефремка - Офремко и т. д. На наш взгляд, это обусловлено контаминацией традиционных антропонимических форм, сложившихся в живой речи, и формирующимися нормами московского делопроизводства. Так, лингвисты, исследовавшие разговорный язык Московской Руси на начальном этапе формирования русского национального языка, отмечают: «Важным характерным признаком образования национального языка надо считать органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка. Контаминация, всё более глубокое влияние их <…> подготовляется всем предшествующим развитием языка и общества» [12, с. 25]. Полагаем, что эти слова в полной мере могут быть отнесены и к антропонимическим фактам преднационального периода.
Вероятно, по аналогии с подобным явлением в некоторых именах отмечен обратный процесс перехода начального о > е : Есип, Есипко, Еска, Еська, Есюк <
Осип < Иосиф; Ефромей < Офромей < Варфоломей. Безусловно, в данном случае имеет место типичная гиперкоррекция, нередко сопровождавшая различные процессы, происходившие в языке.
В дальнейшем в процессе перехода начального е в о (как и в многочисленных случаях употребления в памятниках начального о на месте исконного а ) нашло отражение и развитие аканья: фонетическая идентичность безударных а и о привела к тому, что в отдельных случаях имена с исконным начальным е записаны с буквой а (< о):
Авдюшка < Овдоким < Евдоким;
Алферей < Олферей < Елевферий;
Амелка, Амельян < Омельян < Емилиан;
Антропко < *Онтропей (ср. Онтроп, Онтропко, Онтрош) < Евтропий.
Подобный процесс, разумеется, особенно существенно отразился на антропонимии зоны южновеликорусских говоров. Так, исследователи воронежских фамилий отмечают характерное для южнорусских говоров аканье, выразившееся в том, что нередко начальное а употребляется на месте о , образованного из е : Авдоки-мов , Амелин , Ахремов [26, с. 147].
Нельзя не отметить, что в отдельных именах замена е > о в исследуемом материале не зафиксирована: Евтюшка < Евтихий; Елизар, Елизарий, Елезар, Ели-зарко, Елька, Елка, Елко, Елец < Елеазар; Епиш < Епифаний; Ермолай, Ермола, Ермолка, Ермолко, Еря < Ермолай; от имени Елисей почти во всех текстах встречаются формы с начальным е ( Елисей, Елисейко, Елька, Елка, Елко, Елец, Елсук ), и только в бежецких документах зафиксированы модификаты Олис , Олиско [17]. Во многих случаях можно попытаться найти закономерное объяснение отсутствию подобного перехода в отдельных ХЛИ: это может быть либо этимология имени (так, имена Елизар, Елисей пришли из древнееврейского языка), либо иные фонетические условия, препятствовавшие в свое время подобному переходу (так, имя Ермолай восходит к греческому Hermolaos [21, с. 411], где гласный е не был начальным, а находился под прикрытием согласного). В остальных случаях замена была вполне возможна, и ее отсутствие может быть объяснено, на наш взгляд, лишь достаточно редким употреблением данных имен на исследуемой территории. При этом интересно, что от имени Евтихий, от которого в наших материалах зафиксирована лишь форма Евтюшка (< * Евтюх ), в украинском и белорусском языках также образуются народные формы без перехода в о (соответственно Евтух , Яўтух ) [23, с. 236], но в русских говорах подобные замены были вполне возможны, о чем свидетельствуют фамилии Овтухов / Автухов , Олтухов / Алтухов , Алтуфьев , Антифеев [22, с. 51].
Однако интересно отметить и противоположный процесс: от некоторых имен нам не встретилось ни одного варианта или формы с начальным исконным е :
Евтропий ( Антропко, Онтроп, Онтропко , Онтрош ),
Елевферий ( Алферей, Олферей, Олферий, Олфер, Олферка, Олферко ),
Емелиан ( Амелка, Амельян, Омелка, Омельян, Омельянка, Омельянко, Оме-льяник , Омелька, Омеля, Оменя ).
Подобные примеры еще ждут своего объяснения; не исключено, что частично это может быть объяснено местной антропонимической традицией. Примеры же замены начального о гласным е сохранились в русских говорах до наших дней, о чем свидетельствуют наблюдения диалектологов [1, с. 64–65].
В целом антропонимия преднационального периода, как показывает материал памятников делового письма, обладает нестабильностью и широкой вариативностью и включает как традиционные, общерусские, так и новые, порой локально ограниченные, а в некоторых случаях и церковнославянские написания. По словам
Л. Ф. Копосова, «изучение норм деловой письменности является основой для восстановления фактов живой речи и происходящих в ней изменений, в том числе диалектных явлений, которые отражены местными вариантами нормы» [11, с. 7].
Список литературы О чередовании начальных гласных е / о в христианских личных именах (на материале тверских деловых текстов XVI–XVII вв.)
- Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии. М.: Учпедгиз, 1949. 335 с.
- Акты Московского государства/ред. Н. А. Попов. Т. III. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1901. 802 с.
- Акты Русского государства 1505-1526 гг. М.: Наука, 1975. 436 с.
- Бирилло Н. В. Белорусская антропонимия: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01/Н. В. Бирилло; Минский пед. ин-т. Минск, 1969. 47 с.
- Бондарчук Н. С., Кузнецова Р. Д. Тверская деловая письменность XVII-XVIII вв. Калинин: Калининский ун-т, 1986. 80 с.
- Выпись из Тверскихъ писцовыхъ книг письма и меры Федора Игнатьева да подъячаго Тимофея Стефанова 135 и 136 годовъ. Вып. I. Тверь: Типо-литография М. В. Блинова, 1916. 141 с.
- Ганжина И. М. Личные христианские имена в русской культурной традиции//Христианская культура и славянский мир: XVI Международные Рождественские чтения. Направление «Церковь и культура». М.: Гос. акад. слав. культуры, 2009. С. 71-79.
- Ганжина И. М. Об основных тенденциях антропонимической номинации преднационального периода (на материале тверских памятников деловой письменности XVI-XVIII веков)//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 114-121.
- Ганжина И. М. Проблемы описания фонетического и словообразовательного варьирования личных собственных имен в памятниках//Русский язык: история и современность. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2002. С. 69-75.
- К материалам для церковной и бытовой истории Тверскаго края в XV-XVI вв./ред. М. Рубцов. Вып. II. Старица: Тип. И. Н. Крылова, 1905. 96 с.
- Копосов Л. Ф. Северно-русская деловая письменность XVII-XVIII вв. (орфография, фонетика, морфология): автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01/Л. Ф. Копосов; Московский пед. ун-т. М., 2002. 42 с.
- Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси//Начальный этап формирования русского национального языка. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. С. 22-34.
- Никонов В. А. Русская адаптация иноязычных личных имен//Ономастика. М.: Наука, 1969. С. 54-78.
- Памятники русского права. Вып. 4./ред. Л. В. Черепнин. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1956. 632 с.
- Памятники социально-экономической истории Московского государства XIV-XVII вв.: Т. I./ред. С. Б. Веселовский и А. И. Яковлев. М.: Изд-во Центрархива РСФСР, 1929.
- Писцовые книги Московского государства XVI века: Ч. 1./ред. Н. В. Калачев. СПб.: Имп. Рус. Геогр. Общество, 1877. 1601 с.
- Писцовые книги Новгородской земли: Т. 3: Писцовые книги Бежецкой пятины XVI века/сост. К. В. Баранов. М.: Древлехранилище, 2001. 304 с.
- Подольская Н. В. Вопросы исторической ономастики в связи с анализом берестяных грамот//Историческая ономастика. М.: Наука, 1977. С. 49-71.
- Симина Г. Я. Бытовые варианты личных имен (по материалам древних письменных памятников и современной антропонимии Пинежья)//Антропонимика. М.: Наука, 1970. С. 189-194.
- Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М.: Унив. тип., 1907. 313 с.
- Справочник личных имён народов РСФСР/под ред. А. В. Суперанской. М.: Рус. яз., 1979. 574 с.
- Унбегаун Б. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989. 443 с.
- Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен. М.: Изд-во Моск. унта, 1969. 334 с.
- Устинович А. К. Мужские личные имена в гродненских и брестских актах XV-XVII вв.//Антропонимика. М.: Наука, 1970. С. 262-266.
- Фасмер М. Греко-славянские этюды. VIII. СПб.: Тип. Имп. Аккад. наук, 1909. 236 c.
- Федорова М. В., Фролов Н. К. Фонетика воронежских фамилий//Материалы по русско-славянскому языкознанию. Труды Воронежского университета: Т. 83. Воронеж, 1969. С. 144-156.
- Черных П. Я. Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз, 1952. 314 с.
- Чучка П. П. Антропонимия Закарпатья: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01/П. П. Чучка; Киев. гос. ун-т им. Киев, 1970. 42 с.
- Шумаков С. Тверские акты, изданные Тверской ученой архивной комиссией. Вып. I. Акты 1506-1647 гг. Тверь: Тип. губ. правления, 1896-1897.
- Юшков А. И. Акты XIII-XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества. Ч. 1. М.: Унив. тип., 1898. 432 с.