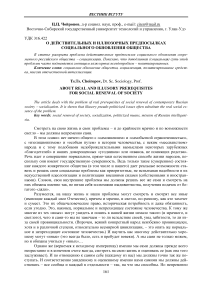О действительных и иллюзорных предпосылках социального обновления общества
Автор: Чойропов Ц.Ц.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (49), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрыта проблема действительных предпосылок социального обновления современного российского общества - социализации. Показано, что доподлинная (социальная) суть этой проблемы часто подменяется скопищем иллюзорных псевдопроблем - политизированных.
Социальное обновление общества, социализация, политизированные средства, миссия отечественной интеллигенции
Короткий адрес: https://sciup.org/142142906
IDR: 142142906 | УДК: 316.422
Текст научной статьи О действительных и иллюзорных предпосылках социального обновления общества
Смотреть на свою жизнь и свои проблемы – и до крайности мрачно и по возможности светло – мы должны непременно сами.
В этом «сами» нет ничего общего с «самомнением» и «самобытной ограниченностью», с «изоляционизмом» и «особым путем» в истории человечества, с неким «мессианством» народа и с тому подобными недоброжелательными вымыслами некоторых зарубежных «благодетелей» и наших доморощенных «угодников» или «иванов, не помнящих родства». Речь идет о совершенно нормальном, прямо-таки естественном способе жизни народов, поскольку они имеют государственную суверенность. Ведь только такое (суверенное) состояние каждого конкретного общества (в том числе и нашего) дает реальные возможности ставить и решать свои социальные проблемы как приоритетные, не испытывая надобности в их искусственной идеологизации и политизации внешними силами (собственными и иностранными). Словом, свои внутренние проблемы мы должны решать все же сами и смотреть на них обязаны именно так, не питая себя иллюзиями иждивенчества, получения подачек от богатого «дяди».
Разумеется, на нашу жизнь и наши проблемы могут смотреть и смотрят все иные (имеющие каждый свое Отечество), причем и мрачно, и светло, по-разному, как кто захочет и сумеет. Это их общечеловеческое право, историческая потребность и даже обязанность, если угодно. Это, наконец, нормальное и непреходящее состояние человечества. К тому же многие из тех «иных» могут увидеть и понять в нашей жизни немало такого (и мрачного, и светлого), чего и сами-то мы не замечаем – то ли вследствие своей, увы, забитости, то ли из-за своей провинциальности. (Впрочем, всякий конкретный народ неизбежно провинциален, хотя и в различной степени, относительно всемирной цивилизации, это опять же нормальное и непреходящее состояние человечества.) И научить нас многому действительно хорошему могут «иные» (это всегда было, есть и пребудет вовеки). А мы сами не только можем, но и обязаны учиться у «иных»…
Однако же (вернемся к исходному императиву) именно мы сами должны прежде всего непрестанно и в конечном счете всегда, смотреть на свою жизнь и оценивать ее (как она того заслуживает). И по отношению к самим себе (каждому из нас) мы должны точно так же поступать. И соответственно увиденному и оцененному именно нами самими мы должны действовать – все сообща и каждый в отдельности – так, на что мы способны. Но непременно сами и по-своему. Даже – если прямо используем непосредственные достижения «иных».
Тогда (и только тогда!) нами увиденное будет именно нашим (каким бы оно ни было), наша оценка своей жизни и самих себя будет самооценкой (каковой бы она ни была), а обновление своей жизни – самообновлением, движение от своего «мрачного» к своему «светлому» самодвижением и саморазвитием. Тогда положительный, внутренне присущий нам способ жизни не окажется объектом искусственной политизации и идеологизации, манипулирования и нивелирования… словом – внешнего (политического, идеологического и прочего) подхлестывания, произвола… Но будет процессом имманентным, социальным, т.е. самим собою.
Тогда, следовательно, сам выход нашего общества из кризисного состояния, наконец, освободится от безысходного круговращения разного рода внешних, но пагубных механизмов типа: «политизация приватизация», «распределение перераспределение», «коллективизация деколлективизация», «централизация децентрализация», «монополизация плюрализация»…
Можно, конечно, воспринимать эти императивы как очередные сентенции, далеко стоящие от практического решения наших перезревших проблем. Что ж, и таковое не исключено. Нам и в самом деле не достает практичности, деловитости, рационализма и еще многого подобного. Однако же практичность, деловитость, рационализм и т.п., имея значение необходимых жизненных ценностей, склонны перевоплощаться (или перерождаться) в жестокий практицизм, беспощадное делячество, корыстную рассудочность и т.п., если они (ценности) утрачивают духовное содержание, нравственную мотивацию, человеческую добродетельность и справедливость… короче – подлинную социальность. Не так ли происходило и происходит у нас по преимуществу или, во всяком случае, достаточно ощутимо? Не таковы ли прагматические принципы наших «радикалов-реформаторов» былых и нынешних…
Кстати, а кто они, что из себя представляют наши радикалы-реформаторы, чем они заняты и каковы результаты их «радикального реформаторства»? Мы ведь почти ничего из всего этого до сих пор толком-то и не знаем, не уразумели…
Естественно, наш измученный народ, все честные и совестливые люди положительного труда (материального и духовного), все обездоленные, наконец, общество в целом давным-давно испытывают насущную (социальную) потребность, прямо-таки отчаянно нуждаются во всестороннем и глубоком, предельно радикальном, но обязательно положительном (т.е. – по существу) реформировании нашей жизни. Более того, пожалуй, все без исключения наши сограждане, живущие исключительно своим опять же положительным трудом и по своему труду, непосредственно создающие материальное (пусть – скромное) и духовное (оно посолиднее) богатство общества, все защитники нашего Отечества, все они давным-давно по-своему осознали, во всяком случае почувствовали, драматизм общего итога, выражающегося в сакраментальной формуле: «Так жить дальше нельзя!» (причем задолго до ее публичного оглашения). Поэтому все они, понятно, опять же давным-давно испытывают сокровенную (человеческую, социальную) потребность и искренне нуждаются в реформаторах соответствующего (ожидаемого) типа и предназначения. Ждут их, по-своему зовут, можно сказать – взывают, в меру возможностей ищут, вопрошают (пусть даже безмолвно), пытаются заметить и выделить их (пусть даже интуитивно) в своей среде, стремятся душевно лелеять и заботливо оберегать отозвавшихся и подавших надежды, по-отечески поддерживают и по-доброму напутствуют их – тех возможных, так желанных и долгожданных реформаторов, т.е. спасителей и защитников своих…
И во всем этом сокровенном, благожелательном нет ничего особенно сверхъестественного или заумного – «мессианского», «эсхатологического», «апокалиптического» и прочего, приписываемого народу сверхрациональными умниками. Это по-человечески вполне нормальное и логичное, можно сказать, естественное состояние народа, людей, положительного (социального) способа труда и жизни. Оно (это состояние) может быть по-человечески наивным и безобидно непосредственным, житейски приземленным, просто людским. Однако оно не претендует ни на «сверхчеловеческое» (божественное), ни на «слишком человеческое» (ницшеанское), не является ни святостью, ни «греховностью». Оно скорее – по-людски (житейски) молитвенное, исповедальное…
Трудности и неожиданности, неурядицы и несуразицы, конфликты и катаклизмы начинаются тогда и постольку, когда и поскольку на те социальные потребности народа (в реформировании и реформаторах), на людские чаяния и ожидания, на человеческий стон и зов, – на все это с политизированной жадностью и лихостью, с идеологизированным вожделением и лукавством, с претенциозными страстями и амбициями, с экстремистскими целями и средствами, – со всем этим вне- и надсоциальным бурно устремляются псевдореформаторы (персоны и группировки, институты и партии…). И, оснащенные социальной демагогией, принимаются за псевдорадикальные «преобразования», за «решение» социальных проблем общества, за проблемы действительных и иллюзорных предпосылок и факторов социального обновления общества, «перестройку» социального способа жизни народа политическими методами и средствами. (А таковое всегда было и есть, во всяком случае у нас.)
Вот тогда-то обостряется до чрезвычайности проблема социализации. Ведь действительная (социальная) суть этой проблемы камуфлируется, затемняется, затеняется или даже искажается, выхолащивается и подменяется скопищем иллюзорных псевдопроблем – политизированных. В конечном счете глубинное обновление общества (социальное) может быть сведено к поверхностным метаморфозам, к мимикрии политических институтов, а процесс социализации – к механизму политизации.
Судя по тому, как сложно и противоречиво, кризисно и драматично идет реформа (а мы все – ее свидетели и участники уже на протяжении двадцати лет), в общих чертах проясняется вторая часть поставленного вопроса: чем занимаются наши реформаторы и каковы результаты их реформаторства… Теперь в общем понятно хотя бы эмпирически: не совсем «тем» и не вполне «таковым»; может быть даже вовсе не тем занимались и совсем не такие результаты получились, в сравнении с ожиданиями и обещаниями. Но ведь для такого «прояснения» (впрочем, далеко не полного и не определенного, о чем свидетельствуют нынешние разночтения «итогов») понадобились годы, пресловутая «двадцатка» мучительных социальных катаклизмов, огромных материальных издержек и лишений, духовных и нравственных потрясений и утрат, даже кровопролитий… Хотя надо констатировать и некоторые достижения, «подвижки» (как выражаются парламентарии) принципиального характера. (Об этом уже много написано.) Но хвастаться достигнутым было бы грешно и лукаво.
Значит, жаждущие и страждущие не вполне уяснили и взвесили свои чаяния и ожидания накануне их эмпирической апробации, не оценили степень их реальности. Словом, сами же «проморгали прелюдию» событий. Не состоялся, иначе говоря, социальный процесс имманентного самопознания и объективно-критической самооценки, а также процесс постижения и реалистической оценки наличной ситуации и себя самих в ней (не говоря уже о прогнозах или хотя бы предчувствиях). Это – с одной стороны. А с другой – со стороны тех, что вызвалися быть и назвали себя «реформаторами», да еще получили «кредит доверия» от избирателей, – ими-то реальное состояние общества (прямо скажем – кризисное), насущные социальные проблемы были восприняты и оценены преимущественно политически, т.е. политизированы. Отсюда были поставлены соответствующие цели и определены программы, последовали подходящие действия с применением подобающих методов и средств. К тому же, как правило, не на государственном уровне, но преимущественно в пределах узко групповых, партийно-институциональных, а то и официозно персональных интересов (хотя под помпезными лозунгами «демократии», «общечеловеческих ценностей», «мировой цивилизации» и т.п.).
Все это, вместе взятое, обусловило превращение всесторонней и глубокой реформы (каковой она ожидалась и отчасти, наверное, замышлялась) в многоликие и поверхностные механизмы политической конфронтации официозных, многолико политизированных группировок, институтов, персон. Насущные же социальные проблемы оказались объектом политической манипуляции, «приватизации» (это тоже политизированные акции). Оказались
«затемненной» базой, полигоном и средством политической конфронтации «реформаторов».
Весь арсенал политической терминологии и демагогии, политизированных лозунгов и девизов оказался – ого! – сверхобильным, неограниченным. Сколько уже было за те же 20 25 лет «судьбоносных, качественно новых и решающих этапов реформы» и в то же время следовавших друг за другом «этапов нарастания кризисных явлений» (можно, к сожалению, и продолжить перечень).
Если все это ирония, то – горькая… Уж не до смеха: смеяться было б не грешно, если б не было так грустно… На самом деле все это и подобное – политизированное затенение и затемнение действительно судьбоносных для общества и государства, назревших и перезревших, глубоко социальных, подлинно человеческих проблем… Все это (и многое другое) – следствие и свидетельство уже состоявшегося, к сожалению, драматического факта: на потребности общества в социальной реформе наши реформаторы ответили конфронтацией. В таком парадоксальном факте зафиксировано полное несоответствие, разъединение (разрыв) потребностей общества и способов их удовлетворения, употребленных властвующими институтами и оппозиционными группировками (ведь они все полагали и полагают себя реформаторами).
Уже в самом начале реформ сложилась ситуация, с одной стороны, камуфлирования глубинных, имманентных противоречий, а с другой – акцентирования, выпячивания поверхностных, внешних. Вследствие этого сущностные (социальные) проблемы были искусственно подменены производными (институциональными). То есть социальные проблемы были сведены к их политизированным модификациям (борьба за власть и политические институты, за парламентские места и административные должности, за прессу и т.п.). Отсюда и социальный потенциал общества в значительной степени оказался отвлеченным от решения положительных (социальных) задач и искусственно вовлеченным в разрушительную (политическую) конфронтацию экстремистских институтов и группировок.
Политическая конфронтация в сфере власти с самого начала дополнилась и все более усугублялась межгрупповым противоборством в сфере экономики. Получилось так, что и экономическая жизнь общества оказалась предельно политизированной: она именно политико-экономическая (традиционная формулировка), но отнюдь не социально-экономическая. Стало быть, из экономики выхолощено ее социальное содержание, т.е. игнорированы ее живая душа, суть и целевая функция.
В самом деле: едва ли не все проблемы экономики сводились к распределению и перераспределению, к коммерциализации и приватизации, а то и к «явочному захвату», ранее созданных ценностей и пока еще имеющихся ресурсов путем превращения их в товарные стоимости. Короче, наращивался «теневой капитал», который, впрочем, уверенно был легализован с помощью услужливых политико-юридических законов и нормативных циркуляров. Ценности, предназначенные для производственного и социального потребления, обращались не просто в товар как таковой, но и в валютные накопления. Такая же судьба все больше настигала и ценности сугубо духовные и нравственные, даже непосредственно социальные, человеческие. Все это осуществлялось преимущественно политизированными институтами, группировками и персонами, к тому же – политическими методами и средствами.
Словом, экономика предельно политизируется, политические и товарно-финансовые структуры и механизмы соединяются и сращиваются. Власть и собственность вступают в «законный брак» и начинают уверенно, самодовольно и нагло господствовать над социальными ценностями и процессами во всех формах их жизненного проявления – материальных и духовных, нравственных, непосредственно человеческих и т.п. Тотальный механизм «политизация деполитизация» уже действует как монопольный механизм «политизация приватизация» или «политизация капитализация». Вследствие этого процесс собственно экономического производства и воспроизводства (функциональное предназначение экономики), а тем паче процесс социального воспроизводства в сфере экономики (ее сущностная и конечная цель) ушли на задний план и оказались едва ли не в катастрофическом состоянии.
В самом деле. С одной стороны, абсолютное большинство (в этом вряд ли кто сомневается) нас, сограждан, - тех, кто всегда был занят положительной жизнедеятельностью и никогда не стремился в «высокие политические сферы», - непрестанно испытывает человеческую потребность в радикальных реформах, направленных на улучшение нашей убогой жизни (как «дореформенной», так и «пореформенной»). Взятое в таком количестве, это «абсолютное большинство» радикально по самой своей сути, по способу жизнедеятельности. С другой же стороны, абсолютное большинство (как теперь уже ясно эмпирически) функционального корпуса реформаторов, т.е. тех, кто специально занят реформаторской деятельностью (призван или избран именно для такого дела), - вот это-то «абсолютное большинство» устроило такие радикальные реформы, которые повлекли не улучшение, а ухудшение нашей и без того убогой жизни.
Получилось все наоборот, поскольку призванные и избранные народом радикальные реформаторы действуют вопреки потребностям народа и против него. Если это так, то кто же в этом виноват? - Радикальный по существу, по способу своей положительной (социальной) жизнедеятельности народ (то самое его «абсолютное большинство»), призвавший и избравший, казалось бы по своему образу и подобию, радикалов для проведения реформы? -Да, поскольку он ошибся в своем выборе. Радикальные реформаторы? - Да, поскольку они обманули большинство народа дважды: и при получении мандата на проведение реформы, и в процессе ее проведения™
Суть дела, однако, гораздо сложнее и запутаннее: тут и «тени», и «мрак», и «темнота»; а разглядеть, отыскать и увидеть во всем этом состоянии теплящийся и созревающий в глубине свет истины - дело не из простых. Ведь «радикальные» реформаторы сваливают свою вину перед народом на «либеральных» реформаторов и еще пуще - на «контрреформаторов», «консерваторов», на «правых» или «правоцентристов», а то и на самого «его величество» народ (за его «темноту», «пассивность», «неразумность», «непокладистость»™ «безмолвие»). Все другие разновидности реформаторов обвиняют «радикалов» и вообще друг друга, а то опять же и народ (за его «бунтарство», «митинговщину»™ и уже упомянутые «грехи»).
Так нет же: продолжает покорствовать и даже потворствовать народ-то. А всяким «реформаторам» это как раз и наруку: они продолжают реформировать жизнь народа и общества все на тот же свой манер, да все от имени и в интересах того же народа, да при его поддержке и одобрении; словом - как законные избранники того самого народа-избирателя. А ведь поддержка и одобрение народа-избирателя ох как нужна; правда не в интересах его самого - народа (об этом можно сказать в очередной речи), но в целях дискредитации своих политических противников и спасения своего падающего рейтинга; а там, глядишь, и дальнейший рывок получится к следующим ступеням на пирамиде власти и собственности™
Вот в таком-то терпении и потворстве политизированной игре в реформаторство состоит другая половина греха народа™ Нет, не перед «реформаторами», а перед самим собой. А это уже - грех вдвойне, причем едва ли поправимый, стало быть, непростительный™
Вот и получается нечто вроде: всякий народ заслуживает того правительства, какое он имеет (приоритетность относительно этой формулы отдают то Жозефу де Местру, то Гегелю). В устном говоре формула звучит еще радикальнее: каждый народ достоин своего тирана. Но в обеих редакциях она многозначна. Например: правительство ведь тоже должно соответствовать (быть достойным) своему народу, «заслужить» свой народ и «служить» ему (а не, скажем, мстить).
И все же социальной основой и сутью названной формулы и всех ее модификаций желательно бы полагать одну – универсальную, первичную (формулу всех формул), «генетическую». Например: народ должен быть достоин самого себя, т.е. быть самим собою; или относиться к себе самому именно как к народу, то бишь находиться в состоянии социального отношения прежде всего с самим собою; а потом уже народ именно как народ должен соответственно относиться и к своему правительству, т.е. вступать с ним в отношения «вторичные», производные от «первичных». Ведь ежели нет такого «первичного» (социального) состояния «народ как народ», то нет и не может быть народа как такового – в социальном его качестве. А тогда нет и не может быть правительства как «момента» народа…
Кстати сказать, диалектика (такое слово здесь уместно) системы «народ– правительство» достаточно тонко раскрыта уже Жан-Жаком Руссо в трактате «Об общественном договоре» (задолго до Гегеля и точнее, на наш взгляд). По Руссо, отношение народа к самому себе (т.е. как к народу) образует народа-суверена, народный суверенитет и державу (государство как целое). А правительство в этом случае – лишь «служитель» суверена. Образуется же оно (правительство) как результат отношений суверена с подданными (правительство, стало быть, опосредованное, «вторичное» звено в системе «суверен подданные»)…
Где ж тут народ в его социальном качестве? Где ж тут правительство в его политическом качестве? Где они, достойные друг друга? – Да нет же в такой суете-сует ни того, ни другого: они растерялись, потерялись и рассыпались в этом дурном круговороте…
Может быть, такое суррогатное состояние (показанное здесь, разумеется, лишь частично) как раз и является уже самое по себе общей, коренной предпосылкой социального обновления общества? – Именно так оно и есть. Ведь коренная предпосылка изменения (оздоровления или одряхления) какого-то определенного состояния отнюдь не пребывает и не может пребывать где-то вне самого этого состояния, за его пределами. Подобно тому, как (здесь такая аналогия позволительна) предпосылкой выздоровления или хирения больного организма является именно его отчасти здоровое и отчасти болезненное состояние. То есть состояние и уже не вполне здоровое и еще не совсем мертвое, но являющееся состоянием оживления и омертвления, имманентного сосуществования и противоборства здорового и нездорового, в конечном счете – жизни и смерти. За пределами, вне организма, оказавшемся в таком состоянии, могут быть лишь потенциальные факторы (средства) воздействия на данный организм (допустим, препараты), причем – возможного воздействия именно извне.
Инъекция – не предпосылка лечения организма, а внешнее средство, вводимое извне. Это внешнее средство может лишь стать моментом (лишь одним из моментов) внутреннего состояния организма. Однако каким «моментом»: жизнетворящей тенденции или болезнетворной, омертвляющей? – вот в чем вопрос. Отсюда и сама инъекция будет либо внешним содействием оздоровлению внешними средствами, либо внешним же содействием омертвлению внешними средствами. В последнем случае инъекция есть не что иное, как внешнее вмешательство (интервенция), насилие над больным организмом. Да не вообще – над организмом, но конкретно – над его внутренним животворящим потенциалом. Стало быть, такая инъекция и вводимое в организм средство окажутся внешними «союзниками» (помощниками) внутренних омертвляющих хворый организм сил…
Было бы сверхнаивным прибегать к этой схематично простой аналогии, если бы… Если бы она не намекала прямо и непосредственно на искусственно и чрезмерно усложненные, нарочито (или по «простоте душевной»?) запутанные мотивировки наших «реформаторов» и их ученых советников, так усердно обосновывающих необходимость всякого рода внешних «инъекций» во внутренние предпосылки нашего кризисного состояния. Если бы не предпринимались азартные попытки «накинуть тень на плетень», т.е. завуалировать всем понятные истины о первостепенной и решающей значимости для социального оздоровления общества именно внутренних его предпосылок. Если бы не затенялись и не затемнялись они, и не подставляли (пользуясь «теневой темнотой») вместо них внешние, нередко заведомо чуждые нашему народу, «предпосылки» выхода из кризисного состояния и социального оздоровления общества…
Вернемся, однако, к исходному тезису: нынешнее суррогатное состояние нашего общества является действительной, наиболее общей имманентной предпосылкой его (общества) оздоровления; вне этого состояния нет и не может быть предпосылок ни для выхода из кризисного состояния, ни для дальнейшего развития… Хотя способствующие оздоровлению нашего общества факторы (средства) и способы (методы) их использования в наших и нами же проводимых преобразованиях могут и должны быть получены на взаимно приемлемых условиях и извне. Но такие внешние средства и способы должны быть целесообразным и эффективным дополнением к нашим внутренним, разумеется, жизнеспособным средствам и методам (а не подменой их), должны адаптироваться к внутренним условиям и возможностям…
В общей родовой предпосылке оздоровления общества, имманентной его действительному состоянию, очевидно, содержатся специфические (видовые) предпосылки, как многообразные модификации, способы проявления и реализации общей. Проблема заключается в том, чтобы все жизнеспособные внутренние предпосылки общества задействовали, т.е. перешли из потенциального состояния в актуально и перспективно реальное. Такой процесс обновления (оздоровления) общества – не что иное, как процесс его самообновления. Тем самым этот процесс не может быть не чем иным, как процессом имманентным, идущим из глубинных истоков и пластов общества, т.е. процессом социальным, социализацией общества и человека…
В заключение же отметим лишь следующее: имманентные предпосылки социального обновления нуждаются в раскрепощении и в положительном, т.е. социальном же, стимулировании; однако это возможно лишь на основе их углубленного (как они того заслуживают) познания. В таком деле решающая роль должна, очевидно, принадлежать не официальным политикам и политологам и не официозным оппозиционерам. Но тем слоям отечественной интеллигенции, которые являются создателями и носителями ценностей именно отечественных, вытекающих из исторических истоков и глубинных пластов положительного способа народной жизни.