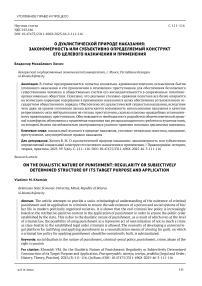О дуалистической природе наказания: закономерность или субъективно определяемый социальный конструкт его целевого назначения и применения
Автор: Хомич В.М.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка социально-криминологического осмысления бытия уголовного наказания и его применения в отношении преступников для обеспечения безопасного существования человека и общественных систем его жизнедеятельности в современных политико-организованных обществах. Показано, что реальная уголовно-правовая политика все более опирается на возмездно-карающее содержание в применении наказания в целях обеспечения установленного государством общественного порядка. Обусловлено это дуалистической сущностью наказания, вследствие чего даже на уровне уголовного закона допускается возможность использования наказания в качестве репрессивного акта нейтрализации не столько преступления, сколько классово-враждебных установленному правопорядку преступников. Обосновывается необходимость разработки общечеловеческой правовой платформы обоснования и применения наказания как ресоциализационного средства искупления вины, на которой должна последовательно выстраиваться уголовно-правовая политика применения наказания.
Социальный дуализм в природе наказания, уголовно-пенальная политика, наказание, преступление, злоупотребление правом наказания
Короткий адрес: https://sciup.org/14134024
IDR: 14134024 | УДК: 343.346 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-111-116
Текст научной статьи О дуалистической природе наказания: закономерность или субъективно определяемый социальный конструкт его целевого назначения и применения
Криминологическая и уголовно-правовая наука пока без особого успеха пребывает в поиске как действительного преступлении, так и справедливого и разумного наказания для человека за совершенное преступление для обеспечения его же безопасного существования в политико-организованном обществе. Реальная уголовно-правовая политика все более опирается на возмездно-карающее содержание в применении наказания в целях обеспечения установленного государством общественного порядка. Отчасти это обусловлено угрожающей до возникновения военных конфликтов нынешней ситуацией в межгосударственных отношениях, но все-таки не настолько, чтобы перестраивать уголовно-пенальную политику и систему уголовной юстиции для нужд чрезвычайного обеспечения государственной безопасности. В конечном итоге, это и обнажило изначально дуалистическую природу наказания: с одной стороны, как устрашающе-возмездное карательное средство обеспечения должного для государства общественного порядка и поведения членов общества, а, с другой стороны, как карательно-исправительное средство воздействия на правонарушителя в целях его возможной ресоциализации. Законодательная и судебная политика в области обоснования применения наказания на протяжении всей человеческой истории наглядно демонстрировала эволюцию взаимодействия указанных контентов наказания, равно как поглощение одним другого как в политике применения наказания, так и в истории уголовно-правовой науки о наказании. Вследствие таких исторических колебаний на уровне уголовного закона постепенно формировалась идея возможности использования наказания в качестве репрессивного акта нейтрализации не столько преступления, сколько «определенно идейных преступников». Соразмерность наказания совершенному преступлению в этих случаях игнорировалась, а само наказание сводилось к изоляции правонарушителей от общества на относительно длительный срок. В целом такие колебания в применении наказания негативно отражались на право интегрирующей судебной практики индивидуализации наказания и сдерживали применение альтернативных наказанию мер уголовной ответственности. Снижалась и эффективность применения наказаний, как связанных, так и не связанных с изоляцией осужденного от общества, в предупреждении преступности. До настоящего времени не создана система постпенальной социальной адаптации осужденных, которая будет содействовать возвращению правонарушителей в лоно свободного правомерного выбора и поведения с позиции сбалансированного обеспечения как общей (государственной) безопасности, так и с позиции обеспечения безопасности человека и общества. Посему необходим поиск реальной правовой платформы обоснования применения наказания как ресоциализационного средства искупления вины , на которой должна последовательно выстраиваться уголовно-правовая политика применения наказания.
Материал и методы
В ряду проблем, имеющих сегодня более чем решающее значение для исправительно-наказательной системы в любом обществе, является вопрос: как подготовить преступника, причинившего зло обществу и государству и находящегося в состоянии наказанности, к его возвращению в общество, и способно ли общество в лице государства в созидательном и позитивном контексте добиваться этого. Над этим ломали и продолжают ломать головы мыслители во все времена. Для обеспечения достоверности обозначенных проблемных положений в учении о наказании следует исходить из ведущей роли в этом человеческого фактора (человека) в формировании состояния и идеологии покаяния посредством применения наказания за греховные дела свои и других. Учение о наказании и его рациональное ресоциализирующее применение должно выстаиваться на антропологической концепции права, основываться на познании человека как основного субъекта и творца общественных и правовых ценностей и систем прошлого и нового времени [9, с. 48–83], в том числе как осознаваемо виновного и ответственного за учинение недолжного и поэтому заслуживающего наказания для себя.
Описание исследования
Наказание не должно восприниматься наказанным человеком как нечто внешнее по отношению к нему, оно должно восприниматься как собственное наказание за собственное преступление — то есть преступление, которое признается таковым самим наказанным, а не только уголовным законом. В основу такого диалектического подхода к определению состояния нака-занности человеческого общественного бытия положен так называемый конструктивистский метод познания социальной и публично-правовой сущности наказания, исходя из его изначально дуалистической по происхождению и последующему использованию в обществе для обеспечения безопасного поведения человека. «Прежде чем в человеке блеснула первая искра уразумения, почему и для чего существует наказание, оно уже давно существовало и действовало» [4, с. 764], появляющееся из биологического рефлекса, служащего глубоко личностной основой инстинкта самосохранения и осознаваемого ответа (реакции) на раздражение, последовавшее извне [7, с. 13]. В настоящее время вследствие естественной дуалистической природы наказания, оно, вследствие так называемой новой криминализации, породившей деструктивную уголовно-правовую неопределенность в отношении социальных ценностей, защищаемых преступлением и наказанием, все более перестает быть соразмерным воздаянием за нравственную вину человека, породившего соответствующее преступление. Фаза на нравственно-правовое искупление вины посредством наказания за причиненное обществу злодеяние (действительное преступление) уступила место новому совокупному состоянию и целеполаганию в наказании — переходу его из превентивно-караю- щего в репрессивно-карающее состояние. Не думаю, что такие изменения пенально-правовой и судебнопенитенциарной политики отвечают современной преступности, ее социально-биологической природе по происхождению и воспроизводству, хотя бы потому, что право наказания ныне безраздельно и исключительно принадлежит государству. В силу этого и в социальных практиках использования наказания в целях противодействия преступности, и в уголовно-правовой науке мы достигли такой социальной разбалансированности в понимании преступления и наказания, в их легитимации, что вот так просто преодолеть в условиях эскалации чрезвычайных ситуаций усиливающиеся репрессивные начала в понимании наказания и их употребление в отношении лиц, совершающих преступления, невозможно.
Такое обращение с уголовным законом, отмечают М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин, есть особый симптом бессилия власти, имеющий свои причины, проявления и последствия, в том числе в контексте эскалации репрессивных начал в применении наказания. «Проявлением бессильного обращения с уголовным законом … признаются масштабная криминализация неопасных и малоопасных деяний, практика конструирования многочисленных специальных норм, неспособность власти оценить реальную опасность криминализированных деяний в санкциях, возврат к прошлым и устаревшим правовым конструкциям, подмена целей наказания», провозглашенных в уголовном законе. В ряду последствий обращения к уголовному закону от бессилия решить социальные проблемы иными средствами названы сокращение границ свободы в обществе, возникновение страха перед уголовным законом, рост объемов формально преступного поведения [3, с. 419]. «Уголовный закон и его острие — наказание (репрессия) «на своей сцене» выступают не только как концентрат силы, легитимирующей государственную власть, как наглядная иллюстрация ее возможностей, но и одновременно как инструмент насилия, которое используется властью для поддержания установленного порядка и утверждения необходимых политическим элитам перспектив» [3, с. 420].
Наказание было и «остается, по справедливому утверждению И. М. Рагимова, стоглавым существом со многими ликами и немногими постоянными именами». Поэтому разрешение сегодня важнейших кризисных проблем бытия наказания (существе и целях наказания для предотвращения подобных негативных для общества явлений) возможно при одновременном изучении причин преступного поведения человека [7, с. 15]. При этом в формировании объективно и субъективно справедливого и ресоциализационного по содержанию и назначению института наказания первостепенное значение имело и имеет положение человека в государстве вообще и в системе социального контроля за системой интеграции права в уголовное право посредством установления наказания за совершение действительных преступлений (деяний, представляющих серьезную опасность для человека, и сформированного при деятельном участии граждан общественного и публичного правопорядка). Не иначе как такое «действительное преступление, по известному выражению К. Маркса, предполагает определенную меру наказания» [6, с. 124].
Только в процессе такого методологического прочтения и понимания преступления и наказания возможно постижение новых граней современной и пока, смею утверждать, критической онтологии современного уголовного права в его трактовке и преступления, и наказания. Хотя преступность есть продукт общества, выражающий то или иное его идеологическое отношение к социальным девиациям со стороны членов общества, тем не менее, «объяснение преступления исключительно в качестве социального конструкта, как справедливо замечает Х. Д. Аликперов, давно развеяно в криминологии и не воспринимается как «satis constat», так как, во-первых, по сей день в теории криминологии нет вразумительных ответов на вопрос о происхождении преступления (преступности)», … во-вторых, наряду с преступлениями, порождёнными обществом (законодателем), существуют и естественные преступления (к примеру, убийство из корыстных побуждений, кража с целью обогащения, изнасилование и т. д.), которые известны с момента сотворения человека ...» [2, с. 40]. Преступление как индивидуальный общественно опасный поведенческий акт человека оформилось гораздо раньше, чем это было зафиксировано в позитивном праве, порождённом человеком в рамках созданного им государства. Наряду с так называемыми естественными и абсолютными по законодательной оценке преступлениями, существуют преступления, и их большинство в системе современного уголовного закона, сконструированные публичным правом. Это преступления в сфере экономической деятельности, должностные преступления, преступления против интересов службы и т. п. Они сконструированы по воле государства для защиты человека, общества и самого государства. И здесь все зависит, в том числе и пределы преступного деяния, и характер наказуемости (ресо-циализационная или репрессивная направленность применения наказания) от гармонии частных интересов большинства членов общества с интересами властвующей и управляющей публично и экономически элиты государства по всем направлениям социального управления обществом. К сожалению, не все здесь в порядке… Отсюда непонятные и необъяснимые зачастую с правовых позиций реформации, которые происходят по всему спектру криминализации /декриминализации и пенализации/депенализации в области совершенствования уголовного закона. Уже более чем очевидно, что необходимо изменение оценочной парадигмы обоснования и признания соответствующих деяний правомерными или правонарушающими (преступными и не преступными) и, прежде всего, в контексте объективного обоснования применения мер наказания по системе ресоциализационного предупреждения совершения повторных преступлений. Сегодня, к сожалению, вводимые государством нормативы криминализации и пенализации выходят за пределы разумного их понимания как уголовно-правовых. Все чаще даже на обыденном уровне возникает сомнение не только в обоснованности применении наказания за отдельные преступления, но и вообще в наказуемости некоторых из них. Мы все более ощущаем отсутствие единства в мировоззренческих и методологических представлениях и подходах относительно оценки содержания защищаемых уголовным правом посредством преступления и наказания базовых ценностей, которые еще в недалеком прошлом фундаментально и более или менее однозначно определяли социальное и правовое предназначение и употребление уголовного права в сфере обеспечения безопасности общества и государства [14, с. 41–47]. Теперь мы наблюдаем множество преподносимых нам, в том числе извне, ценностных установок уголовно-правового свойства, непонятных по идеологическому содержанию и смыслу, между которыми разворачивается разрушающая правовые начала уголовного права конкуренция, в том числе и в правоприменительных структурах уголовной юстиции.
Всем хорошо и давно известно, что наказание — насильственно-карающая мера воздействия на человека и по своей сути оно всегда кара и ничем иным быть не может. Конечно, это не лучшее в социально исправительном отношении средство (в воспитательном и педагогическом отношении) предупреждения преступника от повторения преступления, тем более его исправления, но необходимое, и последнее не подвергается сомнению. Задача уголовно-правовой науки и состоит в том, чтобы, учитывая все современные знания о человеке, выработать и принять своеобразную дифференцирующую и ориентирующую на современную типологию преступлений и преступников концепцию применения наказания на принципах ресоциали-зационной кары (своеобразный кодекс императивных принципов применения наказания). Этот вопрос нам представляется ключевым, поскольку все, что сегодня прописано в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах относительно обоснования назначения наказания и целей его применения, общих начал его назначения (индивидуализации), на практике реализуется избирательно и пока воспринимается как декларации о намерениях или пожеланиях. В свое время К. Маркс хорошо сказал, что наказание только тогда становиться действительным, когда осознается наказанным как его собственное наказание, а не наказание, придуманное для него государством. Это очень важно, поскольку человек и только человек является социализированной роженицей как собственного преступления и наказания, так и объектом защиты от собственного преступления и наказания. И не учитывать этот философский смысл и общечеловеческий контекст в определении того, что должно быть преступным (преступлением) и каким должно быть наказание, уже невозможно и небезопасно. Человечество вступает (уже вступило) в иной мир цивилизационной оценки и человеческого измерения происходящего с нами и вокруг нас. В дискурсе обозначенных проблем следует обратить внимание на диссертационное исследование Н. А. Крайновой, которой удалось обозначить комплекс проблем, связанных с разработкой и обоснованием концептуальных основ противодействия преступности на основе закономерностей теории противопреступной социализации (ресоциализации) преступников в условиях современного информационного общества [5].
Кстати, эта проблематика касается давно выработанных наукой и практикой положений, имеющих существенное значение в деле эффективного предупреждения старой и новой (современной) преступности. Уместно в связи с этим напомнить о некоторых положениях так называемой правовой платформы «новой социальной защиты», автором которой является Марк Ансель. «Нам действительно казалось возможным и вместе с тем необходимым разработать, пишет он, систему, которая, продолжая сохранять динамизм движения социальной защиты, не делая из него разрушения, — систему, которая в свете достижений современной науки и развития позитивного уголовного законодательства стремится включиться в существующее уголовное право, чтобы преобразовать его, но никак не отказаться от него и даже сохранить его основную ценность — выражение идеи правового государства. Вот что означает наша формула «новая социальная защита» [1, с. 11]. Концепция новой социальной защиты признает важную роль уголовного права и собственно наказания в системе мер воздействия на преступность и отстаивает необходимость сохранения важнейших институтов уголовного права и принципов, заложенных классической школой уголовного права (законность, субъективное вменение, гуманизация наказания). Особенно важно то, что основу данной теории составляет идея ресоциализации лица, совершившего преступление. Система мер уголовноправового воздействия должна служить не возмездию, не наказанию преступника, а защите общества. В качестве средства защиты выступает нейтрализация агрессивно-насильственных преступников посредством их изоляции от общества или применение наказаний исправительно-предупредительного характера. Во всех случаях акцент, все-таки, должен делаться на ресоциализацию преступника. Такой подход выдвигает на первый план частное предупреждение преступности и гуманизацию системы видов наказания и их применения. В центре внимания применения наказания должна находиться личность преступника, которая нуждается в социализации, а система индивидуализации наказаний должна основываться на тщательном изучении личности преступника при назначении наказания и в процессе его исполнения. Отсюда допущение широкого судейского усмотрения при определении наказания, отведение значительной роли экспертам по вопросам применения к осужденному тех или иных наказаний и альтернативных лишению свободы мер уголовной ответственности по системе испытания (пробации). В какой-то мере эта попытка реализации прогрессивных положений новой социальной защиты была осуществлена в национальном уголовном законе (УК Беларуси) [10; 11]. Так, базовые уголовно-правовые законоположения УК Беларуси ориентируют общество на отказ от назначения уголовного закона (уголовного права) как равнозначного с другими отраслями права средства правового разрешения социальных коллизий и конфликтов, на признание охранительной функции уголовного закона в качестве исключительного средства защиты безопасности человека, его прав и свобод, экономических и социальных отношений, национальной государственности на принципах верховенства (приоритета) прав человека и гражданина. Принципиально по-новому УК Беларуси разрешает проблему основания уголовной ответственности, отказываясь от традиционного понимания «состава преступления». В качестве основания уголовной ответственности определяются объективные и субъективные свойства уголовной противоправности деяния, как общественно опасного и поэтому запрещенного уголовным законом. Основание уголовной ответственности в онтологическом и правовом отношении сориентировано на состав признаков общественно опасного деяния (не преступления), идентифицирующих его объективную и субъективную преступность и наказуемость. При этом УК исходит из презумпции, что уголовно-противоправными объявляются в законе только общественно опасные деяния, если не установлено иное. И возможность такового (иного) установления (оспаривания) предусмотрена в системе уголовного преследования и правосудия (в уголовном и уголовно-процессуальном законах). В этих целях УК (ч. 4 ст. 11) определяет понятие малозначительного деяния исключительно с материально правовых позиций как деяния, не являющегося по характеру опасности и (или) опасности причиняемых последствий преступным деянием. Впервые на постсоветском пространстве в УК устанавливается в нормативном виде правовая конструкция уголовной ответственности и система мер (включая наказание), составляющих и адекватно выражающих объективную реальность данной ответственности, в том числе развернутая система мер уголовной ответственности, альтернативных реальному наказанию и, прежде всего, лишению свободы (ч. 1 ст. 46 УК Беларуси). Такой подход основывался на международно-правовых актах, в частности на «Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением» (Токийские правила). Согласно этим Правилам, государствам-членам в рамках их национальных правовых систем было рекомендовано разрабатывать меры, не связанные с изоляцией преступников от общества, чтобы максимально снизить долю тюремного заключения (лишения свободы). Статья 2.7 Токийских правил гласит, что применение не связанных с тюремным заключением мер должно идти по пути (обращаем на это внимание) депенализации и декриминализации.
Рекомендовано учитывать, что выбор не связанной с тюремным заключением мер должен основываться на оценке установленных критериев в отношении как характера и степени тяжести правонарушения, так и личности правонарушителя, целей приговора и прав жертв преступления.
К сожалению, на протяжении вот уже более 25 лет УК Беларуси испытывает разочарование и функциональную нерешительность в применении заложенных в нем указанных правовых стандартов применения наказания и альтернативных ему мер уголовной ответственности, разумеется с учетом изменяющейся современной типологии преступников и преступности [12, с. 265–293]. Проблема состояла и состоит в том, что правоприменительная практика, да и практика последующего законотворчества в реализации обозначенных новелл оказалась неготовой к их правосудному употреблению и по-прежнему руководствовалась директивными установками, которые сводились к системно повторяющимся призывам к усилению борьбы с теми или иными видами преступлений, что превращало наказание в орудие устрашения и, как следствие, в систему насильственного принуждения к безвольному соблюдению установленного правопорядка без должного и необходимого контроля и легитимации указанных процессов и самого правопорядка. При таком бесконтрольном со стороны общества формировании уголовной и судебно-уголовной политики применения наказания оно неизбежно утрачивает не только свое социально-целевое предназначение, провозглашенное в уголовном законе, но и содержательную функциональность как объективной и справедливой меры наказания за совершенное преступление.
Разработанная по инициативе Президента и утвержденная Указом Президента от 23 декабря 2010 г. № 672 Концепция совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения [8], к сожалению, не смогла преодолеть карательно-устрашающий и репрессивный уклон в применении наказания в законотворчестве и в процессе осуществления правосудия по уголовным делам, как и последующие многочисленные системные и бессистемные дополнения и изменения уголовного закона.
Заключение и вывод
Выход из сложившейся ситуации мы видим в обновлении и актуализации на законодательном и правоприменительном уровне социального содержания уголовного права, которое должно происходить на стандартах новой социальной рациональности в строго научном и общесоциальном контексте. Инструментальноправовое обновление содержания уголовного права на стандартах новой рациональности предполагает, во-первых, постоянное и социально контролируемое поддержание состояния исключительности применения функций преступления и наказания и, во-вторых, создание на публичном уровне криминологических программ контроля уголовной юстиции и определения антропологической мерности права в уголовном праве (в преступлении и наказании). Инструментализация уголовного права как процесс социального его совершенствования означает обеспечение средствами системного, в том числе институционального отраслевого и межотраслевого правового регулирования миротворческих изменений в предмете содержания и функциях современного уголовного закона в его исходном естественном (очеловеченном) понимании и с учетом его социально конструктивного целеполагания, ориентированного на гуманитарно-примиренческую ресоциализацию общественно опасных конфликтов и его участников [13, с. 195–196].