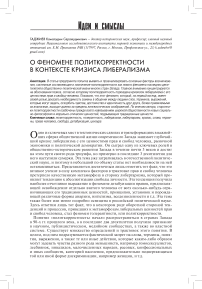О феномене политкорректности в контексте кризиса либерализма
Автор: Гаджиев Камалудин Серажудинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выявить и проанализировать основные факторы возникновения, системные составляющие и назначение политкорректности как нового феномена последних десятилетий в общественно-политической жизни многих стран Запада. Главное внимание концентрируется на обосновании тезиса, согласно которому политкорректность порождена кризисом либерализма с его ценностями прав и свобод человека. Показано, что этот феномен, который, на первый взгляд, имеет своей целью доказать необходимость замены в общении между людьми слов, терминов, выражений, которые могут задеть, оскорбить чувства, достоинство и идентичность друг друга, более приемлемыми их аналогами, выходит далеко за пределы лингвистических соображений. По мнению автора, сторонники политкорректности озабочены прежде всего навязыванием широкой общественности новых социально-философских и морально-этических ценностей, подрывающих традиционные ценности.
Политкорректность, толерантность, либерализм, либертаризм, кризис, слова, термины, права человека, свобода, детабуизация, цензура
Короткий адрес: https://sciup.org/170171052
IDR: 170171052 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6854
Текст научной статьи О феномене политкорректности в контексте кризиса либерализма
О дно из ключевых мест в тектонических сдвигах и трансформациях в важнейших сферах общественной жизни современного Запада занимает глубочайший кризис либерализма с его ценностями прав и свобод человека, рыночной экономики и политической демократии. Он сыграл одну из ключевых ролей в общественно-историческом развитии Запада в течение почти 3 веков и достиг на этом пути своего рода триумфа, но примерно в последние 3 десятилетия для него наступили сумерки. Эта тема уже затрагивалась в отечественной политической науке, и поэтому в небольшой по объему статье нет необходимости на ней останавливаться. Представляется достаточным лишь отметить тот факт, что это великое учение в силу комплекса факторов в трактовке прав и свобод человека претерпело качественную метаморфозу в сторону либертаризма, который проявляет тенденцию к абсолютизации свободы личности. Эта тенденция получила наиболее отчетливое выражение в феномене детабуизации нравов, предполагающей освобождение отдельно взятого человека от всех сколько-нибудь ограничивающих его традиционных ценностей, принципов, установок и порождающей различные формы анархии, нигилизма, вседозволенности и т.д. Эта тема также более или менее подробно освещена в российской политической науке. Здесь отметим лишь тот факт, что в некотором роде оборотной стороной тенденций и процессов, приведших к метаморфозам либеральных ценностей прав и свобод человека, стал феномен толерантности, или политкорректности.
Понятие «политкорректность» начало распространяться в странах Запада в 90-х гг. прошлого века, а в последние два десятилетия получило признание в научном, публицистическом, медийном сообществах, а также во властной системе. Существует множество определений и трактовок этого понятия. В целом, под ним подразумевается фактический запрет на слова, термины, понятия, выражения, а также те или иные действия, которые каким-либо образом могут задевать чувства разного рода меньшинств, например гомосексуалистов, лесбиянок, инвалидов, малочисленных народов, расовых, конфессиональных и иных сообществ, категорий населения, предположительно подвергающихся той или иной форме дискриминации, например женщин, и т.д.
Следует отметить, что политкорректность, возможно, в допустимых пределах – полезная ценность, впрочем, как идеи прав и свобод человека, политической демократии и т.д. Вполне возможно, что зачинатели данного феномена руководствовались благородными намерениями смягчения, даже облагораживания взаимного общения людей, поскольку само по себе уважительное отношение к человеку независимо от его расовой, национальной, культурно-языковой, конфессиональной, гендерной и иной принадлежности представляется самоочевидным, и было бы просто абсурдно как-то это оспаривать. Как справедливо отмечал немецкий аналитик В. Ройтер, родившийся и выросший в ГДР, первоначально предполагалось, чтобы «человек в своих высказываниях и действиях ни в коем случае не задевал или ущемлял право и достоинство другого человека, включая представителей любых меньшинств»1.
Но в тех крайних формах, которые она принимает на современном Западе, она ущербна, и с точки зрения гарантии прав и свобод человека приносит неизмеримо больше вреда, чем пользы. К примеру, феминизм, который действительно сыграл немаловажную роль в легитимации равноправия женщин, в наши дни в некоторых западных странах превратился, как не без некоторого преувеличения выразился один автор, «из борьбы за права женщин… в геноцид мужчин»2.
Исходя из постулата, что сознание человека определяется языком, с помощью которого осуществляется социализация подрастающего поколения, ставится задача «очищения языка» путем вымарывания из письменных текстов и разговорного языка «неудобных», «неполиткорректных», «вредных», с точки зрения ее создателей, слов, терминов, понятий, выражений, задевающих слух «нового человека». Например, не называть евреев – «жидами», а негров – «неграми», мать – «мамой», отца – «папой» и т.д.
В изданную в США книгу «Полиция языка» включены 500 слов и выражений, которые исключены из американских школьных и университетских учебников. В число названных предосудительными, неполиткорректными включены такие, например, слова, как «Бог», «слепой», «старик», «домохозяйка», «сова», «библиофил» и др. Многие слова, подлежащие исключению из лексикона, Комиссия по вопросам предвзятости и щепетильности отнесла к категории «необъективных» и «предвзятых». Считается, что слова и выражения вроде «яхта» и «игра в поло» могут задеть достоинство лиц, не принадлежащих к элите; «глухой» и «хромой» унижают инвалидов; «Бог» и «рай» – атеистов и т.д. Взамен слова «инвалид» предлагаются как бы нейтральные слова «поврежденный», «ущербный», «человек с ограниченными возможностями» и др. В США слово «негр» заменили сначала на «цветной человек», потом на «негроид», затем – «черный» и, наконец, «афроамериканец». В Германии все студенческие организации в законодательном порядке должны называться «организациями обучающихся», что призвано не допустить несправедливости в отношении студенток. «Традиционную выпечку под названием “Голова мавра” или блюдо “цыганский шницель” предлагают не готовить под этими названиями»3.
Предпринимаются попытки вычеркнуть из классических произведений (например, слово «негр» из романов Марка Твена), из кинематографа и даже из мультфильмов слова, выражения, сцены, даже шутки, которые, как считают сторонники политкорректности, могут задевать чувства тех или иных наро- дов, сообществ, меньшинств и т.д. Многих писателей по такому показателю причисляют к списку неполиткорректных. Во многих странах Запада считается непозволительной неполиткорректностью поздравлять друзей, близких с Рождеством, устанавливать и наряжать новогодние елки, праздновать Рождество, Новый год и другие традиционные для христианского мира праздники.
Предлагается заменить используемые в течение поколений слова и понятия теми или иными их аналогами, явочным порядком объявленные политкорректными. К примеру, умственно отсталых предлагают назвать «умными в иной форме». Некорректным считается суффикс - man , указывающий в английском языке на половую принадлежность мужчин, например, в таких словах, как chairman (председатель), policeman (полицейский), fireman (пожарный) и др. Их предложено заменить нейтральными аналогами соответственно chairperson , police officer , firefighter .
Во многих западных странах не только в средствах массовой информации, публицистической и даже научной литературе, но также в официальных документах законодательно слова «муж и жена» заменены словом «партнеры», мать и отец – на «родитель № 1 и родитель № 2». Такую замену в 2011 г. госдепартамент США предложил внести в свою официальную документацию. Такие же решения приняты или же их собираются принять в других странах, а также на международном уровне. К примеру, в Европарламенте с 2009 г. в отношении женщин, дабы не задевать их достоинство, запрещено использовать вежливые слова «мисс» и «миссис». По этому же принципу во Франции нельзя использовать слово «мадемуазель». Впрочем, число слов, терминов, выражений, включенных в перечень неполиткорректных, множество, и число подлежащих включению в него постоянно растет.
Как представляется, нет надобности перегружать читателя их дальнейшим перечислением, поскольку приведенные данные дают представление о масштабах и сути рассматриваемого феномена. В этом контексте лишь с серьезными оговорками можно согласиться с С.Г. Тер-Минасовой, которая рассматривает политкорректность как исключительно лингвистический феномен, призванный предложить новые способы выражения взамен тех, которые могут тем или иным образом задеть или оскорбить достоинство человека в плане расовой, национальной, конфессиональной, половой и иной принадлежности, физических данных, социального статуса и т.д. [Тер-Минасова 2000]. Однако, как представляется, данный феномен затрагивает не просто корректность в смысле запрета тех или иных слов, терминов, названий, считающихся в тех или иных кругах, коллективах, сообществах неуместными, некорректными, задевающими чувства людей, к которым они применяются. Будучи порожденным сдвигами в общественной жизни, он содержит коннотации морально-этического и социально-философского плана.
Речь идет, по сути дела, о своеобразной общественной цензуре на выражение отдельно взятым членом общества или коллективом их реального мнения о тех или иных явлениях, событиях, проявлениях и т.д. общественной жизни. Здесь можно согласиться с С.А. Строевым, по мнению которого, политкорректность служит в качестве «метода реформирования внутреннего мира человека и самой структуры мышления путем выведения ряда слов и понятий из языка либо мутации их значений» [Строев].
Здесь язык оказывается как бы вывернутым наизнанку и мутирует в оруэлловский новояз с его двоемыслием. Подобная мутация в конечном счете привела к выхолащиванию или даже потере самого духа и сути либерализма. В результате если некогда выражение «непримиримый либерализм» звучал бы как оксюмо- рон, то в нынешних условиях оно отражает реальное положение, в котором это великое учение служит знаменем сил, выступавших против любых форм неоправданных табу и проявлений цензуры, и само стало не просто сторонником, а зачинателем совершенно новой формы цензуры. Во многих случаях речь, по сути дела, идет о внедрении формулы «убить мужчину в мужчине и женщину в женщине», о феминизации мужчин и маскулинизации женщин. Естественно, эти процессы и тенденции способствуют деформации исконно женских и мужских ролей в обществе. В буквальном смысле человеку навязывается выбор не только сексуальной ориентации, но и пола. Именно в таком разрезе можно рассматривать внедрение понятий «родитель № 1» и «родитель № 2». Однако в этом вопросе нельзя не согласиться с французским аналитиком Б. Вержели, который констатирует: человек «рождается не от “родителя № 1” и “родителя № 2”. Он не рождается у нейтральной в половом плане пары, где отсутствуют мужчина и женщина, отец и мать. Лишая отца и мать легального существования, закон рождает несуществующих людей. Реальный отец и мать, получая названия “родитель № 1” и “родитель № 2” становятся вымышленными. А вымышленные – реальными». Поэтому, по мнению Вержели, закон, легитимирующий такое положение, «превращается в безумие… ложь чистой воды»1.
Здесь можно говорить о своего рода «культурной революции», символами которой немецкий аналитик Н. Больц считает четыре установки:
-
1) равенство всех альтернативных жизненных стилей, дискриминировать тот или иной из них является преступлением;
-
2) противник такого уравнивания – расист, ксенофоб и сексист;
-
3) больны не гомосексуалы, а те, кто осуждает их;
-
4) нет какой-либо одной культуры и религии, которые бы превосходили все остальные [Bolz 2009: 29].
Эта установка официально принята во многих государствах Запада большинством политических партий и властных систем, за исключением некоторых правых партий, объединений, союзов (таких, например, как «Альтернатива для Германии», Национальное объединение – Rassemblement national , бывший Национальный фронт, во Франции и др.). Эта позиция как будто призвана обеспечить равенство всех без исключения граждан государства не просто перед законом, а во всех сферах общественной жизни, в т.ч. морально-нравственной. Здесь важно внести одну весьма существенную корректировку. Речь идет, по сути дела, не столько о равенстве, например, между мужчиной и женщиной, сколько об их одинаковости . Имеет место попытка преобразования расовых (переименование негров в афроамериканцев), половых (уравнивание мужчин, женщин и трансвеститов), возрастных (молодые и старики), физических (инвалид и физически полноценный человек) и т.п. признаков в ипостаси абстрактного человека. Как справедливо отмечает известный российский адвокат А. Кучерена, политкорректность «требует от нас поверить, что все люди одинаковы по своим способностям, что все народы внесли равный вклад в развитие человеческой культуры, что ум и глупость, красота и безобразие, добродетель и порок, норма и извращение в равной степени имеют право на уважение»2.
Возникает своего рода политкорректная ортодоксия, которая, по мнению немецкой исследовательницы общественного мнения Э. Ноэль-Нойман, способна возбуждать и направлять демократическое общественное мнение даже против большинства, которое тем самым действительно превращается в «мол- чаливое большинство» [Ноэль-Нойман 1996]. Или же, как отмечает профессор Л. Ионин, «общество начинает рассматриваться как общество меньшинств. Только они претендуют на реальные права, тогда как большинство – только фон для их существования, субстрат, на котором прорастают действующие социальные группы – ортодоксальное политкорректное меньшинство» [Ионин 2010]. По его мнению, политкорректность – это не что иное, как контроль общественного мнения, который направлен против большинства, превращающегося в «молчащее большинство» [Ионин 2010]. Комментируя эти тенденции и процессы, вышеупомянутый Б. Вержели пишет: «…меньшинство заявило о своих правах на общественную мораль и насаждает свои взгляды большинству. Большинство же вынуждено отказаться от своей сути, чтобы соответствовать установленным меньшинством нормам»1. Продолжая эту мысль, Вержели констатирует: «…многие из тех, кто знают сталинскую диктатуру и видят происходящее сегодня во Франции, говорят: “Идеологический климат в современной Франции странно напоминает темные времена коммунизма, через которые нам пришлось пройти. Есть тут и одна тревожная деталь: политики сейчас позволяют себе то, на что никогда бы не решились коммунисты”»2. Вполне соглашаясь с этими оценками, можно привести более соответствующий реальному положению вывод А. Кучерены, по мнению которого, этот феномен «очень напоминает порядки, описанные Дж. Оруэллом в его гениальном романе “1984”, где многие действия никак формально не запрещались, но все знали, что они жестоко караются»3.
Можно утверждать, что здесь мы имеем дело с тенденцией к стиранию той грани, которая отделяет истинную свободу от несвободы, во всяком случае, к ее превращению в весьма тонкую, возможно, неуловимую величину. Если законы юридические, легитимирующие подобные феномены, противоречат законам природы, то законам юридическим, увы, рассчитывать не на что. Можно отменить законом конгресса США или решением ООН закон сохранения энергии, но Вселенной от этого не будет ни жарко, ни холодно. Поэтому, какие бы законы ни принимались соответствующими властями любого государства о разрешении однополых браков, о запрете указания полов мужчин и женщин, ношении девочками платьев в школах, обращении к родителям как отцу и матери т.д. и т.п., они никоим образом не отменят сам факт, что человечество состоит из мужчин и женщин, наделенных соответствующими природными данными, предназначением, соответствующими биологическими, физиологическими, психологическими характеристиками и т.д.
Список литературы О феномене политкорректности в контексте кризиса либерализма
- Ионин Л.Г. 2010. Политкорректность и "общество меньшинств". - Социология: научно-теоретический журнал. № 3. С. 89-102
- Ноэль-Нойман Э. 1996. Общественное мнение. Открытие спирали молчания (пер. с нем.; общ. ред. и предисл. Н.С. Мансурова). М.: Прогресс-Академия; Весь Мир. 352 с
- Строев С.А. В чем смысл политкорректности. С. 235-278. Доступ: http://www.intelros.ru/pdf/Prognozis/3-4_2010/10.pdf (проверено 10.11.2019)
- Тер-Минасова С.Г. 2000. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Слово. 262 с
- Bolz N. 2009. Diskurs über die Ungleichheit. Ein Anti-Rousseau. Muenchen: Wilhelm-Fink Verlag