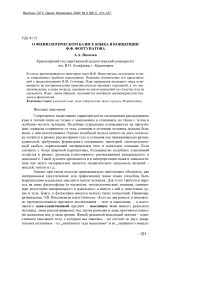О физиологическом базисе языка в концепции Ф.Ф. Фортунатова
Автор: Яковлев Андрей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования по теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые идеи Ф.Ф. Фортунатова, актуальные в свете современных проблем языкознания. Показано соответствие его представлений с представлениями И.М. Сеченова. План выражения языкового знака основывается на воспроизведении произносительно-звуковых ощущений, а это воспроизведение, в свою очередь, основано на связи ощущений по сходству или по смежности. Язык, таким образом, подчиняется основным закономерностям психики и физиологии.
Языковой знак, план содержания, тело и разум, фортунатов
Короткий адрес: https://sciup.org/146281664
IDR: 146281664 | УДК: 81’23
Текст научной статьи О физиологическом базисе языка в концепции Ф.Ф. Фортунатова
Вводные замечания
Современное языкознание характеризуется тенденциями рассматривать язык в тесной связи не только с мышлением и сознанием, но также с телом и особенно мозгом человека. Подобные стремления основываются на презумпции: однажды оторванное от тела, сознание и познание человека должны быть вновь с ним воссоединены. Однако подобный подход ничего не даст, поскольку остаётся в рамках рассмотрения тела и сознания как принципиально разных сущностей, требующих формального соединения, некоторой «методологической скобы», скрепляющей материальное тело и идеальное сознание. Если смотреть с более широкой перспективы, большинство подобных стремлений остаются в рамках дуализма (однозначного размежевания) материального и идеального. Такой дуализм проявляется и в интерпретации знака и знаковости: знак как нечто материальное является «выразителем» идеальных явлений – мыслей, чувств и т.д.
Однако при таком подходе принципиально невозможно объяснить, как материальные (акустические или графические) знаки языка способны быть выразителями идеальных мыслей и чувств человека. Для этого требуется переход на иные философские (в частности, гносеологические) позиции, снимающие дихотомию материального и идеального, а вместе с ней и дихотомию души и тела. Благо, в философии имеется немало таких концепций. Например, развиваемые Э.В. Ильенковым идеи Спинозы: «Есть не два разных и изначально противоположных предмета исследования – тело и мышление, – а всего-навсего один-единственный предмет – мыслящее тело живого, реального человека, лишь рассматриваемое под двумя разными и даже противоположными аспектами или углами зрения. Живой, реальный мыслящий человек – единственное мыслящее тело, с которым мы знакомы, – не состоит из двух декартовских половинок – из „лишённого тела мышления“ и из „лишённого мышле- ния тела“. По отношению к реальному человеку и то и другое – одинаково ложные абстракции» [1: 28–29].
В свете этого возникает необходимость обратиться к трудам классиков языкознания с целью поиска в них идей и суждений, незамеченных или неоценённых на предыдущих этапах развития науки, и с целью переосмысления их в свете новых проблем, концепций, направлений.
Чрезвычайно продуктивным в этом отношении представляется обращение к идеям Ф.Ф. Фортунатова, в пору засилья ортодоксального структурализма обвинённого в «излишнем» психологизме (что не помешало ему парадоксальным образом стать основателем формальной школы). Несмотря на распространённость этих клише, мы берёмся утверждать, что Ф.Ф. Фортунатов был не только психологически ориентированным, но также последовательно и непротиворечиво физиологически ориентированным языковедом.
Отсюда следует, что настоящая статья не ограничивается чисто исторической справкой. Наша задача видится нам помимо прочего в том, чтобы показать языковедам, не попавшим под виляние устаревших стереотипов, важность и актуальность идей классика. Впрочем, автор этих строк не утверждает, что сам понял эти идеи «правильно» или более «правильно», чем кто бы то ни было другой.
Физиологический базис языка
Начать следует с того, что язык, по Ф.Ф. Фортунатову, существует в процессе мышления и в речи, а речь – это процесс выражения мыслей и чувствований. Мышление же состоит в сочетании и соотношении представлений [4: 111]. Язык – не автономная система, имеющая некие собственные, внутренние закономерности функционирования.
«Представлением как известным духовным явлением называют тот след ощущения, который сохраняется некоторое время после того, как не действует уже причина, вызвавшая ощущение, и который впоследствии может воспроизводиться по действию закона психической ассоциации» [Ibid]. Ф.Ф. Фортунатов не говорит в данном случае, какова та причина, которая вызывает это духовное явление, но можно с уверенностью утверждать, что коль скоро речь идёт об ощущениях, то их причина может быть только материальной – воздействие материальных предметов на органы чувств. Важно обратить внимание: такое специфическое духовное (сейчас бы сказали: психическое) явление, как представление, может воспроизводиться, когда уже отсутствует причина, вызвавшая его. Разумеется, в большинстве случаев эта связь духовного явления и его причины более сложна и опосредована, например, когда речь идёт не просто о представлениях, а о понятиях. Но вторые образуются на базе первых, невозможно начать усваивать понятия, не научившись прежде соотносить представления.
Духовные явления суть особые физические, точнее, физиологические явления, а именно следы ощущений от воздействия на тело внешних предметов. В данном случае нет речи о двух параллельных мирах: мире физическом, в котором живут ощущения, и мире духовном, в котором живут идеи. Здесь имеет место монизм: духовные явления – это такие физические явления, которые способны длиться, когда их причина уже не действует, и воспроизводиться при отсутствии их причины или источника.
В интерпретации закона психической ассоциации Ф.Ф. Фортунатов почти дословно повторяет И.М. Сеченова: «Все наши духовные явления (как первичные, называемые ощущениями, так и различные сложные чувствования, а равно и самые представления) способны воспроизводиться по действию этого закона, а именно: духовные явления смежные, т.е. получаемые в опыте вместе или в непосредственной преемственности, способны впоследствии воспроизводить одно другое, и точно так же духовные явления, сходные между собою, способны воспроизводить впоследствии одно другое» [цит. раб.: 111– 112].
Ср. у И.М. Сеченова: «Всякий внешний предмет или явление фиксируется в памяти и воспроизводится в сознании в трёх главных направлениях: как член пространственной группы, как член преемственного ряда и как член сходственного ряда (в смысле рядов наших классификационных систем)» [2: 138].
По закону ассоциации духовных явлений могут соединяться и схожие предметы (точнее, конечно, их представления): «…когда я вижу или представляю себе снег, я могу получить при этом, по действию психической ассоциации, также и представление другого предмета (т.е. воспроизведение ощущений другого предмета), сходного со снегом, равно как и наоборот, ощущение или представление другого предмета, сходного со снегом, способно вызвать за собою представление снега» [4: 112].
В трудах И.М. Сеченова можно найти ту же мысль: «…помимо лёгкости, с какой воспроизводятся в сознании привычные впечатления, они характеризуются ещё тем, что для воспроизведения их вовсе не нужно соответствующего комплекса внешних влияний – для этого бывает достаточно намёка или какого-нибудь побочного впечатления» [2: 110]. Уже приведённых цитат достаточно, чтобы констатировать, что взгляды Ф.Ф. Фортунатова на физиологическую основу психических, духовных явлений (частью которых является язык) совпадали со взглядами основоположника отечественной физиологии и психологии – И.М. Сеченова.
Благодаря этому чувству соотношения между представлениями предметов эти предметы отражаются в сознании одновременно как «части» самого сознания (представления) и как внешние по отношению к сознанию предметы. А благодаря закону ассоциации чувство соотношения между одной парой предметов (или их представлений) может переноситься на другие пары предметов, схожие или смежные с первыми. Существующая объективно связь между предметами отражается в сознании в виде представления, переносится по закону ассоциации на другие предметы и становится субъективной: в новых предметах она как таковая физически не наблюдается, но для сознания (благодаря ассоциации) она вполне реальна.
Речь может идти не о собственно предметах, а о представлениях их отдельных свойств или признаков. Так, услышав слово снег, можно воспроизвести в сознании его белизну и далее – платье невесты, поскольку представления звуковых комплексов (ощущения звуков) являются знаками не только представлений предметов, но и представлений соотношений предметов. Звуки речи могут служить и обычно служат знаками того, что вообще не может быть дано непосредственно в ощущении. [4: 117]. «Понятно, что об отвлечённых предметах мысли мы не можем думать иначе, как при посредстве тех или других знаков… и эти слова обозначают или то, что при этом не представляется непосредственно в нашем мышлении, или то, что не может быть представляемо в мышлении таким, каким обозначается в слове» [цит. раб.: 118].
Точно так же невозможно воспроизвести в определённых условиях ощущение холода. Однако слово холод даёт возможность выражать это ощущение, не испытывая его. Точно так же невозможно представить себе белый цвет, не представив некоторого белого предмета, т.е. предмета, обладающего этим свойством. А слова белый и белизна позволяют соединять в мысли эти свойства безотносительно к каким-либо конкретным предметам [цит. раб.: 118–120]. Разные слова являются знаками предметов, знаками отношений и свойств предметов и знаками собственно наших ощущений.
Коль скоро человек живёт не в мире отдельных предметов, а в мире связанных между собой предметов, то и представления о них (т.е. все вообще представления) связаны в его сознании либо по сходству, либо по смежности. Отсюда до концепции сознания как гиперсети – один шаг. Мы не хотим сказать, что И.М. Сеченов и тем более Ф.Ф. Фортунатов положили начало современной нейронауки, мы хотим обратить внимание на то, что их идеи весьма созвучны положениям самых современных исследований. Тем интереснее и важнее взглянуть на суждения классиков, основанных на интуиции и обобщении, через призму современных данных, полученных из анализа эмпирии. Как невозможно понять искусство эпохи Возрождения, не увидев в нём античные образцы, так невозможно понять прогрессивность современных исследований, не увидев в них преемственности классических идей.
Вернёмся к тексту Ф.Ф. Фортунатова. Что значит, что духовные явления способны воспроизводить одно другое (ключевое слово, видимо, «воспроизводить»)? В сознании человека появляется ощущение холода вместе с ощущением (зрительным) снега. То же самое с представлением (зрительным) снега и представлением (зрительным или слуховым) слова снег . И Ф.Ф. Фортунатов отмечает, что духовные явления способны воспроизводить одно другое, связанное с первым смежностью или сходством, если в данный момент этому не препятствуют какие-то другие условия [цит. раб.: 112–113].
Другие условия могут быть либо психическими (духовными), либо физическими.
Психические причины «нарушения» связи между двумя представлениями – это те же законы ассоциации. Например, представления А и Б связаны между собой, но при возникновении представления А оно воспроизводит вместе с собой не Б, а некоторое другое представление Д. «Таким образом, одно действие психической ассоциации уничтожает собою другое действие психической ассоциации: духовное явление Д в нашем примере получит большую силу или потому, что в прежнем опыте духовное явление Д чаще, чем Б, давалось в сочетании с духовным явлением А, или потому, что оно было сильнее» [цит. раб.: 113].
В чём состоят физические условия, при которых ассоциации между духовными явлениями могут «нарушаться»?
Ф.Ф. Фортунатов особо оговаривает, что при различии духовных и физических явлений первые не существуют без вторых. Он отдаёт себе отчёт в том, что для духовных явлений необходимы физические условия («всякое ощущение предполагает физическое изменение в нервной системе»), поэтому духовные явления связываются по закону ассоциации, насколько это допускают в данный момент физические условия [цит. раб.: 113–114]. Но условия эти весьма динамичны, и если наличные и оригинальные физические условия (состояния нервной системы) не различаются слишком сильно, то духовные явления вполне могут воспроизводиться, хотя наличные условия могут не совпадать в точности с оригинальными.
Ср. у И.М. Сеченова: «…реальное и воспроизведённое чувствования бывают совершенно сходны между собой по содержанию только в крайне редких случаях, потому что в воспроизведении отражается не одна чисто объективная сторона впечатлений, но и та изменчивая умственная почва, на которую оно падает» [2: 126].
Поскольку физические условия одних и тех же духовных явлений могут различаться, можно утверждать, что все наши ощущения и представления в целом одинаково легко воспроизводимы по необходимым для них условиям. А наиболее легко воспроизводятся ощущения зрительные, слуховые и мускульные. Следовательно, говорит Ф.Ф. Фортунатов, представления, существующие в нашем мышлении, заключают в себе как свою неотъемлемую часть «…различные сочетания воспроизводимых зрительных, слуховых и мускульных ощущений» [4: 114]. И это чрезвычайно важно: духовные явления содержат в себе сочетания физических (физиологических) явлений. Но выше было сказано, что духовные явления – это особые, продолжающиеся или воспроизведённые, физические явления. Следовательно, духовные явления содержат в себе и часть наличных условий, часть актуальных ощущений и состояний организма.
Звуки речи представляют собой движения органов речи, и формирование звуков. Вместе с тем человек получает и слуховые ощущения от произносимых им самим или другим человеком звуков. Эти слуховые ощущения отличаются от слуховых ощущений, исходящих от природных объектов, поскольку они являются представлениями звуковой стороны слов, которые в моём сознании соединяются с предметными представлениями, т.е. с представлениями смысловой стороны слов [Ibid].
Представления звуковой стороны слов могут воспроизводить также и движения (либо микродвижения) органов артикуляции. Движения органов речи тоже соединяются со слуховыми ощущениями по тому же закону ассоциации. Поэтому с некоторым духовным явлением оказывается связано целое сочетание движений и / или ощущений [цит. раб.: 115]. Когда человек слышит чужую или собственную речь, в его сознании, пусть и в самой слабой форме, воспроизводятся слуховые и мускульные ощущения. Именно его ощущения, т.е. изменения в нервной системе и в органах, а не собственно раздражения, попадающие на органы, являются физической и физиологической основой индивидуального языка. Именно они являются неотъемлемым компонентом духовных явлений – чувствований, представлений, мыслей.
Вот как сам Ф.Ф. Фортунатов подытоживает эти свои рассуждения: «Итак, представления звуковой стороны слов состоят в воспроизведении мускульных и слуховых ощущений звуков речи, причём способны воспроизводиться и те движения органов речи, которые образуют эти звуки» [цит. раб.: 115–116].
Некоторые выводы
Мы начали с того, что язык, по Ф.Ф. Фортунатову существует в процессе мышления и в речи. Важнейший момент: в процессе мышления и в процессе выражения мыслей и чувствований. А звуковые представления – это воспроизведение (т.е. опять-таки процесс !) мускульных и слуховых ощущений. Язык как комплекс духовных явлений, служащих выражению других духовных явлений (мыслей и чувствований), сводится к физиологическим процессам, причём духовные и физиологические явления подчиняются единым закономерностям.
Разумеется, речь выше шла только о произносительно-слуховой стороне слов (о плане выражения). И в её понимании Ф.Ф. Фортунатов не останавливается на констатации того, что слуховой образ ассоциируется с понятием без объяснения этих двух феноменов, как это делает Ф. де Соссюр (он просто говорит, что слуховой, или акустический, образ ассоциируется с понятием [3: 51–53, 99–100]), но исходит из современных ему положений физиологии и психологии применительно к языку.
Коль скоро звуковые представления суть знаки других представлений, это позволяет Ф.Ф. Фортунатову констатировать произвольность языкового знака (за десятилетие до Ф. де Соссюра): между некоторым звуковым комплексом и обозначаемой вещью нет непосредственной связи, эта связь привносится мышлением (законом ассоциативной связи). Но ассоциативная связь между представлениями слов и предметов настолько сильна (поскольку многократно воспроизводится в сознании), что обывателю она кажется естественной: «Понятно, что в особенности тот, кто знает только свой родной язык, способен получить такие обманчивые впечатления; для такого лица, например, и звуки слова снег являются как бы естественным обозначением снега» [4: 117].
Рассуждения Ф.Ф. Фортунатова о природе языкового знака не вносят в понимание знака никакого метафизического, теистического или мистического компонента. Он не просто констатирует, но и объясняет способность знака указывать на предмет, поскольку идёт от психологии, закон которой гласит: запечатлевается лучше то, что чаще было в опыте. Для Ф.Ф. Форунатова ассоциация образов (представлений) есть, прежде всего, ассоциация ощущений – реальных или воспроизведённых. Дальнейшая дифференциация и усложнение этих ассоциаций выводит человека за пределы непосредственного опыта. Для Ф.Ф. Фортунатова связь знака с предметом не случайна, а закономерна; свойства знака выводятся из общих свойств человеческой психики.
Представление (образ в современной психологической терминологии) – это не вещь, существующая наряду с ощущением, не эпифеномен ощущения, – ощущения являются частью представления, воспроизводимой при актуализации образа. А слово, в свою очередь, имеет собственную чувственную базу (ощущения звуков) и является заместителем, т.е. знаком, для представления предмета. Мышление и речь (выражение мыслей), таким образом, не отчуждается от телесности и не противопоставляются ей.
Список литературы О физиологическом базисе языка в концепции Ф.Ф. Фортунатова
- Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. Изд. 2-е, доп. М.: Политиздат, 1984. 320 с.
- Сеченов И.М. Элементы мысли: впечатления и действительность / Под. ред. К.Х. Кекчеева. Изд. 2-е. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. 224 с.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 696 с.
- Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. В 2 т. Т. 1. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1956. 450 с.