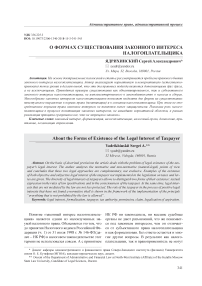О формах существования законного интереса налогоплательщика
Автор: Ядрихинский Сергей Александрович
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Административное право, административный процесс
Статья в выпуске: 3 т.15, 2018 года.
Бесплатный доступ
На основе доктринальных положений в статье рассматривается проблема правового бытия законного интереса налогоплательщика. Автор анализирует нормативную и ненормативную (естественноправовую) точки зрения и делает вывод, что эти два правовых подхода являются дополняющими друг друга, а не исключающими. Приводятся примеры существования как объективированного, так и субъективного законного интереса налогоплательщика, не имплементированного в законодательство о налогах и сборах. Многообразие законных интересов налогоплательщиков позволяет выделить две формы их существования: текстуальное выражение в нормах права (позитивация) и в сознании налогоплательщика. При этом не опосредованные нормами права законные интересы не являются менее защищенными. Показана роль налогоплательщика в процессе позитивации законных интересов, не нашедших нормативной оболочки, в рамках реализации принципа «разрешено все, что не запрещено законом».
Законный интерес, формализация, налогоплательщик, налоговый орган, дозволение, притязание, легализация стремления
Короткий адрес: https://sciup.org/143163733
IDR: 143163733 | УДК: 336.225.3 | DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-3-341-345
Текст научной статьи О формах существования законного интереса налогоплательщика
Понятие «законный интерес налогоплательщика» является одним из малоизученных наукой налогового права. Объясняется это тем, что до принятия Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (далее – НК РФ) в налоговом законодательстве этот термин не использовался совсем. А с принятием
НК РФ ни законодатель, ни высшие судебные органы не дают разъяснений, что же понимается под законным интересом, чем он отличается от субъективного права налогоплательщика и как формализован. Без ответа остаются и многие другие вопросы. В результате как налогоплательщики, так и правоприменитель не могут воспользоваться плодами теории законных интересов, которая способна качественно изменить отношения «налогоплательщик – государство».
Данное обстоятельство является предпосылкой для исследования проблематики законных интересов налогоплательщиков, под которыми мы будем понимать социально определенные и юридически обеспеченные государством правовые дозволения, выражающиеся в правомерных стремлениях налогоплательщика извлекать обоснованную налоговую выгоду или пользоваться иным благом в сфере налоговых отношений в целях удовлетворения объективно необходимых потребностей, обусловленных статусом налогоплательщика.
Один из актуальных вопросов в изучении законного интереса – это проблема его формализации в нормативных актах, или позитивация. В литературе можно встретить достаточно распространенное мнение, что законные интересы налогоплательщика – это «правомочия, прямо не закрепленные законом» [3, c. 131]. Вместе с тем данная позиция нуждается в уточнении.
Действительно, перечень законных интересов налогоплательщиков нормативно не закреплен, как это сделано в ст. 21 НК РФ в отношении субъективных прав налогоплательщика. Но, с другой стороны, в силу широкой вариативности и стохастичности все законные интересы налогоплательщика объективно не могут поместиться в тексте закона.
Еще И. Кант, рассматривая проблему интереса, указывал на осознание субъектом своей мысли, на выражение конкретной воли, определенного стремления: «Интерес есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющей волю» [6, c. 306].
Зарождаясь в сознании налогоплательщика, интерес субъективирован. Законным он является только по мнению самого налогоплательщика, поскольку суть правового дозволения к обладанию искомым благом состоит в отсутствии нормативного запрета на совершение планируемого действия или бездействия. Для налогового органа и законодателя зарождающийся в сознании налогоплательщика интерес к обладанию благами в налоговой сфере всегда скрыт или, по крайней мере, неочевиден. Обнаруживается он моментом своего обозначения, выражения налогоплательщиком своей заинтересованности в обладании тем или иным благом. Законодатель просто не имеет фактической возможности их все заранее предусмотреть и законодательно закрепить. При этом и утверждать, что все законные интересы не формализованы, т. е. находятся за рамками текста закона, было бы неверно.
В тексте нормативного акта также можно встретить объективированный законный интерес. Как правило, он репрезентируется при помощи следующих юридических конструкций: «может быть», «по просьбе кого-то», то есть должен присутствовать момент усмотрения должностных лиц.
Конструирование законного интереса в нормативной модели через такие лексические обороты, как «может быть», «возможно» и т. п., позволило ряду авторов выделить коррупцио-генный характер норм, выражающих законные интересы [12, с. 63]. В основе этого утверждения лежит допущение о вариативности (необязательности) совершения запрашиваемых действий должностными лицами налогового органа, что, с одной стороны, может порождать различные «прейскуранты» и возможности для «монетизированной благодарности» – с другой. Однако подобные ошибки (заблуждения) являются результатом неверного или искаженного представления об обязанностях налогового органа. Компетентный орган, рассматривая то или иное притязание налогоплательщика, в каждом конкретном случае призван дать ему соответствующую юридическую оценку (квалификацию), определить юридическую приемлемость и в случае обнаружения у фактического интереса признаков законности (непротиворечия закону и т. д.) содействовать его удовлетворению. Налоговый орган не может произвольно отказаться от этих действий (оценки и содействия) в силу возложенной на него законом обеспечительной функции (абз. 1 п. 1 ст. 22 НК РФ).
Примером объективированного законного интереса может выступать норма п. 12.1 ст. 77 НК РФ: по просьбе налогоплательщика-организации, в отношении которого было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговый орган вправе заменить арест имущества на залог имущества. Таким образом, налоговый орган может заменить арест имущества на залог имущества. У налогоплательщика есть правовая возможность удовлетворить свой законный интерес при наличии на то оснований. Однако данная просьба налогоплательщика не абсолютна и во многом обусловлена усмотрением нало- гового органа. Налоговый орган может ее удовлетворить, а может и отклонить при отсутствии на то оснований.
Аналогичная конструкция заложена в п. 11 ст. 101 НК РФ, когда в ответ на просьбу заинтересованного лица налоговый орган вправе заменить обеспечительные меры на банковскую гарантию, залог ценных бумаг или поручительство третьего лица.
Формализация законного интереса в нормах налогового права и отсутствие таковой позволяет нам говорить о законном интересе в объективном смысле (т. е. объекте правового регулирования или правовых норм) либо законном интересе в субъективном смысле (объекте юридической возможности определенного налогоплательщика извлекать полезность в налоговой сфере). Поэтому целесообразно выделить две группы законных интересов: законные интересы, которые опосредуются нормами права; законные интересы, которые не опосредованы нормами права.
Соответственно, можно выделить два научных подхода: нормативный и ненормативный. Одни ученые считают, что «законным» интерес становится лишь в результате правотворческой деятельности законодателя [8]. В качестве обязательного требования к такому законному интересу предъявляется его логическая и смысловая завершенность в тексте закона. Отсутствие конкретизации интереса в нормативно-правовых актах и выведение его из «духа» закона является основанием для того, чтобы такой интерес не признавали законным [5, c. 19]. Другие придерживаются мнения, «что законные интересы не получают прямого закрепления в нормах права, но они основаны на конкретной норме, содержащейся в конкретной статье, пункте нормативного акта» [1, c. 9].
Так, Н. А. Шайкенов утверждает, что «правовой признак законного интереса заключается в выражении последнего в норме права, что и обусловливает возможность его юридической защиты» [13, c. 166]. Е. А. Крашенинников отмечал, что охраняемый законом интерес – это законный интерес, получивший признание со стороны закона [7, c. 12].
У В. В. Субочева достаточно противоречивая позиция, не позволяющая определить его к какому-либо лагерю единомышленников. С одной стороны, на протяжении длительного времени многократно в различных трудах он утверждает, что «законный интерес нормой права, в отличие от субъективного права, конкретно не закрепляется. Он лишь ей соответствует» [11, c. 27]. Эта позиция в дальнейшем поддерживается и другими учеными (они охотно ссылаются на этот тезис [2, c. 121]) и рассматривается чуть ли не как аксиома.
С другой стороны, ученый задается все же вопросом, каким образом законные интересы выражены в языке юридических документов, и считает проведение этого исследования необходимым, отводит ему специальное место – целый параграф «4.3. Формы выражения законных интересов в языке юридических документов» и приводит конкретные примеры «юридических конструкций, фразеологических оборотов, которые так или иначе говорят о законных интересах», хотя и приходит к выводу, что «грамотным же употреблением термина «законный интерес» в языке юридических документов пока бравировать рано» [10, c. 389].
В. В. Субочев признает, что не существует «единообразного, унифицированного подхода к формам выражения законных интересов в языке юридических документов». И с этим мы абсолютно согласны. «Смысл соответствующих праву стремлений участников правоотношений, – пишет В. В. Субочев, – может передаваться посредством различных конструкций, для чего и существует разнообразие средств юридической техники» [10, c. 379].
Следует признать, что большинство законных интересов не отражены в нормативных актах. Об этом же говорил Г. В. Мальцев. Он верно отмечал, что недостаточно «относить к законным интересам только те, которые названы в законе, так как количество поименованных в законе интересов значительно меньше всего объема интересов личности» [9, c. 24].
Однако отсутствие нормативно предоставленной правовой возможности осуществления законного интереса нельзя рассматривать в качестве преграды для его реализации. Законный интерес, не нашедший нормативной оболочки, как форма осознанных юридически значимых потребностей суть отношение налогоплательщика к искомому благу как к чему-то для него ценному, привлекательному. В данном случае налогоплательщику как бы самому предлагается поучаствовать в правообразовательном процессе и продолжить нормативный перечень дозволений, наполнив его собственным содержанием, основанном на свободном усмотрении по принципу «разрешено все, что не запрещено законом». Если формализация интереса нормой права – это результат правотворческого процесса сверху (законодателя), то не опосредованный нормой права интерес – это результат правотворческого процесса снизу (налогоплательщика). Именно налогоплательщик своим стремлением к определенным благам формирует правообразующее начало, проявляя свои творческие способности мыслить нешаблонно, принимать нестандартные управленческие решения.
Изобретательность налогоплательщика в достижении благ, его активность отражаются в правоприменительной деятельности налоговых, а затем и судебных органов, что, в свою очередь, является сигналом для законодателя по поддержанию таких инициатив налогоплательщика или пресечению.
Интересы налогоплательщиков могут иметь различную направленность: быть конструктивными и деструктивными. Являясь продуктом сознательно-волевой деятельности, они не избавляют последнего от заблуждений относительно пределов правовых границ дозволения, элементов волюнтаризма и ошибок и т. п. В конце концов, не ошибается тот, кто ничего не делает. Errare humanum est (лат.) – человеку свойственно ошибаться. Негативным следствием таких ошибочных притязаний выступает юридическая невозможность реализовать свой интерес.
Создавая «точки напряжения» в сфере налоговых правоотношений, притязания налогоплательщика выступают не только предме- том налоговых споров и научных дискуссий, но и подспорьем для законотворческой деятельности, являясь, таким образом, катализатором развития налогового законодательства. Будучи не закрепленными нормами налогового права, фактические притязания налогоплательщика через правоприменительное испытание создают основу для законодательного разрешения проблемных зон в системе правового регулирования, формируют внутреннее убеждение законодателя и мотивируют его легализовать стремление налогоплательщика или наложить на него свое вето, признав его неприемлемым.
Пропуская инициативы налогоплательщика через фильтр разумности, добросовестности и справедливости его действий, учитывая правоприменительную оценку, законодатель приобретает почву для внесения соответствующих корректив в законодательство о налогах и сборах. Как отмечает О. Долгополов, Р. Иеринг справедливо полагал, что «борьба субъектов общества за свои интересы – …источник эволюции права...» [4].
Соотнося эти два подхода (нормативный и ненормативный) между собой, полагаем, что они являются не исключающими друг друга, а дополняющими. Принимать лишь одну из обозначенных позиций за истину было бы неправильно. Существование законных интересов возможно как в абстрагированной, так и в казуистической формах, в которых законные интересы не опосредованы и опосредованы нормами права соответственно.
Список литературы О формах существования законного интереса налогоплательщика
- Абрамова О. В. Законный интерес как категория права и специфика его проявления в трудовом праве//Журнал российского права. 2007. № 8 (128). С. 3-11.
- Бармина О. Н. Злоупотребление правом как общеправовая категория: теоретико-правовой анализ: дис.. канд. юрид. наук. Киров, 2014. 195 с.
- Демин А. В. Налоговое право России: учеб. пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. 329 с.
- Долгополов О. Обжалуем решения налоговиков//Российский бухгалтер: электрон. журн. 2011. № 6. С. 84-100. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
- Ерошенко А. Судебная защита охраняемого законом интереса//Советская юстиция. 1977. № 13. C. 18-20.
- Кант И. Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1. 544 с.
- Крашенинников Е. А. Регламентация защиты гражданских прав в проекте Гражданского кодекса Российской Федерации. Ярославль: Ярослав. адвокат. фирма «Лиго», 1993. 32 с.
- Лысухо С. В. Эволюция исследования категории «законные интересы» в юриспруденции//Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 1. С. 82-85.
- Мальцев Г. В. Соотношение субъективных прав, обязанностей и интересов граждан//Советское государство и право. 1965. № 10. С. 19-26.
- Субочев В. В. Законные интересы/под ред. А. В. Малько. М.: НОРМА, 2008. 496 с.
- Субочев В. В. Законные интересы в механизме правового регулирования: моногр./под ред. А. В. Малько. М.: Юристъ, 2007. 188 c.
- Ушаков Р. В. Проблемы реализации законных интересов осужденных//Юрист Юга России и Закавказья. 2016. № 2 (14). С. 61-64.
- Шайкенов Н. А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. 200 c.