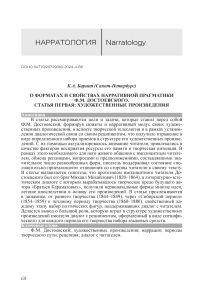О форматах и свойствах нарративной прагматики Ф.М. Достоевского. Статья первая: художественные произведения
Автор: Баршт К.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются цели и задачи, которые ставил перед собой Ф.М. Достоевский, формируя сюжеты и нарративный модус своих художественных произведений, в аспекте творческой телеологии и в рамках установления диалогической связи со своим реципиентом, что получило отражение в виде определенного набора приемов в структуре его художественных произведений. С их помощью актуализировалось внимание читателя, привлекались в качестве факторов восприятия ресурсы его памяти и творческая интенция. В рамках этого необходимого для него живого общения с имплицитным читателем, обмена репликами, вопросами и предположениями, составлявшими значительное число разнообразных форм, писатель поддерживал состояние «положительно-приемлющего» отношения со стороны читателя к своему тексту. В статье выдвигается гипотеза, что прототипом имплицитного читателя Достоевского был его брат Михаил Михайлович (1820-1864), в литературно-эстетическом диалоге с которым вырабатывалось творческое кредо будущего автора «Братьев Карамазовых», получили первоначальные формы многие идеи, легшие впоследствии в основу его произведений. В статье прослеживается в динамике, от раннего творчества (1844-1849), через «Сибирский период» (1854-1859) к позднему периоду творчества (1860-1880), свойственный каждому этапу набор поэтических фигур, поддерживавших диалог с читателем. Делается вывод о большой роли, которую играл в структуре художественных произведений писателя диалог с реципиентом, оформленный в виде специфического для каждого периода его творчества набора языковых средств.
Ф.м. достоевский, художественные произведения, наррация, периоды творческого пути, рецепция, диалог с читателем
Короткий адрес: https://sciup.org/149147134
IDR: 149147134 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-68
Текст научной статьи О форматах и свойствах нарративной прагматики Ф.М. Достоевского. Статья первая: художественные произведения
The article examines the goals and objectives that Dostoevsky set for himself, forming the plots and narrative mode of his artistic works, in the aspect of creative teleology and within the framework of establishing a dialogical connection with his recipient, which was reflected in the form of a certain set of techniques in the structure of his artistic works. With their help, the reader’s attention was actualized, the resources of his memory and creative intention were attracted as perception factors. Within the framework of this necessary live communication with the implicit reader, the exchange of remarks, questions and assumptions, which took a significant number of different forms, the writer maintained a state of “positively acceptable” attitude on the part of the reader to his text. The article hypothesizes that the prototype of Dostoevsky’s implicit reader was his brother, Mikhail Mikhailovich (1820–1864), in a literary and aesthetic dialogue with whom the creative credo of the future author of the Brothers Karamazov was developed, many ideas that later formed the basis of his works received their initial forms. The article traces the dynamics, from early creativity (1844–1849), through the “Siberian period” (1854–1859) to the late period of creativity (1860–1880), a set of poetic figures peculiar to each period, who maintained a dialogue with the reader. The conclusion is made about the great role played in the structure of the writer’s artistic works by the dialogue with the recipient, designed in the form of a set of replicas specific to each period of his work.
K
ey words
F.M. Dostoevsky; works of art; narrative; periods of creative path; reception; dialogue with the reader.
В своем дебютном произведении, эпистолярном романе «Бедные люди», в котором воспроизведены некоторые черты его переписки с братом Михаилом Михайловичем [Баршт 2019, 8–21], писатель активно боролся за насущно необходимого ему для решения творческих задач внимательного и заинтересованного читателя. В ранний период творчества (1845–1849) формы прямых обращений повествователя к реципиенту, направленные на установление с ним близких, доверительных отношений, встречаются во всех его произведениях: «Бедных людях» [Достоевский 1972–1990, I, 63], «Двойнике» книжной [Достоевский 1972–1990, I, 128, 131] и журнальной редакций [Достоевский 1972–1990, I, 348, 356]. В «Господине Прохарчине» повествователь остерегается «наскучить читателю» длиннотами [Достоевский 1972–1990, I, 242], апеллирует к памяти читателя [Достоевский 1972–1990, I, 243, 246], в «Как опасно предаваться честолюбивым снам» иронически проектирует на роль читателя своего произведения неженатого мужчину [Достоевский 1972–1990, I, 329] с целью акцентировать его внимание на происходящих в рассказе событиях. Со стремления «объяснить читателю» предпосылки излагаемых событий начинается «Слабое сердце» [Достоевский 1972–1990, II, 16], специальной репликой, обращенной к читателю, преодолевается его незнание того факта, что Вася Шумков был «немного кривобок» [Достоевский 1972–1990, II, 23]; предложение повествователя к читателю оценить верность его мнения о персонаже содержится в «Чужой жене и муже под кроватью» [Достоевский 1972–1990, II, 64], с дружеского обращения к «любезному читателю» начинаются «Белые ночи» [Достоевский 1972–1990, II, 102], здесь же содержится призыв к «пониманию», насущно необходимому для более верного восприятия изложенных событий [Достоевский 1972–1990, II, 103]. Правка рассказа «Честный вор» содержит обращение к читателю с просьбой извинить героя за наивность, которая может вызвать смущение [Достоевский 1972–1990, II, 424].
Тенденция затеять с читателем живой диалог, едва ли не интимно-дружеские отношения, устойчиво сохраняется в произведениях 1850-х гг., написанных в Сибири. В «Дядюшкином сне» содержится шуточная просьба «пожаловать… благосклонного читателя» в гостиную к «Марье Александровне, к которой милости просим» [Достоевский 1972–1990, II, 303], в одной из следующих глав повествователь по-приятельски напоминает читателю, что тот уже знаком с Марьей Александровной [Достоевский 1972–1990, II, 356]. В зачине «Села Степанчикова», представляя читателю своего героя [Достоевский 1972–1990, III, 7], повествователь приносит свои извинения за необходимость столь детально объяснять характер Фомы Фомича Опискина [Достоевский 1972–1990, III, 11], далее, меняя авторскую позицию на читательскую, выражает сомнение в необходимости упоминания этой «повести» в тексте создаваемого произведения [Достоевский 1972–1990, III, 70] Здесь содержится намек на цикл статей А.В. Дружинина «Письма иногороднего подписчика в редакцию “Современника” о русской журналистике» (1848–1854) [Вдовин 2015, 51–60, 106–110, 210–213, 236–241, 272–277; Демченко 2007, 133–141; Зыкова 2005, 114–117, 126–127]. Особый интерес Достоевского вызвала прагматика этих очерков, они были созданы как моделирование ответа массового читателя на содержание толстых журналов. В «Записках из Мертвого дома» он вступает в заочный диалог с читателем, советуется с ним относительно верности выбора композиции для своего повествования: «Записывать ли всю эту жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Если писать по порядку, кряду, всё, что случилось и что я видел и испытал в эти годы, можно бы, разумеется, еще написать втрое, вчетверо больше…» [Достоевский 1972–1990, IV, 220].
1860-е гг. характеризуются переходом от скромных претензий на внимание читателя и кратких обращений к нему к попыткам установления с ним полноценных дружеских и доверительных отношений, к интенции увидеть события глазами реципиента. В «Скверном анекдоте» повествователь манифестирует намерение представить «ощущения» своего персонажа, «хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать, то, что было в них самое необходимое и правдоподобное» [Достоевский 1972–1990, V, 13]. В виде дружеской интимной беседы с духовно близким человеком выстроены «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), вплоть до попытки оправдать «других читателей», для которых приготовлено «лишнее», и методическим указанием: «С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и покороче» [Достоевский 1972–1990, V, 63], после чего в очерк добавлена «Лишняя глава». С годами градус интимного дружеского общения с читателем повышается, Достоевский активно связывает имплицитного читателя со своим внутренним миром, объединяя в одно целое коммуникацию по типу «я-ты» и автокоммуникацию: «И вот еще для меня задача: для чего, в самом деле, называю я вас “господами”, для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателю? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. <...> Я же пишу для одного себя и раз навсегда объяв- ляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет» [Достоевский 1972–1990, V, 122]. Пытаясь представить себе ответную реплику читателя в завязавшемся диалоге, Достоевский пишет: «…могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры… К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?» [Достоевский 1972–1990, V, 123]. Эти вопросы и претензии Достоевский создал исключительно для того, чтобы установить высокий уровень доверия читателя к излагаемой информации, максимально сблизить свой поэтический код с горизонтом ожиданий читателя.
Первая глава «Крокодила» (1865) завершается реверансом и своего рода отчетом перед читателем: «Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя» [Достоевский 1972–1990, V, 187]. Словосочетание «натуральный слог» появляется в тексте Достоевского неслучайно: методологической основой писаний авторов круга журналов «Время» и «Эпоха» была органическая доктрина, которая коренилась в трудах Ф. Шлегеля и первыми принявших ее на вооружение старших славянофилов, А.С. Хомякова и И.В. Киреевского, затем развивалась А.А. Григорьевым и Н.Н. Страховым на страницах журналов братьев Достоевских и в виде отдельных изданий [Страхов 2007; Григорьев 1864; Микитюк 2011, 208–216]. Реализация «органической философии» в творчестве Достоевского шла на двух уровнях – идеологическом, в русле идеологии «почвенничества», которое есть не что иное как прагматическое приложение органической теории к сфере решения общественных и социальных вопросов, а также литературно-художественной деятельности. Здесь концепция работала на двух уровнях, управляя поступкам героев-философов, определяя содержание событийной канвы и общего направления течения сюжетов, а также в направлении формирования идеального взаимопонимания между авторским словом и его читателем. Борьба «живой жизни» и рутинного, затрудняющего ее течение, является лейтмотивом творчества Достоевского, транслируя и развивая общую идею «органической философии». Книга Н.Н. Страхова «Мир как целое», опубликованная в 1872 г., идеологически вырабатывалась в круге авторов журнала «Время», где и печатались отдельные ее главы. Основное направление концепции – утверждение естественности и необходимости не только материальной, но и духовной связи человеческого бытия с жизнью Вселенной, имеющей с индивидуумом общий смысл существования, борьба с материалистическими и социалистическими теориями, выводами из них в виде условного «гуманизма». Борьба Достоевского за полное единодушие с читателем является составной частью общей «органической» идеи и общественно-культурной программы «почвенничеств».
Во время работы над «Преступлением и наказанием» Достоевский интенсивно прорабатывал параметры своего повествования, от дневниковых записок преступника до формирования позиции независимого компетентного нар-ратора, внедренного в сознание главного героя. В итоге, в самом тексте романа не осталось ни одного прямого обращения к читателю, но черновые записи изобилуют разного рода замечаниями, корректирующими формат нарратива: «Общее главное NB: Во все эти шесть глав он должен писать, говорить и представляться читателю отчасти как бы не в своем уме» [Достоевский 1972–1990,
VII, 82]. Установка понятная, учитывая принципиально «не органический» характер поведения Раскольникова, в самом имени которого зафиксирована оторванность от родной «почвы» чуждыми ей идеями насилия как пути к социальной справедливости. В рукописи к своему роману Достоевский проектирует круг познаний читателя и ряд знаков, которые, в свою очередь, в процессе чтения должны стать регулирующим фактором строительства сюжета: «Ходил закладывать часы и высматривать. Рассуждения. NB (чтоб читателю дано было знать, что он не для закладу ходил и что тут неспроста)» [Достоевский 1972– 1990, VII, 141]. Управление вниманием читателя к определенным деталям сюжета осуществляется с помощью расстановки акцентов, семантических маячков, переключающих его внимание в направлении, желательном для автора.
В романе «Идиот» Достоевский возвращается к интимным интонациям, своего рода дружеским похлопываниям читателя по плечу, свойственным произведениям, написанным для «Эпохи» в 1864–1865 гг., – «Крокодилу» и «Зимним заметкам». Подобного рода шутки возвращаются в текст «Идиота», когда в описываемом в романе газетном пасквиле его автор сообщает об оставленных в наследство «нескольких миллионах», нарратор романа фамильярно прибавляет: «…вот бы нам с вами, читатель!» [Достоевский 1972–1990, VIII, 219–220]. При этом сохраняется уже выработанный ранее прием регулирования направлений движения сюжета в сознании читателя, апелляции к кругу известных читателю событий, происшедших в художественном мире произведения. Основной нарратор «Идиота» вступает в прямую беседу с читателем, пытаясь выяснить, «что делать романисту с людьми ординарными, совершенно “обыкновенными”, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий; миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие» [Достоевский 1972–1990, VIII, 383–384]. В этой фразе Достоевский опередил Ю.М. Лотмана, спустя более века указавшего на существенную роль второстепенных персонажей литературно-художественного произведения, маркирующих определенную зону сюжетного пространства и не выходящих за пределы своего семантического поля, в то время как главные герои эту границу преодолевают, порождая событие и продвигая сюжет [Лотман 1970, 280–288].
Раскрывая смысл этого наблюдения, Достоевский поясняет, что сущность этих ординарных лиц в сюжете произведения заключается именно «в их всегдашней и неизменной ординарности, или, что еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц выйти во что бы ни стало из колеи обыкновенности и рутины, они все-таки кончают тем, что остаются неизменно и вечно одною только рутиной… не имея ни малейших средств к самостоятельности. К этому-то разряду… принадлежат и некоторые лица нашего рассказа…» [Достоевский 1972–1990, VIII, 384]. Проектируя круги фабульной компетентности персонажей романа «Идиот», Достоевский создавал такой же проект и для читателя, который, руководствуясь знаками, включенными в структуру текста, должен двигаться по сюжету в рамках задуманной автором траектории: «… главное: надо, чтоб читатель и все лица романа понимали, что он может убить Геро, и чтоб все ждали, что убьет» [Достоевский 1972–1990, IX, 156]; «Чтоб не подумали, что это он всё тоскует из-за Жены (т.е. читатели; чтоб яснее было, в чем его отчаяние)» [Достоевский 1972–1990, VIII, 191].
Работая над произведением, Достоевский переживал чувство беспокойства за своего читателя, предчувствуя возможность выбора им неверного пути в понимании прагматической цели рассказа, отталкиваясь от предполагаемого им уровня понимания имплицитного читателя, в процессе работы над «Подростком», он записывает: «Непременно нужен разговор Ст<арого> Князя с Подростком о Лизе, – разговор, что-нибудь сильно разъясняющий Подростку [т.е. читателю]…» [Достоевский 1972–1990, XVI, 173]; а также формулирует нарративное «правило»: «Избегнуть ту ошибку в “Идиоте” и в “Бесах”, что второстепенные происшествия (многие) изображались в виде недосказанном, намёчном, романическом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малейших объяснений, в угадках и намеках, вместо того чтобы прямо объяснить истину. Как второстепенные эпизоды, они не стоили такого капитального внимания читателя, и даже, напротив, тем самым затемнялась главная цель, а не разъяснялась, именно потому, что читатель, сбитый на проселок, терял большую дорогу, путался вниманием» [Достоевский 1972–1990, XVI, 175].
Подобного рода расстановку маркеров для ориентации реципиента в сюжете мы видим и в романе «Бесы» [Достоевский 1972–1990, X, 164], существенную роль тут играют апелляции к кругу знаний читателя: «…разъяснил обстоятельно те настоящие двусмысленные отношения Шатова к центральному обществу, о которых уже известно читателю» [Достоевский 1972–1990, X, 420]. Не без самоиронии писатель очерчивает попытки «дружеского» заигрывания с читателем со стороны «великого писателя» Кармазинова: «Да, друг читатель, прощай! – начал он тотчас же по рукописи и уже не садясь в кресла. – Прощай, читатель; даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались друзьями: к чему в самом деле тебя беспокоить?» [Достоевский 1972–1990, X, 369]. Проектируя направления движения по сюжетной линии, он записывает в рукописи к роману: «Таким образом, выходит, что Князь лицо романическое и загадочное: он всех посещает, всех выслушивает… Но это неизвестно читателю до самой развязки» [Достоевский 1972–1990, XI, 131]. Сотворчество Достоевского со своим имплицитным читателем доходит до уровня, на котором возникает предложение читателю взять на себя часть литературной работы по формированию смысл произведения: «Как же это назвать? Отвлеченным умом? Умом без почвы и без связей – без нации и без необходимого дела? Пусть потрудятся сами читатели» [Достоевский 1972–1990, XI, 303].
Разрабатывая замысел повести «Картузов» (1867–1868), писатель намеревался на самой ранней стадии работы определить круг знаний имплицитного читателя: «…заинтересовать перед читателем его первые движения: критика, Амазонки, рядится, с товарищами, ювелир, гувернантка, до ненависти, прикладывание пальца к картузу. И вдруг влюблен, – всё открывается » [Достоевский 1972–1990, XI, 43]. Обратим внимание, что перед нами проект сюжета в прагматической плоскости – со стороны воспринимающего текст реципиента. Продолжая работу в этом же направлении, Достоевский помечает: «Комичнее, загадочнее и интереснее поставить с 1-го разу фигуру Картузова перед читателем. Все хищные и романтические моменты… должны быть уловлены из природы с комическим оттенком» [Достоевский 1972–1990, XI, 44].
Стремление быть внятным читателю, в своем двойном нарративном значении, учитывая формат дневниковых записок, свойственно повествованию в романе «Подросток». Аркадий Долгорукий, герой-хроникер этого произведения, записывает, связывая единым кодом свой текст и его восприятие: «Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того <…> чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому» [Достоевский 1972–1990, XIII, 6]. Черты поиска юным некомпетентным рассказчиком своего читателя заставляет вспомнить о том, как в романе «Бедные люди» искал своего читателя Макар Девушкин: «А кстати: выводя в “Записках” это “новое лицо” на сцену (то есть я говорю про Версилова), приведу вкратце его формулярный список <…> чтобы было понятнее читателю и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа» [Достоевский 1972–1990, XIII, 64–65]. В обоих случаях начинающий литератор стремится с помощью наивного обескураживающего откровения установить себя и свой рассказ в зону сочувственного доверия и искренней приязни.
Палитра коммуникативных поводов для связи с читателем в «Подростке» чрезвычайно широка: это предупреждение читателя о скором наступлении какого-то события [Достоевский 1972–1990, XIII, 182], решительное обнажение своего эмоционального состояния: «Читатель может судить, в каком я был исступлении» [Достоевский 1972–1990, XIII, 219], прямое сообщение о своей мечте обрести доброжелательного и понятливого читателя [Достоевский 1972–1990, XIII, 229], выражение уверенности в том, что качество достоверности видения у читателя существенно выше, чем у нарратора, скромно сдвигающего себя на вторую позицию: «Читатель, кажется, видит, что я не щажу себя и припоминаю в эту минуту всего себя тогдашнего, до последней гадости…» [Достоевский 1972–1990, XIII, 233].
Все это многообразие имеет одну прагматическую основу: обратить монотонный поток слов в живой диалог, исходящий от повествователя, поддержанный реципиентом, включить творческий потенциал читателя в смысловую парадигму текста, сделаться интересным с помощью утверждения в сознании воспринимающего мысли, что он со своим личным взглядом на жизнь и собственной точкой зрения действительно способен сообщить нечто существенное заинтересованному собеседнику: «…черточка вошла потом в окончательный букет, где и нашла свое место, в чем и уверится читатель» [Достоевский 1972–1990, XIII, 390–391], или выражает сомнение, что с помощью набора фактов можно создать в сознании читателя ясность того или иного происшествия [Достоевский 1972–1990, XIII, 394], или, в подобного рода случае, дать себе труд «разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так много случайностей…» [Достоевский 1972–1990, XIII, 402]; «…объясню ее всю вперед, так как иначе читателю было бы невозможно понять» [Достоевский 1972–1990, XIII, 424]. Сделав подобного рода объяснение, повествователь просит читателя принять на себя труд смоделировать алгоритм излагаемого сюжета: «Читатель поймет теперь, что я, хоть и был отчасти предуведомлен, но уж никак не мог угадать…» [Достоевский 1972–1990, XIII, 405]. Переводя монолог цепочки текстовых знаков в формат живого личного общения, повествователь делает попытку угадать, какие вопросы тревожат его душу: «Может быть, иному читателю захотелось бы узнать: куда ж это девалась моя “идея”…» [Достоевский 1972–1990, XIII, 451].
Нарратив романа Достоевского создавался на перекрестье двух коммуникативных процессов – творческой автокоммуникации и постоянно длящегося и поддержанного многочисленными обращениями и репликами диалога с имплицитным читателем, осознавая трудность в их сочетаемости. Выбирая нарративную модель от третьего или первого лица, Достоевский записывает: «Если же от автора, то необычайно трудно будет выставить перед читателем причину: почему Подросток герой? и оправдать это» [Достоевский 1972–1990,
XVI, 129]. Создавая своего рода нарративный полуфабрикат, состоящий из обращений к себе и точек опоры на горизонт ожидания читателя, Достоевский записывает: «И тут к читателю: это письмо вот что (я перечитал его). Но я должен сказать, что меня уже три часа мучило письмо» [Достоевский 1972–1990, XVI, 192].
В романе «Братья Карамазовы» в обращениях повествователя к читателю появляется нечто новое: это формат прямой речи с подключением версии критической оценки, исходящей от реципиента: «“Может быть, увидите сами из романа”. Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Федоровича? Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу» [Достоевский 1972–1990, XIV, 5]. Допуская иную трактовку почвеннической идеи, олицетворенной в романе «Братья Карамазовы» характером и делами Алексея Федоровича, нарратор ни минуты не сомневается в интеллектуальном уровне и культурном кругозоре своего читателя, по определению, «умного» и «догадливого» [Достоевский 1972–1990, XIV, 6]. Испытывая к своему читателю стратегически необходимую братскую любовь, которая экстраполирует на уровне поэтики произведения в основную идеологему почвенничества, повествователь делится с ним оценкой правильности выбора сюжетного решения: «Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа “при существенном единстве целого”: познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит: стоит ли ему приниматься за второй?» [Достоевский 1972–1990, XIV, 6]. Акцентируя вопрос о свободе в трактовке читателем текста, нарратор подчеркивает: «Конечно, никто ничем не связан; можно бросить книгу и с двух страниц первого рассказа, с тем чтоб и не раскрывать более»; в попытке избежать такой беды Достоевский связывает перспективы текста с «деликатными читателями», «которые непременно захотят дочитать до конца», в основе правильного понимания художественного произведения, утверждает повествователь «Братьев Карамазовых», лежит «беспристрастное суждение», избавляющее от ошибочной трактовки [Достоевский 1972–1990, XIV, 6]. Заметим, что в рукописи «Братьев Карамазовых» попытки завязать с читателем интимный дружеский диалог, основанный на полном и безусловном взаимопонимании, имеют, в сравнении с предшествующими произведениями, еще более откровенный характер: «Может, читателю покажется невозможным обнаружение столько чистейшей любви в столь наивном и грубейшем ревнивце» [Достоевский 1972– 1990, XV, 268]. Оставив в прошлом робость, присущую ранним произведениям, имеющий за спиной многотысячную армию читателей автор «Дневника писателя» в «Братьях Карамазовых» уверенными мазками набрасывает план чтения книги: «Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности»; с другой стороны, объясняет автор свойства строительства сюжета произведения, «будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в ряске послушника» [Достоевский 1972–1990, XIV, 17].
Тема «единственного читателя», которой посвящен дебютный роман Достоевского «Бедные люди», вновь появляется в его последнем произведении, в разговоре Ивана и Алеши о «поэме» Ивана «Великий инквизитор»: «Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя, – усмехнулся Иван. – Рассказывать или нет?» [Достоевский 1972–1990, XIV, 224]. Здесь нельзя не вспомнить о главном прототипе имплицитного читателя произведений Достоевского, его брате Михаиле Михайловиче, в шестилетнем диалоге с которым возрос писательский дар автора «Бедных людей» [Баршт 2019, 8–21]. Для Достоевского эта идея имена особое значение – в своих нарративах, словно продолжая переписку с братом, он всегда обращался будто бы к одному человеку; то, что этих «одних» оказывалось множество, не мешало ему и в строительстве своего повествования настаивать на мысли, выраженной почвенником Шатовым в «Бесах»: «Знаете ли, как может быть силен один человек?» [Достоевский 1972–1990, X, 194]. Глубокое уважение к личности собеседника, от которого повествователь ждет поло-жительно-приемлющего отношения к своему слову, является условием правильной эстетической коммуникации. Ориентация на мнение и возможные реакции читателя на текст, скрытая или гласная полемика с ним и предложение ценностной шкалы для определения морального уровня совершаемого персонажем поступка, не мешали друг другу в нарративной ткани произведений Достоевского, являясь важной составляющей в формировании смысла: «Может быть, многим из читателей нашей повести покажется этот расчет на подобную помощь и намерение взять свою невесту, так сказать, из рук ее покровителя слишком уж грубым и небрезгливым …» [Достоевский 1972–1990, XIV, 332].
Круг приемов, которыми пользовался нарратор Достоевского в целях установления положительной связи со своим имплицитным читателем, интенсивность и разнообразие способов их применения в художественных произведениях Достоевского неуклонно возрастали от первого его произведения к последнему. Редкие учтивые и приветливые обращения к читателю в его ранних произведениях сменяются в произведениях последнего десятилетия его творчества позитивным диалогом с реципиентом, включая моделирование вопросов с его стороны, предложение активно влиять на восприятие сюжетной линии произведения, сотворчества в образовании художественного значения произведения.
Список литературы О форматах и свойствах нарративной прагматики Ф.М. Достоевского. Статья первая: художественные произведения
- Баршт К.А. "Бедные люди" Ф.М. Достоевского: аналитика судьбы и роман-предостережение // Баршт К.А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор-И-стория. 2019. С. 8-21.
- Григорьев А. А. Парадоксы органической критики. (Письма к Ф.М. Достоевскому) // Эпоха. 1864. № 5. С. 255-273; № 6. С. 264-277.
- Демченко А.А. "Иногородний подписчик" А.В. Дружинина в русской журналистике и критике начала 1850-х гг. // Российская словесность: Эстетика, теория, история: материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию профессора Б.Ф. Егорова, 24-25 апреля 2006 г. СПб.; Самара: Офорт, 2007. С. 133-141.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука 1972-1990.
- Зыкова Г.В. Поэтика русского журнала 1830-1870 гг. М.: МАКС Пресс, 2005. 200 с. EDN: QSFNSJ
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 387 с.
- Микитюк Ю.М. Категории органической теории в идеологии почвенничества // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2011. Т. 12. № 1. С. 208-216. EDN: PACGYR
- "Современник" против "Москвитянина". Литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов /Изд. подгот. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков, А.С. Федотов. СПб.: Нестор-История, 2015. 872 с.
- Страхов Н.Н. Мир как целое. М.: Айрис-Дидактика, 2007. 576 с. EDN: QWQMNF