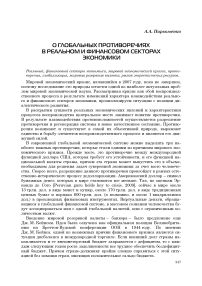О глобальных противоречиях в реальном и финансовом секторах экономики
Автор: Пархоменко Андрей Анатольевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются противоречия, сложившиеся в процессе взаимодействия реального и финансового секторов экономики на современном этапе: использование доллара в качестве мировой резервной валюты, проблема распределения энергоресурсов и противоречие между глобальной финансовой системой и национальными государствами.
Реальный сектор экономики, финансовый сектор экономики, мировой экономический кризис, противоречия, глобализация, мировая резервная валюта, рынок энергетических ресурсов
Короткий адрес: https://sciup.org/144153212
IDR: 144153212
Текст научной статьи О глобальных противоречиях в реальном и финансовом секторах экономики
Мировой экономический кризис, начавшийся в 2007 году, пока не завершен, поэтому исследование его природы остается одной из наиболее актуальных проблем мировой экономической науки. Рассматривая кризис как сбой воспроизводственного процесса в результате изменений характера взаимодействия реального и финансового секторов экономики, проанализируем ситуацию с позиции диалектического развития.
В раскрытии сущности реальных экономических явлений и характеристики процессов воспроизводства центральное место занимает понятие противоречия. В результате взаимодействия противоположностей осуществляется разрешение противоречия и регенерация системы в новое качественное состояние. Противоречия возникают и существуют в самой их объективной природе, выражают единство и борьбу элементов воспроизводственного процесса и являются его движущей силой.
В современной глобальной экономической системе можно выделить три наиболее важных противоречия, которые стали одними из причинам мирового экономического кризиса. Прежде всего, это противоречие между международной функцией доллара США, которая требует его устойчивости, и его функцией национальной валюты страны, причем эта страна может выпустить его в объеме, необходимом для решения задач суверенной экономики за счет всего человечества. Скорее всего, разрешение данного противоречия произойдет в рамках естественно-исторического процесс дедолларизации. Американский доллар – символ бумажных денег, которых в мире становится все меньше. Так, по оценкам Эрнандо де Сото [Peruvian guru holds key to crisis, 2009], сейчас в мире около 13 трлн. дол. в виде монет и купюр, около 170 трлн. дол. в виде традиционных ценных бумаг и порядка 600 трлн. дол. (а возможно, и около 1 квадриллиона дол.) в производных финансовых инструментах. Виртуальные деньги, обращающиеся в глобальной финансовой системе, в массовом сознании человечества будут ассоциироваться или с одной глобальной валютой, или с ограниченным количеством валют.
Введение мировой резервной валюты – банкора – было предложено еще Дж. М. Кейнсом. Идея была озвучена как официальная позиция Великобритании на Бреттон-Вудской конференции ООН в 1944 году. По мнению Дж. М. Кейнса, одной из возможных причин финансового кризиса является ситуация дисбаланса в международной торговле. Если внешний долг страны накапливается и ее внешнеторговый бюджет закрывается с дефицитом, то с каждым следующим годом роста задолженности все труднее обеспечить бездефицитный бюджет. Причем стране-должнику крайне сложно справиться с этой ситуацией без помощи стран, имеющих положительное сальдо бюджета.
Поэтому Дж. М. Кейнс предложил систему, стимулирующую страны-кредиторы вкладывать деньги в экономику стран-должников, включающую в себя мировой банк (Международный расчетный союз) и мировую валюту (банкор), которая должна была свободно конвертироваться в любую другую валюту по фиксированному обменному курсу. Каждой стране на ее банкоровом счете в Международном расчетном союзе должен быть открыт овердрафт в размере половины среднего торгового оборота за последний пятилетний период. При накоплении страной половины от предельной величины овердрафта страна была бы обязана заплатить проценты за пользование счетом, девальвировать свою валюту и остановить вывоз капитала. В то же время, если страна будет иметь профицит более половины от предельной величины овердрафта, она должна была бы заплатить десятипроцентный сбор за пользование счетом, провести ревальвацию своей валюты и стимулировать вывоз капитала. Таким образом, страны с большим положительным сальдо имели бы стимул избавляться от него, тем самым автоматически покрывая отрицательное сальдо других стран.
К сожалению, идея Дж. М. Кейнса была отвергнута, а конференция приняла предложение США основать Международный стабилизационный фонд (сегодня – Международный валютный фонд (МВФ)), который функционирует таким образом, что ответственность по сохранению внешнеторгового баланса ложится на страну-должника, а на положительное внешнеторговое сальдо никаких ограничений не накладывается.
В результате сегодня, спустя 67 лет, США превратились из крупнейшего кредитора в крупнейшего должника планеты. Однако Г.Д. Уайт, глава американской делегации в Бреттон-Вуде, обеспечил своей стране возможность спокойно наращивать задолженность, предоставив США исключительное право вето на любое решение, принимаемое МВФ или Всемирным банком. Это привело к тому, что МВФ не выставляет США жестких требований по погашению задолженности, а даже настаивает на хранении валютных резервов всех стран мира именно в долларах, всемерно способствуя использованию доллара в качестве мировой валюты.
Стремление США сохранить действующую архитектуру мировой валютно-финансовой системы с долларом в качестве резервной валюты очевидно. В то же время Россия и Китай, являясь странами-кредиторами, поневоле финансирующими заемщика, который диктует им правила игры, пытаются изменить сложившуюся ситуацию. Так, в марте 2009 года глава Центробанка Китая Чжоу Ся-очуань призвал МВФ расширить использование специальных прав заимствования (SDR) и сделать первые шаги к созданию «сверхсуверенной резервной валюты» [Лядов, 2009]. Если в то время МВФ признал эту инициативу лишь «интеллектуально здоровым упражнением» [Балковский, 2010], то уже в декабре 2010 года его представители заявили о готовности использовать SDR в качестве резервной валюты, поскольку «риски глобальных дисбалансов катастрофически нарастают» [Зыкова, 2010].
Специфику сложившейся ситуации наиболее адекватно охарактеризовал Н. Рубини, который широко известен тем, что предсказал нынешний кризис. По его мнению, США повторяет путь Британской империи: «Роль США в качестве ведущего глобального экономического, финансового и даже геостратегического суперигрока снижается. Экономические и финансовые сверхдержавы и империи, как правило, являются чистыми кредиторами, и чистым кредитором (по- полняющим сальдо счета текущих операций), например, была Британская империя на ее пике. Но такие империи утрачивают свой статус – британский фунт в роли ведущей мировой валюты утратил эту позицию во время Второй мировой войны, когда Великобритания стала крупным чистым должником и чистым иностранным заемщиком (пополняющим дефицит по счету текущих операций), и крупным держателем бюджетного дефицита. США в настоящее время являются крупнейшим чистым заемщиком в мире (огромный дефицит по счету текущих операций), а также крупнейшим чистым должником в мире, а его внутренний бюджетный дефицит растет слишком резко» [Рубини, 2009].
Принимая во внимание мнение Н. Рубини, следует особое внимание уделить описанному выше противоречию, поскольку новая финансовая архитектура, возникшая в результате его разрешения, должна включить в себя Россию в качестве полноценного игрока.
Следующее важнейшее противоречие связано с контролем над энергоресурсами и является следствием глобальной конкуренции между странами на энергетических рынках. Сегодня на смену частным энергетическим корпорациям Запада, преобладавшим на рынке в XX веке, пришли новые нефтегазовые компании из развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые полностью или частично контролируются национальными государствами.
Контроль рынков энергоресурсов со стороны национальных государств несет в себе серьезную опасность для устойчивости сложившейся мировой капиталистической системы. Действительно, запасов нефти на планете осталось всего на несколько десятилетий, а ее потребление растет как в развитых странах, так и в развивающихся, которые пытаются догнать первые ускоренными темпами. В этих условиях значение энергоресурсов в мировой экономике существенно возросло, так как любое нарушение стабильности поставок нефти и газа может привести к дезорганизации экономической и политической системы государств, которые их импортируют.
Решение проблемы энергетического суверенитета, в т. ч. собственности на энергоресурсы, возможно путем установления коллективного межгосударственного контроля над ресурсами, которые неравномерно распределены.
Одна из концепций распределенного суверенитета принадлежит американскому ученому С.Д. Краснеру, который предлагает «чтобы нефть в плохо управляемых странах была провозглашена общим достоянием человечества и поставлена под контроль, например, Всемирного банка» [Krasner, 2004, с. 23]. С.Д. Краснер считает, что энергоресурсы оказывают негативное влияние на экономическое развитие страны, являются причиной коррупции, авторитаризма, источником финансирования терроризма.
Для минимизации этого влияния он предлагает заключить договор между государством, владеющим нефтяными запасами, и Всемирным банком, о создании совместного трастового органа для управления нефтяным сектором. Этот орган должен располагаться на территории институционально развитой страны с эффективно действующей правовой системой, состоять на паритетных началах из представителей государства-производителя и представителей Всемирного банка и совместно решать судьбу доходов, получаемых от реализации энергетических проектов [Krasner, 2004, с. 23–24].
Однако данная концепция вызывает целый ряд вопросов. Например, непонятен механизм принятия решений о разделении государством своего суверените- та с Всемирным банком, да и Всемирный банк, функционально представляющий мировое сообщество, все же создан правительством США, и его президент назначается указом американского президента. При этом нельзя не упомянуть, что добыча нефти в США падает с 1971 года, а природного газа – с 2003 года. В настоящее время в Соединенных Штатах из потребляемых 23 млн. баррелей в сутки добывается только 8, остальное страна импортирует [Oil Market Report, 2011]. В таких условиях богатое энергоносителями государство может разделить свой суверенитет не со всем мировым сообществом, а с отдельно взятой страной.
Сегодня сложно найти структуру, которая адекватно и объективно представляла бы интересы всех основных экономик мира. Один из немногих эффективно функционирующих органов, который объединяет большинство государств на планете, – Совет Безопасности ООН, напротив, призван обеспечить неприкосновенность суверенитета государств-участников. Поэтому для решения такого рода задачи потребуется серьезная перестройка существующих моделей международных отношений.
Более того, возникает вопрос: если развитые страны претендуют на свободный доступ к мировым энергетическим ресурсам, то не следует ли вести речь о распределенном суверенитете в области высоких технологий, науки, образования, культуры? Ведь разрыв между развитыми и развивающимися странами в этих сферах настолько огромен, что может считаться такой же заданной природой особенностью, как расположение запасов нефти и газа.
Для решения противоречия, сложившегося на рынке энергоресурсов, необходимы усилия как в экономической, так и в политической плоскости, и пока сложно сказать, каким путем оно может быть разрешено.
И третье, наиболее важное противоречие, на котором необходимо акцентировать внимание, – противоречие между глобальной финансовой системой и национальными государствами.
В результате бурного развития международной торговли государства все больше стали зависеть от глобальной конкуренции. Так, например, вмешиваясь в экономику путем создания неблагоприятных условий для капитала, государство провоцирует бегство капитала из национальной экономики. А предоставляя стимулы для развития того или иного бизнеса, оно способствует накоплению капитала. В мире насчитывается почти двести суверенных государств, каждое из которых пытается проводить свою политику, но все они принимают участие в процессе мировой конкуренции как за торговлю, так и за капитал. Система взаимоотношений в рамках этого процесса исключительно сложна – единые международные нормы, выработанные в глобальной финансовой системе, пытаются взаимодействовать с политическими нормами, которые в каждом государстве индивидуальны. При этом финансовый сектор, благодаря новым технологиям, стал слишком быстрым для человеческого восприятия. Он плавно перемещается по планете, переходя из одного временного периода в другой, от одной биржевой сессии к другой, и миллионы участников этого процесса каждую секунду готовы купить недооцененный актив и продать переоцененный. Технологии позволили человечеству принимать кредитные риски экстерриториально, а любые значимые процессы в США очень быстро отражаются на том, что происходит в Красноярске. С другой стороны, ответственность национальной элиты за уровень жизни в суверенном государстве осталась, и никакие технологии, по крайней мере в ближайшее время, не снимут с нее эту ответственность.
Некоторые ученые [Иноземцев, 2009] для разрешения данного противоречия предлагают уменьшить финансовый сектор до уровня, который отвечал бы потребностям реального. Однако, учитывая, что оба сектора являются взаимосвязанными составными частями воспроизводственного процесса, следствием этого может стать уменьшение и реального сектора. Поэтому речь здесь должна идти об оптимизации этих секторов и характера их взаимодействия.
Другой способ решения проблемы – обвинить во всем США, однако необходимо учитывать, что проблема заемщика, который не может обслуживать задолженность, становится проблемой его кредиторов, крупнейшие из которых – Китай и Россия. По мнению автора, суть противоречия заключается в том, что финансовый сектор перерос фундаментальные основы современного международного права, прежде всего суверенитет государств. Поэтому сегодня, пока есть возможность, необходимо приступить к построению глобальной системы регулирования мировой экономики, которая будет адекватна новым финансовым и экономическим реалиям. И в рамках новой системы национальные государства должны будут делегировать часть своих полномочий международным, наднациональным органам, действующим в интересах всего человечества.
Историческая неизбежность процесса формирования глобальной экономики практически не вызывает сомнений, а глобализация придает особый характер экономическим отношениям между государствами, их экономиками, политическими системами и культурами, преобразуя современный мир.
Описанные выше противоречия, которые возникают в рамках этого процесса, так или иначе будут разрешены. Однако для их разрешения с минимальными потерями для мировой экономической системы необходима скоординированная и целенаправленная межгосударственная политика, поскольку чисто рыночные механизмы в силу известных «провалов рынка» не способны этого сделать.