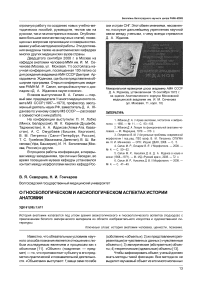О гносеологических и аксиологических аспектах истории анатомии
Автор: Скворцов Я., Гончаров Н.И.
Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed
Рубрика: Обзорные статьи
Статья в выпуске: 4 (20), 2008 года.
Бесплатный доступ
История анатомии излагается под углом зрения аксиологического к гносеологического аспектов (подходов) с привлечением богатого эмпирического материала из области изобразительного искусства и художественной литературы.
История анатомии человека, ценности, познание
Короткий адрес: https://sciup.org/142148733
IDR: 142148733 | УДК: 61
Текст научной статьи О гносеологических и аксиологических аспектах истории анатомии
Известно, что обязательным условием научного способа познания является отношение к любым исследуемым явлениям и процессам как к объектам [11]. «Объект» (позднелат. — предмет) — то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности. «Объектами» выступают: 1) вещи сами по себе
(собственно «объекты»); 2) их представления (репрезентации) в чувственных данных («чувственные объекты»); 3) эмпирические (абстрактные) объекты; 4) теоретические (идеальные) объекты [13].
Чтобы зафиксировать объект, ученый должен знать методы такой фиксации. Вне метода он не выделит изучаемый объект из его многочисленных связей с другими объектами природы и общества. Но в целом познавательный процесс определяется предметом научной дисциплины, то есть углом зрения ее на объект. Поэтому со времен В. Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта было принято отличать науки о природе (естественные) от наук о духе, о культуре (гуманитарных) по объекту, предмету, методу, характеру знания, результату. Все это достаточно известно специалистам, но, чтобы не быть голословными, кратко изложим суть проблемы. Считалось, что в естествознании объект «берется» как безгласная «вещь», здесь господствует рационализм, эксперимент, а познание направлено на открытие законов, то есть общего, необходимого, повторяющегося в явлении. Все индивидуальное, личностное убирается из результатов познания. В гуманитарных науках сам объект исследования имеет личностное измерение. Это относится не только к познанию человека, но и к явлениям природы, к «вещам», которые как бы одушевляются. Здесь «дух» постигает «дух». «Интимное отношение» (М. Хайдеггер)к вещам по типу «Я—ТЫ» (М. Бубер) позволяет выделить в объектах специфически человеческие знания и предназначения, квалифицировать их как «гуманитарные объекты». Благодаря коммуникации и диалогу с миром, события, природа, вещи и поведение другого воспринимаются и постигаются как культурные объекты, то есть как ценности. Последние — необходимый элемент познания, ибо во всех явлениях культуры «мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеческой ценности» [9]. К. Поппер дал принципиально новую интерпретацию проблемы ценностей и их роли в науке, заметив, что «объективность» и «свобода от ценностей» сами по себе являются ценностями [8]. В настоящее время констатируется, что в «новой» философии науки жесткое противопоставление указанных групп наук преодолевается. Так, согласно М. Малкэю, наука объясняет физический мир так же, как и социальный, через посредство имеющихся культурных ресурсов [16]. Сами естественные науки, по мере вовлечения в орбиту своих научных интересов все более сложных и все более системно организованных объектов, чаще стали допускать в составе своих документальных теорий и объяснительных схем такие понятия, которые, как думалось раньше, являются исключительной прерогативой наук о человеке и гуманитарных наук, в том числе понятия истории, цели, смысла, значимости, ценности и др. В этой связи приведем пример, имеющий прямое отношение к нашей теме. Анатомия человека — медико-биологическая дисциплина. Согласно классическому труду А. Везалия, ее предметом является строение человеческого тела. Но сегодня телесное измерение существования людей оказалось в центре внимания социологов бла- годаря росту чувствительности социальных индивидов к «физическому присутствию», внешнему виду, к тому, что ведет к большой экстернализа-ции и коммуникативности тела. Одну из граней проблемы человеческого тела по-новому представляет развитие биотехнологий и информационных технологий. В обществе модерна значение приобрела и коммерциализация тела. Словом, в настоящее время тело подвержено большему использованию, чем в прошлом. Возникла социология тела, которая не только полезна, но и определенно необходима, полагают авторы коллективной монографии «Устройство тела. Разум, эмоции и социальная память» [12]. Не без оснований В. А. Лекторский в статье «Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке?» доказывает, что изменения, происходящие в науках о природе и о человеке, позволяют понять их отношения в новом свете и выявить их сущностное единство, в том числе и по проблемам методов — объяснения, понимания и интерпретации [5]. Все это подрывает опору «старой» философии и социологии науки — жесткое разделение наук о природе и социально-гуманитарных наук. Больше того, некоторые исследователи уже ведут речь о применении гуманитарной методологии к естественнонаучному знанию, что означает по сути смену акцентов и логики познания, поскольку важнейшим становится не только объяснение объективных фактов, сколько отношение человека к этим фактам, смысл, который они приобретают для него [10].
Несмотря на это, есть основания утверждать, что естествоиспытатели — ученые и преподаватели соответствующих дисциплин — остаются приверженцами традиционной парадигмы. Это вполне объяснимо с позиции объективно существующих онтологических, гносеологических, методологических и социальных оснований дифференциации наук, подробно раскрытых А. Л. Никифоровым. Ученый приходит к выводу о том, что «дифференциация наук представляет собой универсальную тенденцию или даже закономерность развития научного познания» [6]. Исходя из этого, думаем, что естествоиспытатель останется естествоиспытателем в силу природы (специфики предмета) своей науки. Но выявлять явно и неявно присущий естественнонаучной дисциплине гуманитарный аспект крайне важно в целях нравственного и эстетического воспитания личности специалиста. И делать это нужно через предмет конкретной науки, через её историю (которая «каждой науке о человеке дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится...» [14]), а также привлекая мифы, искусство, философию, благодаря которым в разные эпохи обеспечивается единство человеческого познания.
Анатомия человека и отдельных его систем и органов образует группу медико-биологических пограничных наук, связанных с изучением морфологии физического типа Homo sapiens с его возрастной и индивидуальной изменчивостью. Как и вообще в естествознании, в анатомии распространен (по необходимости) «вещный» подход к человеку. Изучаются: внешнее строение тела человека, элементы морфологии, кости, мышечная система; внутренние органы, железы внутренней секреции и т. д. На механистичность такого анализа указывал еще Гёте, вложивший в уста Мефистофеля следующее рассуждение:
Живой предмет желая изучить, Чтоб ясное о нем познанье получить, Ученый прежде душу изгоняет, 3атем предмет на части расчленяет И видит их, да жаль: духовная их связь Тем временем исчезла, унеслась...
Но анатомии живых учат мертвые. «А бездушное тело — «вещь»» — доказывает собеседнику некий «философ» из одноименного рассказа Г. Паризе [7]. Но «вещный» подход к живому человеку тоже не редкость. У сциентистски ориентированных ученых «вещное» отношение издавна распространяется и на живых людей. Классический пример тому — Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», который как «вещь» воспринимает телесность красивой женщины: «Этакое богатое тело! — восклицает он, впервые увидев её. Хоть сейчас в анатомический театр». Сегодня «вещное» отношение к человеку как донору демонстрирует трансплантология, продлевающая жизнь своим пациентам благодаря пересадке органов, взятых у других людей. Но одновременно этим же провоцируется и коммерциализация человеческого тела.
Естественно, философия не могла пройти мимо этой сложной, противоречивой проблемы. В гуманистической философии Нового времени возникло понятийное противопоставление: человек — не вещь. Наиболее последовательно оно было продумано Им. Кантом, положившим в основу своего учения оппозицию «вещь — личность» и сформулировавшим категорический запрет: никогда не относиться к человеку только как к средству [3]. В последующем к этой проблеме обращались и другие выдающиеся философы. Так, выяснению содержания понятия «вещь», «вещность» посвящен фрагмент работы М. Хайдеггера «Исток художественного творения», где обосновывается утверждение «человек — не вещь». «Вещи природы и человеческого употребления и есть то, что обычно называется вещью», — пишет философ [15]. В «Системе вещей» Ж. Бодрийяра (2001) человек представлен, но не как «вещь», а в качестве процесса человеческих взаимоотношений, систематики человеческих поступков и связей, возникающих при производстве, потреблении и персонализации вещей.
Искусство также не приемлет «вещный» подход к человеку, даже мертвому. Изображение смерти человека в искусстве, как правило, проникнуто скорбью, горестью, осознанием невозв-ратимости потери. Ведь каждый индивид уникален, неповторим, онтологически значим:
...Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать.
Так выразил переживание состояния потери человека поэт Е. Евтушенко. Примером уважительного отношения к анатомируемому телу может служить уцелевший от пожара фрагмент «Анатомии доктора Деймана» Рембрандта [2]. Но, осуждая «вещный подход», скульптура, живопись, художественная литература не могут обойтись без анатомии, ибо первое, что бросается в глаза, когда мы глядим на человека — это его тело, внешний облик: соматотип, пол, возраст, расовые и этнические признаки. Ведь пластика тела, его очертания в значительной степени обусловлены выраженностью отдельных групп мышц. Но для художника и философа, как заметил Гегель, «облик человека, его внешний вид есть «знак духа», наподобие языкового (словесного) знака. Для духа этот облик есть только первое его проявление... Облик есть правда, наиболее непосредственная форма существования духа» [1]. Тщательное изучение анатомии великими художниками (нередко под руководством выдающихся анатомов) дало особенно наглядные результаты в эпоху Возрождения. И сегодня в художественных училищах, вузах студенты прилежно изучают анатомию, делают зарисовки частей тела, органов, мышц и т. п., преследуя свои профессиональные цели — реалистическое изображение человека. Но и для литераторов знание анатомии необходимо. Не случайно Н. Заболоцкий дал поэтам следующий совет:
Любите живопись, поэты,
Лишь ей, единственно, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно...
Это подтверждает не только портрет Струйс-кой, но еще более впечатляющее панорамное полотно И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», где с помощью пластики тела и отображения работы мимических мышц переданы чувства, состояние отдельных персонажей и гамма характеров в целом.
Очевидно, что привлечение художественных ресурсов может способствовать формированию у студентов-медиков ценностного отношения к объекту и предмету своей науки.
История анатомии свидетельствует о ее естественной связи с развитием искусства и о многочисленных аспектах их отношений. Так, около 20 тыс. лет тому назад в пещерах Альтамиры (Ис- пания) был запечатлен мамонт, сердце которого помечено красной краской. Это изображение считается первым анатомическим рисунком.