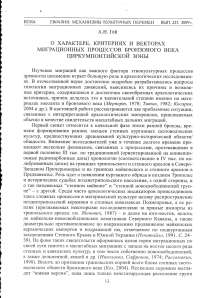О характере, критериях и векторах миграционных процессов бронзового века Циркумпонтийской зоны
Автор: Гей А.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 223, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14328010
IDR: 14328010
Текст статьи О характере, критериях и векторах миграционных процессов бронзового века Циркумпонтийской зоны
Определенная концентрация таких памятников у юго-восточных границ Триполья и северо-западных окраин майкопской общности при некоторой разреженности в срединных районах может указывать на повышенный интерес носителей этой курганной культуры к зонам контактов с их земледельческими соседями. Интерес вполне естественный для специализированных скотоводческих групп. Явная ориентация экономических в своей основе интересов этого яркого и динамичного культурного массива прежде всего в северо-западном и юго-восточном направлениях, проявившаяся, в частности, в стремлении маркировать курганными кладбищами (курган демонстрирует тут наиболее отчетливо одну из своих функций -функцию межевого знака, знака собственности коллектива) определенную экономическую территорию, и может служить объяснением встречных потоков импортных изделий и подражаний им, потоков, направленных из зоны контактов внутрь нижнемихайловско-новосвободненских областей. Движение вещей при этом имеет диаметрально противоположное направление по отношению к вектору интересов и устремлений самих человеческих коллективов.
Конечно, не стоит слишком упрощать формы возможного взаимодействия, сводя их к заимствованию самих вещей. Интерес к посуде земледельческих соседей при наличии собственных керамических традиций (чернолощеная посуда, кубковые формы) не исключает и элементов смешения (простейшей и естественной формой которого могут выступать смешанные браки), однако явная парадоксальность встречных трипольского и майкопского потоков, равно как и их обратная направленность относительно векторов устремленности самих нижнемихайловско-новосвободненских групп, предостерегают против прямолинейного и однозначного истолкования таких наблюдений как свидетельств миграции последних (неважно, из Центральной Европы на Кавказ или наоборот).
Второй сюжет связан с рубежом эпох ранней и средней бронзы, хотя в последнее время он все чаще вписывается в средний период бронзового века. Связан он с переходом от древнеямной общности к катакомбной или со сменой одной общности другой. На протяжении долгого времени в науке параллельно существовали миграционные и автохтонистские гипотезы сложения катакомбной культуры/общпости, причем среди миграционных наиболее популярными были теории западной, или европейской (Клейн, 1968; Николаева, Сафронов, 1979; 1981), и южной, или кавказско-ближневосточной, прародины (Артамонов, 1949. С. 331-332; Фисенко, 1966. С. 36-37). В настоящее время западная версия не пользуется популярностью благодаря стараниям наиболее горячего ее защитника (Клейн, 1968), хотя, конечно, узел “катакомбная культура - культуры шнуровой керамики, Злота” крайне интересен, только вот хронологические приоритеты сейчас, пожалуй, смещаются в пользу катакомбников. Остаются южная гипотеза, достаточно популярная в украинской археологии, хотя и трактуемая разными авторами по-разному - от признания прямых миграций с юга (Пустовалов, 1993) до констатации заметной роли переселенцев из Закавказья в переоформлении местного позднеямного субстрата в катакомбные культуры (Братченко, 2001. С. 50-66), - и автохтонистская версия, понимаемая также достаточно разнообразно (Гей, 1991; 2000; Кияшко, 1999. С. 177; 2002. С. 71-80). Сторонники последней гипотезы солидарны в признании особой роли в формировании катакомбной КИО памятников Приазовья (нижнедонских и Прикубанских прежде всего) предшествующего времени, хотя расходятся в определении их состава и культурной принадлежности (позднеямные, по А.В. Кияшко; неямные в этнографическом смысле культурные группы, наиболее ярким образцом которых является новотиторовская культура, по мнению автора данной работы). Сторонники “южной гипотезы” ссылаются на широкое распространение в среде катакомбных и особенно раннекатакомбных групп Предкавказья и Приазовья целого ряда обрядовых форм, категорий изделий или отдельных признаков, определяемых как заимствования, подражания или прямые импорты из различных районов Кавказа, Закавказья или даже Ближнего Востока. Перечислю в этой связи целый ряд различающихся по масштабу и обоснованности построений разработок. Напрямую из куро-аракской культуры выводится старосельская группа культур захоронений с повозками (Шилов, 1990. С. 50), говорится о куро-аракских корнях орнаментальных схем катакомбной культуры (Смирнов, 1996. С. 49-53), приводятся данные о распространении импортной беденской керамики и подражаний ей в степях Предкавказья от Нижнего Дона и до Приморского Дагестана (Рысин, 1996).
При оценке этой противоречивой ситуации нельзя обойти вопрос о конкретных археологических культурах, откуда могут происходить перечисленные выше или сходные элементы, не вдаваясь в теоретические рассуждения о том, можно ли ставить знак равенства между происхождением элемента, признака, категории или явления и генезисом этнокультурного образования, равно как и уклониться от общей оценки этнокультурных и исторических процессов, имевших место в регионах, откуда предполагаются заимствования.
Основные историко-культурные изменения в интересующее нас время на Кавказе и в Закавказье связаны с деформацией и даже деструкцией куро-аракской культуры, на смену которой приходят памятники ранней группы Триалети или алазано-беденская культура. Происхождение последней какое-то время связывалось с переселением неких групп из южных районов Закавказья и Восточной Анатолии (В.Л. Ростунов; М.Р. Абрамишвили). Однако по мере накопления материалов степные параллели (и в обряде, и в инвентаре) стали настолько очевидны, что особая роль именно степных культур Предкавказья в переоформлении культурно-исторической ситуации получила признание исследователей {Djaparidze, 1993; Джапаридзе, 1996). Конкретные участники такой экспансии с севера на юг обычно не называются, говорится лишь о степных племенах, о расширении во второй половине III тыс. границ блока курганных степных культур в Закавказье {Черных, 1988) или об особом “транскавказском блоке культур подвижных скотоводов” {Нариманов, Ахундов, 1994. С. 24-25). Однако весь комплекс признаков (курганный обряд, захоронения в ямах со столбовыми конструкциями и канавками по периметру, скорченное на правом боку положение костяков с западными ориентировками, использование четырехколесных повозок со сплошными колесами в ритуале, молоточковидные булавки, бляхи с пуансоном, характерные наконечники стрел, керамика с расчесами и многое другое: см., в частности: Гогадзе, 1972; Миндиашвили, 1986. С. 403; Путуридзе, 1990. С. 47-60; Джапаридзе, 1996; Махарадзе, 1996) не оставляет сомнений в том, что основная роль в этих передвижениях принадлежала носителям культур погребений с повозками (новотиторовской культуры Прикубанья прежде всего), а несколько позднее - генетически связанной с нею раннекатакомбной культуре. Таким образом, южные “элементы”, “корни” или “заимствования” ряда культур катакомбной общности - не что иное как результат миграционных процессов, генеральным вектором которых было движение групп древнего населения через перевалы Большого Кавказа с севера на юг. Содержание этой парадоксальной ситуации могло иметь разные формы (серия последовательных походов или проникновений с последующим возвращением, реэмиграция части степного населения в пределы родных кочевий, более или менее регулярное общение ушедших с оставшимися на родине соплеменниками), однако диаметральная противоположность векторов движения населения и целого ряда вещей или идей в этой ситуации прослеживается еще более отчетливо, чем в первом случае. И заставляет в корне изменить наше отношение к гипотезе о южных компонентах культур катакомбной общности.
В завершение сформулируем два основных вывода, следующих из проделанного, достаточно беглого, обзора.
Во-первых, имеющиеся реконструкции крупных миграций бронзового века в Причерноморье и Предкавказье в ряде случаев грешат излишней прямолинейностью. В качестве масштабных, достаточно дальних и однонаправленных миграций зачастую определяются целые протяженные во времени эпохи интенсивного и разнопланового взаимодействия крупных этнокультурных массивов, складывавшихся из целых серий незначительных по своим масштабам подвижек населения. Последние включали в том числе и “маятниковые” перемещения, возможно, обусловленные спецификой хозяйственной деятельности. Такие передвежения населения были наполнены различными формами взаимодействий и контактов (обмен, торговля, военная добыча, заимствование технологических новаций и др.). Одной из причин такого “упрощенчества” является специфика и определенная информационная ограниченность самих археологических источников и критериев.
Во-вторых, бесспорно имели место ситуации, когда генеральные векторы движения групп древнего населения были прямо противоположными по отношению к направлениям движения “вещей” (импортов, заимствований, идей, технологических приемов и т.д.). Что при недостаточно широком взгляде или недостаточной системности подходов способствует созданию гипотез, отражающих реальные события “с точностью до наоборот”. Определенные аналогии рассмотренным процессам можно найти и в других исторических эпохах (ближневосточные и античные импорты и реплики в скифо-сарматской среде; перемещение ценностей в ходе войн и следовавших за ними репараций в новейшее время и т. д.).
В этом плане, помимо рассмотренных, интересными для углубленного анализа оказываются и многие другие ситуации. Такие как проблема распространения традиций балканской металлургии и балкано-карнатского металла, а также зооморфных скипетров в энеолите степной полосы Евразии, имеющая прямое отношение к диаметрально противоположным гипотезам о западных или восточных импульсах сложения древнеямной общности. Или проблема о векторах распространения “колесничных культур” в рамках абашевско-синташтинско-покровского массива, толкуемая пока тоже крайне противоречиво (Синюк, 1996. С. 202-209; Отрощенко, 1996; Матвеев, 2005 и др.).
Список литературы О характере, критериях и векторах миграционных процессов бронзового века Циркумпонтийской зоны
- Артамонов М.И., 1949. Раскопки курганов на р. Маныче в 1937 г.//СА. М.; JI. Вып. XI.
- Братченко С.Н., 2001. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ.
- Гей А.Н., 1991. Новотиторовская культура (предварительная характеристика)//СА. № 1.
- Гей А.Н., 1994. Проблема формирования новотитаровской культуры в Степном Прикуба-нье//Археологические и этнографические исследования Северного Кавказа. Краснодар.
- Гей А.Н., 2000. Новотиторовская культура. М.
- Гогадзе Э.М., 1972. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети. Тбилиси.
- Джапаридзе О.М., 1996. Культура ранних курганов на территории Закавказья//Между Азией и Европой: Кавказ в IV-I тыс. до н.э. СПб.
- Збенович В.Г., 1987. Место трипольской культуры в энеолите Причерноморья//Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. Тбилиси.
- Кияшко А.В., 1999. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград.
- Кияшко А.В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград.
- Клейн JI.C., 1968. Происхождение донецкой катакомбной культуры: Дис.... канд. ист. наук. Л.
- Ковалева И.Ф., 1978. Погребения животиловского типа в Присамарье//Курганные древности Степного Поднепровья IIX-I тыс. до н.э. Днепропетровск.
- Ковалева И.Ф., 1991. Погребения с майкопским инвентарем в Левобережье Днепра: (к выделению животиловского культурного типа)//Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск. Вып. 15.
- Кол Ф.Л., 2004. Модели трансформации культуры: от оседлых земледельцев к скотоводам: (Триполье и курганные культуры)//РА. № 4.
- Косарев М. Ф., 2004. Миграция как модель исторического процесса//Памятники археологии и древнего искусства Евразии. М.
- Матвеев Ю.П., 2005. О векторе распространения "колесничных" культур эпохи бронзы//РА. №3.
- Махарадзе З.Э., 1996. Поселение Цихиагора и проблема периодизации культур эпохи бронзы на территории Грузии//Между Азией и Европой: Кавказ в IV-I тыс. до н.э. СПб.
- Мерперт Н.Я., 1978. Миграции в эпоху неолита и энеолита//СА. № 3.
- Миндиашвили Г.В., 1986. Курганы у с. Хелтубани//АО 1984 г. М.
- Нариманов И.Г., Ахундов Т.И., 1994. К выделению культуры "подкурганных склепов"//XVIII "Крупновские чтения" по археологии северного Кавказа: Тез. докл. Кисловодск.
- Нечитайло A.JI., 1991. Связи населения степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. Киев.
- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1974. Происхождение дольменной культуры Северо-Западного Кавказа//Сообщения научно-методического совета по охране памятников культуры Мин-ва культуры СССР. М. Вып. VII.
- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1979. Происхождение катакомбного обряда в Восточной Европе//Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы: Тез. докл. конф. Донецк.
- Николаева Н.А., Сафронов В.А., 1981. Древнейшая катакомбная культура Северного Кавказа и проблема появления катакомбного обряда в Восточной Европе//Катакомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе.
- Отрощенко В.В., 1996. Южноуральский очаг культурогенеза на оси пассионарных толчков//Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи. Воронеж. Вып. 2.
- Петренко В.Г., 1989. Памятники энеолита и поворот эпохи к бронзовому веку в Северо-Западном Причерноморье//История и археология Нижнего Подунавья: Тез. докл. семинара. Рени.
- Пустовалов С.Ж., 1993. Деям близькосхщш елементи в щеологи катакомбного населения Швшчного Причорномор'я//Археолопя. № 1.
- Путуридзе М., 1990. Традиции и инновации в триалетской культуре эпохи средней бронзы//Традиции и инновации в материальной культуре древних обществ. М.
- Рассамакин Ю.Я., 1998. Станица Новосвободная и Понтийская степь: новый источник решения актуальной проблемы//Проблемы археологии Юго-Восточной Европы: Тез. докл. VII Донской археологической конф. Ростов-на-Дону.
- Рысин М.Б., 1996. К проблеме синхронизации памятников среднего бронзового века Северного и Южного Кавказа//Между Азией и Европой: Кавказ в IV-I тыс. до н.э. СПб.
- Синюк А.Т., 1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж.
- Смирнов A.M., 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М.
- Титов B.C., 1982. К изучению миграций бронзового века//Археология Старого и Нового Света. М.
- Фисенко В.А., 1966. О происхождении и хронологии катакомбной культуры: Учеб. пособие по курсу истории СССР. Саратов.
- Черных Е.Н., 1988. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы//Древний Восток: Этнокультурные связи. М.
- Шилов В.П., Багаутдинов Р.С., 1998. Погребения энеолита -ранней бронзы могильника Эвдык//Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара.
- Шилов Ю.А., 1990. Космические тайны курганов. М.
- Шишлина Н.И., 2002. К вопросу о начале бронзового века в северо-западном Прикаспии//Проблемы археологии Евразии: К 80-летию Н.Я. Мерперта. М.
- Яровой Е.В., 2006. Памятники доямного времени Северо-Западного Причерноморья//Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург.
- Djaparidze О., 1993. Uber die ethnokulturelle Situation in Georgien gegen Ende des 3. Jahr-tausends v. Chr.//Between the rivers and over the mountains: Archaeologica Anatolica et Mesopotamia Alba Palmieri dedicata. Roma.