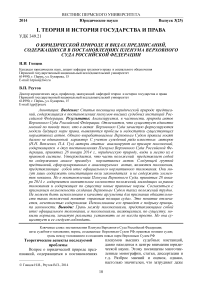О юридической природе и видах предписаний, содержащихся в постановлениях пленума Верховного Суда Российской Федерации
Автор: Гонцов Н.И., Реутов В.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 3 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
Введение: Статья посвящена юридической природе предписаний, содержащихся в постановлениях пленумов высших судебных инстанций Российской Федерации. Результаты: Анализируется, в частности, природа актов Верховного Суда Российской Федерации. Отмечается, что существует единство мнений по поводу того, что в актах Верховного Суда зачастую формулируются модели будущих норм права, выявляются пробелы и недостатки существующих нормативных актов. Однако вырабатываемые Верховным Судом правила носят далеко не одинаковый характер. С учетом суждений ряда известных авторов (Н.Н. Вопленко, П.А. Гук) авторы статьи анализируют на примере положений, содержащихся в двух постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, принятых 28 января 2014 г., юридическую природу, виды и место их в правовой системе. Утверждается, что часть положений представляет собой по содержанию аналог преамбул нормативных актов. Следующей группой предписаний, сформулированных в анализируемых актах, являются положения, представляющие собой итог официального нормативного толкования. Они могут лишь содержать констатацию воли законодателя и не содержать элементов новизны. Но в постановлениях Пленума Верховного Суда, принятых 28 января 2014 г. содержится значительное количество положений, выходящих за рамки толкования и содержащих по существу новые правовые нормы. Согласиться с признанием возможности создания Верховным Судом таких положений трудно. Не может быть использовано в качестве аргумента для признания обязательности таких положений понятие «правовая позиция суда». Это понятие отличается, нечеткостью содержания. Использование его приведет к подрыву принципа законности. Выводы: Грань между положениями, представляющими собой итог официального толкования, и положениями, являющимися, по существу, новыми нормами, зачастую размыта, установить ее не всегда просто. Но она существует и ее следует соблюдать.
Постановления пленума верховного суда российской федерации, акты судебного толкования, нормы, создаваемые верховным судом рф, правовые позиции судов, грань между толкованием и созданием новых норм верховным судом рф
Короткий адрес: https://sciup.org/147202416
IDR: 147202416 | УДК: 349.21
Текст научной статьи О юридической природе и видах предписаний, содержащихся в постановлениях пленума Верховного Суда Российской Федерации
акты судебного толкования; нормы, создаваемые Верховным Судом РФ; правовые позиции судов; грань между толкованием и созданием новых норм Верховным Судом РФ
Теоретические аспекты исследуемой проблемы
Вопрос о юридической природе предписаний, содержащихся в постановлениях
пленумов высших судебных инстанций, давно находится в центре внимания юридической науки. Этому посвящены многочисленные монографии, статьи, диссертации и т.д. Разброс мнений и оценок, однако, настолько значителен, что затрудняет даже выделить сколько-нибудь существенные «точки согласия». Пожалуй, согласие имеется, прежде всего, по вопросу о том, что акты высших судебных инстанций (здесь речь пойдет об актах Верховного Суда Российской Федерации, ибо статус Конституционного Суда отличается серьезной спецификой) играют существенную роль в правотворчестве. Содержащиеся в них пра-воположения выступают в качестве прообразов будущих норм, закрепляются впоследствии законодателем в нормативных актах.
Сформулированные высшими судебными органами модели будущих норм играют роль промежуточного этапа, звена в процессе формирования правовой нормы. Одновременно они свидетельствуют о необходимости изменений в законодательстве и предлагают почти готовый вариант, «черновой набросок» будущей нормы [13, с. 86]. Выявляя пробелы и недостатки в законодательстве, они должны служить побудительным мотивом и основой использования высшими судебными органами принадлежащего им права официальной законодательной инициативы.
Исследуя эту проблему, И.В. Колесник допускает возможность самостоятельного существования положений, сформулированных высшими судебными инстанциями, но справедливо пишет о том, что более оптимальным было бы развитие связи правотворчества и правоприменения без совмещения этих функций в одном лице. Нынешняя система правового мониторинга позволяет, по мнению авторов, оперативно инициировать в необходимых случаях правотворческий процесс [8, с. 29].
Другой «точкой согласия» при изучении проблем судебной практики является признание различий в юридической природе содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ предписаний. Так, описывая возможные направления дальнейшего изучения проблем судебной практики, П.А. Гук насчитал десять разновидностей таких предписаний. В числе их им, например, названы напоминания о необходимости правильного применения закона, толкование, разъяснение действующих норм, конкретизирующие нормы правопо- ложения, прецеденты Европейского Суда по правам человека и другие [7, с. 93–95].
Выводы П.А. Гука заслуживают внимательного изучения. Но вряд ли можно с ним согласиться, в частности, когда он почти в каждом случае заканчивает анализ напоминанием о том, что данный вид предписаний обязателен для судов. В принципе, это действительно так. Ибо п. 3 ст. 5 закона «О Верховном Суде Российской Федерации» требует от Пленума Верховного Суда обеспечить единство судебной практики [10]. А сделать это иначе, чем снабдить предписания атрибутом обязательности невозможно. Однако степень обязательности и характер предписаний, видимо, не могут быть одинаковы.
Именно на это обращает внимание Н.Н. Вопленко. Со ссылками на результаты многочисленных исследований проблем судебной практики автор отмечает наличие множества нормативных явлений, порождаемых правоприменительной практикой высших судебных органов. При этом Н.Н. Вопленко справедливо сетует на то, что разные авторы вкладывают в содержание понятий, обозначающих нормативные элементы практики, свой специфический смысл.
С учетом проведенного Н.Н. Вопленко анализа можно согласиться, по существу, с предлагаемым им подходом к характеристике основных видов нормативных и близких им по смыслу предписаний, содержащихся в актах высших судебных инстанций, в частности, в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, Н.Н. Вопленко пишет о прецеденте толкования, прецеденте применения, правоположении, деловом обыкновении [5, с. 315]. По поводу использования терминов прецеденты толкования и прецеденты применения остаются серьезные сомнения. Их можно использовать, да и то достаточно условно, когда речь идет о ссылке на конкретный случай. Но и тут полной аналогии с прецедентом, присущим англосаксонскому праву, быть не может. Но если вести речь о природе предписаний, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, то речи о прецедентах здесь вообще быть не может. Вызывает сомнение и необходи- мость выделения такого элемента как деловые обыкновения (организационные обычаи). Скорее всего они вполне укладываются в другие разновидности предписаний, ибо выделены по иному основанию.
Подчеркнем еще раз, что термин «прецедент» совершенно не годится для характеристики предписаний, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда, ни в его классическом понимании, характерном для англосаксонского права, ни для обозначения положений, создаваемых судебной практикой в процессе толкования и конкретизации правовых норм.
Прецедент возник в других условиях, приспособлен к иным подходам и методам регулирования и не может выступать в качестве формы выражения и закрепления содержания правовых норм в условиях Российской правовой системы. Прецедент не лучше и не хуже нормативных актов, он просто «не стыкуется» в полной мере с нормативными актами, создаваемыми в странах с континентальными правовыми системами, ибо последние отличаются большей степенью формальной определенности. Даже в случае судебных решений, принимаемых международными судебными органами, в частности, Европейским судом по правам человека, и решений, принимаемых Конституционным судом РФ, их оценка как имеющих прецедентный характер не бесспорна и разделяется не всеми [14, с. 67– 68].
Для дальнейшего анализа необходимо сделать еще одно замечание. П.А. Гук перечисляет в упомянутой работе разновидности предписаний, исходящих от Пленума Верховного Суда, не связывая их между собой в определенной последовательности. Воплен-ко Н.Н., напротив, настаивает на постепенном возрастании значимости от низшего («прецедента толкования») к высшему («деловым обыкновениям»).
Дело, видимо, в том, что анализ Н.Н. Вопленко во многом связан с обоснованием предлагаемого им правотворческого толкования [5, с. 337]. Действительно, для описания и обоснования перехода положений, сформированных практикой, в закон это необходимо. У П.А. Гука этого нет, ибо цели его анализа иные – показать различ- ную природу правовых предписаний, содержащихся в актах высших судебных инстанций и, в частности, в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Анализ актов Пленума Верховного Суда РФ
Следует подчеркнуть, что перед авторами данной публикации стоит достаточно скромная задача – попытаться определить природу и классифицировать отмеченные предписания. Очевидно, их можно классифицировать по самым различным основаниям. В частности, по относимости к одной из отраслей права или одновременно к нескольким отраслям, по адресатам, которым направлены предписания и т.д.
Но важнее классификация, в основание которой положены особенности юридической природы, степень обязательности и место предписания в правовой системе. (Скорее всего все три признака тесно связаны между собой и являются проявлением единой сущности анализируемого явления). В качестве объекта исследования ограничимся двумя недавно принятыми актами: постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. №1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» и постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. №2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» [15]. (В дальнейшем – постановление №1 и №2).
Обращает на себя внимание тот факт, что оба постановления открываются пунктами, в которых содержится напоминание о целях правового регулирования в областях, ставших предметом внимания высшей судебной инстанции. В постановлении №1 говорится, в частности, о том, что целью правового регулирования в данной области является создание благоприятных и безопасных условий труда (п. 1). В постановлении №2 в п. 1 говорится о важности регулирования производства в суде кассационной инстанции как гарантии законности судебных решений по уголовным делам и реализации конституционного права граждан на судебную защиту.
Для специалистов в указанных областях сразу становится очевидно, что в отмеченных пунктах дословно воспроизведены соответствующие положения Трудового и Уголовно-процессуального кодексов и эти пункты не несут на себе непосредственно регулирующей функции.
Нет оснований считать, что названные и другие подобные пункты постановлений излишни, не имеют смысла и т.д. Скорее всего они необходимы, ибо напоминают судьям и иным правоприменителям важные и принципиальные положения правового регулирования. Они не содержат ни уточняющих, конкретизирующих положений, ни разъяснений смысла используемых терминов или содержания правовых норм. Их влияние на процесс правового регулирования может осуществляться лишь косвенно, опосредованно, через воздействия на правосознание участников данного процесса. Соответственно определяется и их место в правовой системе – среди идейнонравственных факторов, влияющих на принимаемые правоприменительные решения.
Они во многом напоминают по своей юридической природе и назначению преамбулы нормативных актов. В специальных исследованиях, посвященных роли и значению преамбул нормативных правовых актов, отмечается, что преамбулы выполняют функции программирования, информационно-познавательную, координирующую и ряд других. В конечном счете преамбула выступает особым регулятором общественных отношений [2, с. 130–140].
Следующей группой предписаний, сформулированных в анализируемых актах, являются положения, представляющие собой итог легального нормативного судебного толкования. Необходимо заметить, что и в анализируемых постановлениях, и других подобных актах данные предписания занимают по приблизительным подсчетам не менее двух третьих общего количества пунктов.
Однако предписания, представляющие собой результат толкования норм права, по природе своей носят далеко не одинаковый характер. Начнем с тех, которые можно назвать классическими. Они не содержат элементов новизны, представляют собой констатацию воли законодателя, выявленную традиционными (грамматическим, логическим, специально-юридическим) методами толкования. Указанные положения по объему могут быть буквальными, ограничительными или расширительными. Но все они, как уже отмечено, не содержат элементов нового, попыток вторжения в сферу законодателя, находятся полностью в сфере правоприменения.
Примером такого рода предписаний может быть п.3 постановления №1, в котором определяется дискриминация в сфере труда со ссылкой на Конвенцию Международной организации труда 1958 г. №111 и статью 3 ТК РФ и затем делается вывод о том, что в отношении женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних не допускается различия при приеме на работу, установлении оплаты труда, продвижения по службе и т.д., не основанные на деловых качествах работников, характеристиках условий труда.
Такой же характер носят предписания, содержащиеся в п. 3 постановления №2. В нем указано, что производство в суде кассационной инстанции осуществляется с соблюдением установленным УПК РФ требованием инстанционности, в соответствии с которым кассационная жалоба и представление рассматриваются в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде кассационной инстанции. Поэтому жалоба может быть рассмотрена в коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ при условии, что она была предметом рассмотрения президиумом нижестоящего суда. Это правило, считает Пленум Верховного Суда РФ, распространяется и на другие судебные акты. Данный вывод не содержит ничего нового. Он прямо вытекает из содержания соответствующих статей УПК.
Что касается заключительного абзаца п. 3 постановления №2, то сформулированное здесь правило не столь очевидно вытекает непосредственно из норм УПК. В нем говорится, что кассационная жалоба или представление, в которых одновременно обжалуется приговор и постановление судьи, вынесенное в порядке исполнения приговора, подлежат рассмотрению судом кассационной инстанции, правомочным пересматривать приговор, независимо от того, судьей какого районного суда (этого же или другого субъекта Российской Федерации) выносилось решение в порядке исполнения приговора.
На первый взгляд это положение носит характер нового правила, ибо прямое указание такого рода в УПК отсутствует. Но представляется, что оно все-таки является результатом официального судебного толкования опять же с элементами расширительного характера. Используя принцип процессуальной экономии, исходя из цели максимальной защиты прав осужденных (телеологический способ толкования), суд пришел к выводу, что данный порядок соответствует содержанию норм УПК о подсудности. Здесь, как и в первом случае, нет вторжения суда в сферу правотворчества. Суд вправе формулировать такого рода положения, являющиеся итогом легального толкования.
В связи с анализом данных положений необходимо выяснить еще два момента, связанных с их природой. Во-первых, решить, следует ли считать их создание конкретизацией правовых норм? Здесь все зависит от понимания самого термина конкретизация. Если конкретизацию понимать широко, включая правотворческую конкретизацию, конкретизацию принципов права в процессе правоприменения, то, в известном смысле, эта деятельность может рассматриваться и как конкретизация, в данном случае, принципа гуманизма.
Но если рассматривать конкретизацию в более узком значении, как конкретизацию законодательства в процессе правоприменения, то здесь нет конкретизации. Или можно согласиться с существованием предлагаемого в специальных исследованиях особого вида конкретизации – праворазъяснительной [1, с. 21].
Во-вторых, необходимо сопоставить создаваемые в результате толкования положения с часто используемым в работах понятием правоположения как итога, результата единообразного решения практикой, прежде всего, судебной, определенных вопросов. В литературе, в которой затрагива- ется данная проблема, превалирует точка зрения, в соответствии с которой правопо-ложения формируются судебной или иной правоприменительной практикой в результате конкретизации в собственном (узком) смысле слова правовых норм. В частности, когда суд или иной правоприменительный орган наполняет конкретным содержанием термины, оценочные понятия, устраняет языковые погрешности нормативных актов и т.д. [9, с. 10].
Справедливости ради следует заметить, что в литературе отмечается и наличие других подходов к понятию правоположе-ния. В частности, правоположения отождествляются с итогом любой конкретизации, с понятием нормы права и способа решения коллизий и т.д. [16, с. 329–331]. Но с учетом изложенного можно сделать вывод о том, что создаваемые в результате толкования выводы не являются правоположения-ми, конкретизирующими правовые нормы. Может быть, точнее сказать, как уже отмечалось, что здесь имеет место особого вида конкретизация – конкретизация в процессе толкования.
Именно такой подход один из авторов настоящей статьи отстаивал еще много лет тому назад [12, с. 116–117]. Термин право-положение, скорее всего, необходимо использовать, прежде всего, в тех случаях, когда высшие судебные инстанции в результате обобщения практики нижестоящих судов по конкретным делам или по собственной инициативе принимают решение с применением аналогии закона или аналогии права. Учитывая реально существующую на сегодняшний день ситуацию, связанную с тем, что высшие судебные органы, как будет показано далее, зачастую вторгаются в сферу законодателя, данный термин допустим, прежде всего, для обозначения тех правил, которые сформулированы судом, «готовы» и нуждаются в перенесении их в соответствующие нормативные акты.
Кроме проанализированных, в актах Пленума Верховного Суда немало и иных положений, содержание которых выходит за рамки смысла, вложенного в нормы, ставшие предметом внимания Верховного Суда, законодателем. Примеров такого рода достаточно, в частности, в постановлении №1.
Так, ч. 4 п. 2 указанного акта гласит, что к лицам, воспитывающим детей без матери, кроме отца, опекунов и попечителей, могут быть отнесены и иные лица. Но ст. 264 ТК РФ дает строго исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на гарантии и льготы в связи с воспитанием детей без матери. Об иных лица там не упоминается. Как известно, исчерпывающие перечни расширительному толкованию не подлежат.
Часть 3 пункта 6 постановления №1 содержит указание, что если один из родителей возражает против заключения трудового договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет, необходимо учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. В ст. 63 ТК РФ, посвященной регулированию данных вопросов, такого положения нет. Суд явно вышел за пределы своих полномочий и вторгся в сферу законодателя. Тем более что это положение не согласуется со ст. 65 Семейного кодекса РФ, в которой говорится о том, что все вопросы воспитания и образования рассматриваются по взаимному согласию родителей, а в случае его отсутствия спор решается судом. Учет мнения ребенка в СК РФ предусмотрен только в отношении определения судом места жительства детей. Устанавливая данное правило, суд, по существу использовал аналогию закона, применив нормы, относящиеся к воспитанию и образованию, к регулированию трудовых отношений. Строго говоря, и необходимости в этом никакой нет. Субъектом в данных отношениях является подросток от 14 до 15 лет, подавший заявление о приеме на работу. О чем еще его мнение надлежит выслушать?
Практически такой же характер носит и еще ряд пунктов анализируемого постановления. Так, ч. 3 п. 13, посвященного регулированию проблем рабочего времени, говорит о том, что неполный рабочий день должны иметь не только лица, указанные в ст. 93 ТК РФ, но и другие лица, воспитывающие детей в возрасте до четырнадцати лет. Но опять же это не дело суда – расширять исчерпывающий перечень, установленный законодателем.
Серьезные вопросы возникают и при анализе ч. 1 и ч. 2 п. 13 постановления №1.
Пленум Верховного Суда сформировал правило, согласно которому для женщин, работающих в сельской местности, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не установлена трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. В обосновании этого Верховный Суд ссылается на ст. 320 ТК РФ и Постановление Верхового Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
С подобной трактовкой Верховным Судом указанных положений трудно согласиться, так как женщины, работающие в сельской местности и женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – это разные категории работников, труд которых регулируется по-разному в различных нормативных актах. Согласно ст. 320 ТК РФ сокращенная 36-часовая рабочая неделя для женщин, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям устанавливается коллективным договором или трудовым договором, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. Поэтому обязательности установления 36-часовой рабочей недели для этой категории женщин Трудовой кодекс не содержит, тогда как Верховный Суд формулирует данное правило как императивное, что противоречит указанной статье кодекса. Из содержания ст. 320 ТК РФ следует вывод о том, что если в договорном порядке для данной категории женщин не установлено сокращенное рабочее время, то в отношении них будет действовать общее правило, согласно которому рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Но в соответствии с этим и работа в течение 40 часов в неделю не будет расцениваться как сверхурочная (превышающая 36-часовую норму), а зна- чит, не должна оплачиваться в повышенном размере, как того требует ч. 2. п. 13 постановления №1. Все сказанное свидетельствует о том, что в данном случае Верховный Суд вторгся в сферу законодателя и внес существенные изменения в ст. 320 ТК РФ, на что полномочий у высшего судебного органа нет.
Применительно к рассматриваемой ситуации может быть уместно вспомнить закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» от 19 февраля 1993 г. №45-20-1. Согласно ст. 22 этого акта для женщин, работающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для отдельных категорий женщин иными законодательными актами Российской Федерации. Данный закон сформулировал это правило как императивное и Верховный Суд в анализируемом постановлении трактует его таким же образом, но соответствующая норма определена в кодексе, который, во-первых, имеет большую юридическую силу и, во-вторых, является актом более поздним по времени принятия, что означает отмену ранее действовавших аналогичных правил. Поэтому руководствоваться следует нормами Трудового кодекса.
В поддержку названных правил, установленных Верховным Судом, можно указать на то, что они улучшили условия труда женщин в районах Крайнего Севера, так как обязывают работодателей устанавливать для них сокращенную рабочую неделю с сохранением полной оплаты труда, хотя такой обязанности у них по закону нет. В этом случае также нужно констатировать, что подобных полномочий Верховный Суд не имеет, это сфера действия законодателя.
Иная ситуация с другой категорией женщин – тех, кто работает в сельской местности. В соответствии с указанными выше постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. для них устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодатель- ными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. Иначе говоря, данная норма сформулирована императивно, чем принципиально отличается от ст. 320 ТК РФ, поэтому толкование Верховным Судом этого правила адекватно содержанию анализируемого нормативного акта.
Подводя итог приведенным рассуждениям в отношении п. 13 постановления №1 Пленума Верховного Суда, следует подчеркнуть, что в данном случае высший судебный орган необоснованно объединил в одну группу работников с одинаковым режимом работы две разные категории женщин, для которых по-разному устанавливается рабочее время. Тем самым Верховный Суд создал новую норму права, на что он не уполномочен.
Анализируя практику, складывающуюся в связи с рассмотрением исков женщин, уволенных во время беременности, Верховный Суд в указанном постановлении по существу сформулировал ряд новых норм, дополняющих ст. 261 ТК. В частности, определил, как нужно формулировать основание увольнения, когда ко времени рассмотрения спора организация ликвидирована, какую дату при этом следует считать датой увольнения и др. (ч. 3 п. 24). Совершенно очевидно, что это не прерогатива суда. Данные правила должны устанавливаться соответствующими органами в процессе правотворчества.
Оценка ряда пунктов постановления №1 как включающих положения, выходящие за рамки толкования и содержащих по существу новые нормы, конкретизирующие и дополняющие действующие, в известной мере относятся и к отдельным правилам, сформулированным в постановлении №2. Так, ч. 1 п. 9 постановления предусматривает, что пропущенный при подаче кассационной жалобы, предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого допускается поворот к худшему при пересмотре судебного решения в кассационном порядке, восстановлению не подлежит вне зависимости от уважительности причины его пропуска. Более того, в постановлении указано, что даже если постановление о пе- редаче жалобы в кассационную инстанцию было вынесено до истечения годичного срока, ходатайство не рассматривается.
Нетрудно догадаться, что этими правилами Верховный Суд защищает интересы осужденных. Но законность данной новеллы далеко не бесспорна. Пункт 3 статьи 401.2 УПК РФ совершенно четко и однозначно предусматривает возможность восстановления пропущенного по уважительной причине годичного срока обжалования судебных актов в кассационную инстанцию. Устанавливая исключение из этой нормы, суд вышел за пределы своей компетенции, подменив законодателя, установил новые нормы. Интересно, что и ст. 389.5, на которую ссылается законодатель в ст. 401.2 УПК, также не содержит никаких ограничений.
При анализе этого вопроса необходимо учитывать, что ст. 401.1 УПК о предмете судебного разбирательства в кассационном порядке предусматривает проверку законности судебных актов. Статья 401.16 УПК о пределах прав суда кассационной инстанции предусматривает право суда на проверку производства по уголовному делу в полном объеме. Да и п. 22 анализируемого постановления со ссылкой на ст. 401.16 УПК также требует устранять выявленные в процессе заседания существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. Как можно реализовать эти требования, если участник процесса, пропустивший по уважительной причине срок на подачу кассационной жалобы, лишен права на ее рассмотрение?
В данном случае налицо столкновение интересов участников процесса. Он решен судом в пользу осужденных. Но при этом возникает явная угроза законности и обоснованности вступивших в законную силу судебных актов. Вопрос этот принципиальный, его должен решать законодатель с учетом всех возможных последствий, как социально-нравственных, так и юридических. А у суда сохраняется право на отстаивание своей позиции, воспользовавшись правом официальной законодательной инициативы, предусмотренной Конституцией Российской Федерации.
Итак, на основе анализа двух Постановлений Верховного Суда можно сделать вывод о том, что содержащиеся в них предписания фактически носят характер официального толкования (разъяснения) правовых норм, зачастую расширительного или ограничительного характера, либо толкования с элементами правотворчества (правотворческое толкование Н.Н. Вопленко). Оба эти вида предписаний могут рассматриваться как конкретизация правовых норм. Но природа предписаний, как и природа конкретизации далеко не одинакова. Если создание первого вида предписаний со стороны Верховного Суда не может вызывать возражений, то с признанием возможности создания предписаний второго вида согласиться трудно.
Не колеблет данный вывод существование особой разновидности конкретизации – конкретизации высшими судебными инстанциями так называемых оценочных понятий. В специальной литературе отмечается, что оценочные понятия используются прежде всего в случаях, когда содержанию того или иного термина сложно подобрать адекватное определение. Тогда правоприменители прибегают к иному приему, сходному с формулированием определения. Это разъяснение слов или словосочетаний путем непосредственного указания предметов действий или ситуаций, обозначенных этими словами или словосочетаниями.
Примером из постановления №1 может служить ч. 2 п. 28, где описывается понятие «одинокая мать» как мать, воспитывающая детей без отца, если отец умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограничено дееспособным), не может воспитывать и содержать детей по состоянию здоровья, отбывает наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей, в иных ситуациях.
Данное понятие давно является предметом споров как в теории, так и особенно в правоприменительной практике. Суды при принятии решений по конкретным делам по-разному определяют его, что не способствовало единообразному правоприменению. Верховный Суд дал широкое толкова- ние термина одинокой матери, считая, что к ним относятся любая женщина, которая одна фактически осуществляет родительские функции. Очевидно, с таким пониманием термина одинокой матери следует согласиться в силу, по крайней мере, двух причин. Во-первых, с общесоциальной демографической позиции. Число одиноких матерей возрастает в связи с разными обстоятельствами, прежде всего, это связано с распространением так называемого «гражданского брака». Поэтому на женщин, родивших ребенка вне юридически зарегистрированного брака возлагаются важные социальные функции. Во-вторых, с юридической точки зрения. Часть 4 статьи 261 ТК РФ, говорит о том, что одинокая мать, это женщина, воспитывающая ребенка одна (подчеркнуто авторами). Именно воспитывающая, а не родившая ребенка вне юридического брака, и не важно, в каких отношениях с ребенком находится отец. Отец, может, и проживает в семье, но, если он никак не участвует в воспитании ребенка, такую женщину следует признать одинокой матерью со всеми юридическими последствиями.
Интересный пример содержится и в постановлении №2. В пункте 21 описывается содержание оценочного понятия «нарушения, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия». Применительно к нарушениях уголовно-процессуального закона это сделано путем перечисления ряда конкретных статей УПК и общей фразы о том, что к таковым относятся нарушения, которые лишили участников уголовного судопроизводства гарантированных законом прав на справедливое судебной разбирательство.
Оба приведенных примера показывают, что конкретизация оценочных понятий не отличается сколько-нибудь существенными особенностями. Это официальное толкование, зачастую с элементами расширительного или ограничительного характера. Возможны и ситуации, когда при конкретизации оценочного понятия суд выходит за рамки официального толкования, вносит элемент правотворчества. Существует и другой взгляд. Так, А.И. Овчинников полагает, что в случае толкования оценоч- ных понятий, как и при любом нормативном толковании, имеет место правотворчество. Представляется, что для такого вывода нет достаточных оснований [11, с. 104].
Интересный факт, когда Пленум Верховного Суда РФ, попытавшись дать толкование таким понятиям, как «дополнительные материалы» и «проверка доказательств», в конце концов был вынужден обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в УПК РФ, приводит Г.Я. Борисевич [3, с. 249].
В связи с рассматриваемыми вопросами необходимо остановиться еще на одной проблеме – так называемых правовых позициях судов. Им ныне посвящается немалое количество публикаций. Думается, что правы те авторы, которые предостерегают от интенсивного использования данного понятия, которое неизбежно ведет к неопределенности судебного решения, его рыхлости и нечеткости, подрыву основ законности. Использование понятия правовой позиции как формы (источника) права в условиях, когда само его содержание толкуется совершенно по-разному, недопустимо [4, с. 166].
На сегодняшний день за данным термином стоят явления, не имеющие строгого содержания. Это скорее термин из ряда таких, как «правовая материя», «правовая почва» и т.п. Использование его и ряда других подобных терминов способно лишь исказить природу анализируемых явлений, усложнить понимание исследуемых процессов [17, с. 114].
Выводы
Подведем некоторый итог. Акты, принимаемые Пленумом Верховного Суда РФ, содержат предписания, адресованные практически всем субъектам права. Но по своей природе и роли в правовой системе они отличаются друг от друга. Ряд положений напоминают преамбулы нормативных актов. Большая часть предписаний – итог официального нормативного толкования. Лишь некоторые содержат по существу новые правила (нормы), на создание которых судебные органы не уполномочены. Грань между первыми и вторыми достаточно раз- мыта, установить ее не всегда просто. Но она существует. И ее следует соблюдать. А в необходимых случаях Верховному Суду надлежит использовать принадлежащее ему право официальной законодательной инициативы.
Список литературы О юридической природе и видах предписаний, содержащихся в постановлениях пленума Верховного Суда Российской Федерации
- Баранов В.М., Лазарев В.В. Конкретизация права: понятие и пределы//Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики. Н. Новгород, 2008. С. 16-33.
- Баранов В.М., Лутова Л.К. Преамбула нормативного правового акта. Н. Новгород, 2012. 404 с.
- Борисевич Г.Я. О согласованности норм УПК, ГПК АПК РФ, регламентирующих апелляционное производство//Пермский конгресс ученых-юристов. Пермь, 2013. С. 248-250.
- Власенко Н.А., Гринева А.В. Судебные правовые позиции (основы теории). М.: ИД «Юриспруденция», 2009. 166 с.
- Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. 898 с.
- Гетманцева Н.Д. Роль судебной практики в конкретизации оценочных понятий трудового законодательства//Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики. Н. Новгород, 2008. С. 821-828.
- Гук П.А. Судебное нормотворчество: теория и практика. Саарбрюккен, 2012. 188 с.
- Колесник И.В. Влияние правоприменительной технологии на современное правотворчество//Вестник Нижегородской академии МВД России. Сер.: Юридическая наука и практика. 2011. №3(16). С. 22-29.
- Лазарев В.В. Правоположения: понятие, происхождение и роль в механизме юридического воздействия//Правоведение. 1976. №6. С.7-15.
- О Верховном Суде Российской Федерации: Федер. Конституц. закон от 5 февр. 2014 г. №3-ФКЗ//Рос. газета. 2014. №27.
- Овчинников А.И. Неявное правотворчество в процессе конкретизации юридических норм//Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики. Н. Новгород, 2008. С. 100-112.
- Реутов В.П. Стадии воздействия юридической практики на развитие законодательства//Правоведение. 1970. №3. С. 115-123.
- Реутов В.П. Типы правопонимания и природа правотворчества//Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики. М., 2010. С. 80-86.
- Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права//Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2010. Вып. 2(8). С. 54-70.
- Рос. газета. 2014. №27.
- Уткина А.В. К вопросу о понятии «правоположение» в юридической науке//Вестник Нижегородской академии МВД России. Сер.: Юридическая наука и практика. 2011. №3. С. 327-331.
- Шабуров А.С. Юридические понятия и терминология как средства познания права//Источники права и источники познания права: материалы круглого стола, 21-22 июня 2013 г. Екатеринбург, 2013. С. 110-114.