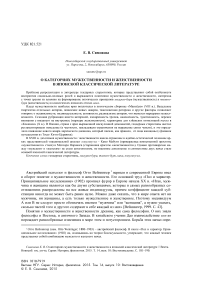О категориях мужественности и женственности в японской классической литературе
Автор: Симонова Елена Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Проблема репрезентации в литературе гендерных стереотипов, которые представляют собой особенности восприятия социально-половых ролей и выражаются понятиями мужественности и женственности, интересна с точки зрения их влияния на формирование поэтических принципов масурао-бури (мужественность) и таоямэ бури (женственность) в классических японских стихах вака. Идеал мужественности наиболее ярко воплотился в поэтическом сборнике «Манъёсю» (VIII в.). Выделение творчества отдельных авторов, появление новых жанров, тяжеловесная риторика и другие факторы позволяют говорить о независимости, индивидуальности, активности, радикализме авторов, что является маркерами мужественности. Сезонная рубрикация вместо авторской, изощренность тропов, каноничность, чувственность, перенос внимания с внешнего на внутреннее (маркеры женственности), характерны для хэйанских пятистиший танка в «Кокинсю» (X в.). В Японии, стране с ярко выраженной маскулинной доминантой, гендерные стереотипы жестко регламентировали поведение (в частности, накладывали ограничения на выражение своих чувств), и это определило появление нового жанра лирического дневника, который писали, как правило, от лица женщины («Дневник путешествия из Тоса» Ки-но Цураюки). В XVIII в. дихотомия мужественности / женственности нашла отражение в идейно-эстетической полемике ярких представителей «национальной школы» кокугаку-ха - Камо Мабути (приверженца воинственной простоты «мужественного» стиля) и Мотоори Норинага (сторонника красоты «женственности»). Однако противоречие между «мужским» и «женским» не стало антагонизмом, но взаимное дополнение и соответствие двух начал стало основой японской классической литературы.
Гендерные стереотипы, масурао-бури, таоямэ-бури, вака, кокугаку-ха
Короткий адрес: https://sciup.org/147219245
IDR: 147219245 | УДК: 821.521
Текст научной статьи О категориях мужественности и женственности в японской классической литературе
Австрийский психолог и философ Отто Вейнингер 1 первым в современной Европе ввел в оборот понятие о мужественности и женственности. Его основной труд «Пол и характер. Принципиальное исследование» (1902) произвел фурор в Европе начала XX в. «Итак, мужчина и женщина являются как бы двумя субстанциями, которые в самых разнообразных соотношениях распределены на все живые индивидуумы, причем коэффициент каждой субстанции никогда не может быть равен нулю. Можно даже сказать, что в мире опыта нет ни мужчины, ни женщины, а есть только мужественное и женственное. Поэтому индивидуум А или В не следует просто обозначать именем “мужчина” или “женщина”, а нужно указать, сколько частей того и другого содержит в себе каждый из них» [Вейнингер, 1999. С. 43].
Понятия о мужественности и женственности древние, как сама философия. О них знали философы и Востока, и античного Запада. В китайском учении Дао взаимодействие инь-ян порождает разнообразные изменения в мире этом и потустороннем. Борьба этих начал опре- деляет ход человеческой жизни, возникновение болезней, природные катаклизмы и многое другое. В китайском трактате V в. до н. э. «Су вэнь» читаем: «Инь» и «Ян» соответствуют Дао или Великому принципу небес и земли. Они являются той причиной, которая порождает материю в целом и любые ее преобразования. Это – начало и конец, жизнь и смерть. В них же заключено и Провидение» [Су вэнь…, 1994. С. 24].
В учении Платона также нашла отражение идея взаимодействия и взаимодополнения мужского и женского начал. В этом свете интересна его концепция Эроса. Главной тема диалога «Пир» стало обсуждение темы блага и любви, проводником которой является древнейший из богов Эрос. Согласно версии Павсания, существуют два Эроса: земной и небесный. Их порождают две Афродиты – Земная и Небесная, каждую из которых сопровождает соответствующий ей Эрос [Платон, 1999. С. 440].
Так, происхождение Эроса демонстрирует нам взаимодействие мужского (рождающегося) и женского (рождающего) начал. Согласно Платону, Эрос нежен: «…коль скоро всегда он касается и ногами, и всем только самого мягкого в самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным. Итак, это самый молодой бог и самый нежный» [Там же. С. 457]. Так образом, Эрос наделен женскими качествами. Но по Платону, Эрос являет собой и закон мужественного созидания и преобразования: «…да разве найдется на свете такой трус, в которого сам Эрот не вдохнул бы доблесть, уподобив его прирожденному храбрецу?» [Там же. С. 423].
Зародившаяся вместе с человечеством оппозиция «мужской / женский», с помощью которой интерпретируется окружающий мир, привлекает внимание современных исследователей.
Нидерландский социопсихолог и антрополог Герт Хофстеде 2, занимающийся исследованием взаимодействия культур, разработал теорию измерения культур. Он выделил ряд критериев для описания культуры наций, которые получили название «измерения Хофстеде».
По Г. Хофстеде, первичные ценностные ориентации маскулинных культур отличаются высокой оценкой личных достижений; высокий социальный статус считается доказательством личной успешности; неудачников избегают; демонстрация успеха считается хорошим тоном; мышление тяготеет к рациональности; дифференциация ролей в семье сильная; люди много заботятся о самоуважении.
Первичные ценностные ориентации фемининных культур, напротив, выдвигают на первый план необходимость консенсуса; ценится забота о других; четко выражена ориентация на обслуживание; присутствует симпатия к угнетенным; высоко ценится скромность; мышление более интуитивно; много значит принадлежность к какой-то общности, группе [ Hofstede, 1997].
Япония, как следует из анализа социокультурных аспектов, относится к числу наиболее «маскулинных» стран современного мира.
Несмотря на то что в разные времена и в различных культурах понятие мужественности и женственности могло трактоваться по-разному, можно выделить некие универсальные представления, встречающиеся почти у всех народов и во все времена. Такие качества, как чувствительность, сострадание, терпимость, нежность, традиционно рассматриваются в качестве специфических «женских», а активность, сила, созидательность – «мужских».
Приведем некоторые определения женственности и мужественности. Фемининность (женственность) – характеристики, связанные с женским полом [Большой толковый…, 1999. С. 208], или характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном обществе [Гидденс, 1999. С. 680], или же «социально определенное выражение того, что рассматривается как позиции, внутренне присущие женщине» [Tuttle, 1986. Р. 92].
Маскулинность (мужественность) представляет собой комплекс характеристик поведения, возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику той или иной группы, объединенной по признаку пола [Словарь гендерных терминов, 2002. С. 183].
Можно сказать, что мужественность – это то, чем мужчина должен быть и что от него ожидается, соответственно, женственность – ожидаемые проявления женщин.
Вот некоторые бинарные оппозиции, стереотипно приписываемые мужчине и женщине: логичность – интуитивность; абстрактность – конкретность; сознательность – бессознательность; власть – подчинение; порядок – хаос; независимость, индивидуальность – близость, коллективность; сила Я – слабость Я; импульсивность, активность – статичность, пассивность; непостоянство, неверность, радикализм – постоянство, верность, консерватизм.
Пытаясь понять специфику «японского», в нашем случае японской «мужественности» и «женственности», неизбежно обращаешься к японской поэзии вака , которая воплощает «дух Ямато» и почитается величайшей национальной ценностью. Впервые эту мысль сформулировал Ки-но Цураюки в предисловии к поэтической антологии «Кокин вакасю» (Собранию старых и новых песен Ямато») в 922 г. Он писал:
«Песни Ямато. Их семя одно – человеческое сердце, из которого вырастают тысячи и тысячи листьев слов.
<…> Без всякого усилия движет она небом и землею, внушает сострадание невидимым глазу богам, духам и демонам, вносит согласие в союз мужчин и женщин, умягчает сердца суровых воинов. Все это – песня» [Кокинсю, 2005. С. 44].
В поэзии вака , которая приобрела сакральное значение для японской культуры, категория «мужественности / женственности» нашла отражение в эстетических принципах японской классической литературы - #^^Ш^ масурао-бури (мужественность) и ^^^Ж^ таоя-мэ-бури (женственность).
Слово 益荒 масура имеет значение «мужественный», «великолепный». Термин 益荒男 масурао (букв. «мужественный мужчина») в средние века общепринятое обозначение настоящего мужчины, вмещающее значения «храбрый», «отважный», «свирепый». Другое значение слова – «воин», «солдат». На протяжении многих веков в Японии культивировалась мужественность, отражающая представления о мужской гендерной роли и являющаяся, скорее, идеалом. Этот идеал нашел отражение в поэтическом принципе масурао-бури , который наиболее ярко воплотился в поэтическом сборнике «Манъёсю» (VIII в.). Антология «Манъё-сю» («Собрание мириад листьев»), объединившая более 4,5 тысяч стихотворных произведений и увидевшая свет в 759 г., до наших дней остается «священным писанием» для поэтов танка .
Поэтический сборник создавался в эпоху творения новой Японии, когда коллективные формы сознания начинали уступать место более индивидуализированным. Это было время активного строительства государства, которое нуждалось в образованных и деятельных людях, творцах истории и культуры своей страны. В такую эпоху родилась авторская поэзия «Манъёсю». Это практически единственный в классической японской литературе пример выделения творчества отдельных поэтов, поскольку составлялись антологии всегда по тематическому принципу, как бы знамениты ни были авторы. Индивидуальное творчество было подчинено общим задачам поэзии, призванной сохранять постоянство обычаев. Но в «Манъ-ёсю», в отличие от других сборников, авторы обладают яркой индивидуальностью и неповторимым стилем.
Для поэзии «Манъёсю» характерны конкретность и определенность описываемой ситуации, однозначность образа, прямоты - тот самый «дух мужественности» ( масурао-бури ), который закрепился в поэтической традиции японского стихосложения. Возможно, в оборот его ввел один из самых блестящих поэтов своего времени, непревзойденный мастер любовных танка Какиномото Хитомаро (ок. 660-707):
Масурао то омоэру варэ мо сикитаэ-но коромо-но содэ ва тооритэ нурэну
Думал я о себе, что отважен и крепок душою, но в разлуке, увы, рукава одежд белотканых от рыданий насквозь промокли...
(пер. А. Долина)
Один из самых образованных людей своего времени Яманоэ Окура (660–733), который ввел в японскую поэзию принципы конфуцианской этики и буддийские мотивы непостоянства всего сущего, считается первым в Японии поэтом-гражданином. В его «Диалоге бедняков» впервые прозвучала социальная тема, которая в дальнейшем никогда уже более не проникала в поэзию вака :
Когда ночами льют дожди и воет ветер,
Когда ночами дождь и мокрый снег, –
Как беспросветно беднякам на свете,
Как зябну я в лачуге у себя!
Чтобы согреться, мутное сакэ тяну в себя,
Жую комочки соли, посапываю,
Кашляю до боли, сморкаюсь и хриплю... Как зябну я!
(пер. А. Е. Глускиной)
В песнях цикла «Гимн вину» Отомо Табито (ок. 662–731) высмеивает «ученых мудрецов», которым покровительствовал двор, и сатирические ноты этого цикла можно считать предвестниками появления этого жанра:
Чем пытaться рaссуждaть
С вaжным видом мудрецa,
Лучше в много рaз,
Отхлебнув глоток винa,
Уронить слезу спьяна!
До чего противны мне
Те, что корчат мудрецов
И вина совсем не пьют,
Хорошо на них взгляни –
Обезьянам, впрямь, сродни!
(пер. А. Е. Глускиной)
Еще один замечательный автор и составитель сборника – Отомо Якамоти (716–785), которого считают основоположником средневековой куртуазной поэзии, воспевал не только любовь, но и воинские доблести предков, верно служивших многим поколениям государей:
Этой славой древних лет
Небывалой чистоты
Не пренебрегайте вы.
Даже мелким словом лжи
Не давайте осквернить,
Уничтожить навсегда
Славу древнюю отцов.
(пер. А. Е. Глускиной)
Таким образом, и в самом принципе составления «Манъёсю», и в текстах стереотипы «мужественности» проявляются отчетливо. Выделение творчества отдельных авторов, появление новых жанров, несколько прямолинейная тяжеловесная риторика позволяют говорить о независимости, индивидуальности, активности, радикализме, силе личности Я авторов (в противопоставлении коллективности, присущей последующим сборникам «Кокинсю», «Синкокинсю» и др.), а также активности в противопоставлении с пассивностью, статичностью, присущим фемининности.
Через полтора века после создания «Манъёсю» вышел в свет поэтический сборник «Кокин вакасю» («Собрание старых и новых песен Японии»), и с его появлением окончилась эпоха господства при дворе китаеязычной поэзии 漢詩 канси. Поэтический стиль этой анто- логии характеризуется принципом ^^^К^ таоямэ-бури, т. е. «женственности», который получил наибольшее развитие в X-XII вв. Слово ^^^ таоямэ, производное от глагола та-ваму – «гнуться», «сгибаться», имеет значения «гибкий», «мягкий», «нежный». Разница между «Манъёсю» и «Кокинсю» – это разница между активным, твердым, «мужским» стилем (ян) и традиционным, мягким, «женским» стилем (инь).
«Живые чувства Манъёсю ближе молодым людям нашего времени, – писал Кавабата Ясу-нари. – Я вот думаю, хотя может показаться, что упрощаю: в прозе я оказывал предпочтение грациозному женскому стилю ( таоямэ-бури ), а в поэзии - мужественному, мужскому ( масу-рао-бури )... » (цит. по: [Григорьева, 2008. С. 293]). Знаменитый писатель сравнивает переход от Манъёсю к Кокинсю с переходом от культуры Дзёмон к культуре Яёй – периодов глиняных сосудов и глиняных фигурок. Глиняные сосуды и фигурки периода Дзёмон – это предметы мужского стиля, а фигурки периода Яёй – образцы женского стиля.
Целью составителей антологии «Кокинсю» было показать красоту и мощь японской песни 和歌 вака , на протяжении полутора столетий существовавшей в тени культа китайского стихотворения 漢詩 канси .
Наиболее типичные для танка художественные приемы, такие как макура-котоба , дзё , ута-макура , какэ-котоба разработаны еще во времена «Манъёсю». Для вака эпохи Хэйан характерны более изощренные тропы, которые, как замечает А. Долин, наслаиваются друг на друга, образуя некую «ребусную семантику», где в каждом слове или строке закодированы дополнительные образы. Почти все эти приемы были изобретены еще в эпоху «Манъёсю», но в поэзии VII–IX вв. они встречаются редко, как исключение. Со временем стремление к сложности и многозначности суггестивного образа становится доминирующим [Долин, 2007. С. 203].
Сформировавшийся в X в. литературный канон сделал куртуазные пятистишия танка языком поэтического общения, который стал своеобразным маркером утонченной хэйанской аристократии. При этом жесткие правила не допускали ни малейшего отступления от канона, так что индивидуальность автора неизбежно отступала на второй план, уступая место виртуозной интерпретации. В этом основное отличие антологии «Кокинсю» от «Манъёсю», поэты которой стремились передать свои чувства с максимальной прямотой, энергией и напряженностью.
Переход от господства принципа масурао к эпохе таоямэ диктовал и саму организацию поэтического материала. Творчество индивидуальное уступает место коллективному, и авторскую рубрикацию сменяет сезонная, временная: весна, лето, осень, зима. Песни любви также выстроены хронологически: от встречи к расставанию.
Чувственность и эмпатичность отличает женское восприятие от мужского; считается, что женщины более гибки, отзывчивы (само слово таоямэ означает «мягкий», «гибкий»). Подчас невозможно определить, является автором стихотворного произведения мужчина или женщина:
№ 640
Рассвет разлуки
Близко, близко...
Петух не прокричал: «Пора!»
А слезы
Уж текут...
(Уцуки)
(пер. А. Долина)
№ 717
Коль в разлуке нам жить, расстанемся без неприязни, не устав от любви, – ведь тогда о радостях прежних не забудет вовеки сердце… (Неизвестный автор)
(пер. А. Долина)
Отечественный историк-японист А. Н. Мещеряков отмечает лексическую смену, произошедшую в «Кокинсю»: глаголы, указывающие на действия и поступки авторов, сменились пассивным глаголом «ждать», ибо человек теперь статичен, а действие становится атрибутом окружающего мира [Мещеряков, 1988]. В подтверждение этому следующие стихи:
№ 366
Всюду в полях
Хаги цветы распустились,
Осы над ними жужжат…
В путь ты отправился утром осенним.
Буду я ждать… О, когда ж ты вернешься?
(Неизвестный автор)
(пер. И. А. Борониной)
Т. П. Григорьева в книге «Японская художественная традиция» размышляет о «Манъёсю» и «Кокинсю»:
С точки зрения авторов «Манъёсю», прекрасно всё, сама жизнь, всё, что «видишь и слышишь». Здесь правда ( макото ) представлена в чистом виде – все правда, что «видишь и слышишь». Неповторимость «Манъёсю» – в открытости переживаний и в полноте ощущений. Недаром стиль «Манъёсю» называют «мужским», «мужественным» <… > В «Кокинсю», как и в «Манъёсю», главное – макото . Но если раньше поэт правдиво рассказывал о том, что случилось когда-то, и стихи о том, что «просто лежит на сердце», занимали небольшое место, то теперь внимание переключилось с внешнего на внутреннее, с правдивого описания вещей на правдивое описание чувств [1979. С. 121].
Открытость, свобода, радикализм, нацеленность на «внешний» мир – «мужские» качества. Традиционализм, консервативность, концентрация на «внутреннем» приписывают женскому началу.
Поэтические сборники «Манъёсю» и «Кокинсю», в которых дихотомия «мужественности» / «женственности» проявилась наиболее отчетливо, стали предметом оживленной полемики средневековых ученых и поэтов.
Школа национальной науки ( 国学派 кокугаку-ха ), которая начала формироваться в XVII в. и стала идейно-эстетическим оппонентом школы китайского учения ( 漢学派 кангаку-ха ), провозгласила обращение к японской древности. Приверженцы школы национальной науки резко противопоставили себя конфуцианским литературным традициям и черпали вдохновение в национальной древности. Их умонастроению был особенно созвучен мир поэтической антологии «Манъёсю», в которой отразился, по их мнению, истинно японский душевный склад, неразрывно связанный с синтоизмом. Ученые и поэты этой школы предложили новое прочтение текстов «Манъёсю», провозгласив древнюю антологию средоточием японского духа и противопоставив «мужественное» звучание ее стихов изысканному сладкозвучию средневековой куртуазной лирики.
Основатель национальной школы Када-но Адзумамаро (1668–1736) стремился воскресить сокровенную суть японского характера, воплощенную в «Манъёсю». Поэт считал, что истинного японца характеризуют понятия «мужество», «воинственность».
Полностью восстановить дух «Манъёсю» пытался его ученик Камо Мабути (1696–1769), доказывавший, что культура древней эпохи Хэйан искусственная, а японцам надо вернуться к более ранним истокам. Он также утверждал, что японский дух воплощен не в любви, а в воинственной простоте. Он считал стиль императорских антологий «Кокинсю» и «Синко-кинсю» изнеженным и слабым, сопоставляя его с мощным и вольным духом древнего «Манъёсю».
Мотоори Норинага (1730–1801), крупнейший теоретик японской поэтики, первым из японских исследователей предложивший толкование эстетической концепции моно-но аварэ («скрытое очарование вещей»), был учеником и оппонентом Камо Мабути. Они были едины в приверженности японской старине, но Камо Мабути, приверженец «мужского» стиля ( масурао-бури ), считал главными достоинствами «японского сердца» прямоту и правдивость ( наоки кокоро ). Мотоори Норинага же оказывал предпочтение «женственному» стилю ( таоямэ-бури ), придающему японской поэзии благородство и утонченность. «В изяществе -основа Пути поэзии, и, значит, все в человеке, начиная от сердца, должно быть изысканным. И нужно избегать все грубое, вульгарное, мелкое в чем бы то ни было – в чувствах, словах, манерах, в обрядах. А почитать утонченное, гармоничное, спокойное – дух благородства» [Мотоори Норинага, 1963. С. 13]. Подлинная поэзия, по мнению М. Норинага, отражает глубину человеческих чувств, поэтому на первое место он выдвигает классику хэйанской эпохи (IX–XII вв.), особенно роман «Гэндзи моногатари», возвеличивающую красоту женственности, а не грубую мужскую силу.
Высшим проявлением принципа моно-но аварэ Норинага считал любовь, возражая своему учителю Камо Мабути, прославлявшему «мужское», самурайское начало древней японской поэзии. Изображая смерть воина в бою, писатель обычно воспевает лишь его мужество и тем самым, по мысли М. Норинага, искажает правду жизни. Если взглянуть в душу умирающего воина, то становится очевидным, что он вовсе не лишен человеческих слабостей. Его влечет к родным местам, к матери, он тоскует по жене и детям, т. е. испытывает чувства, «неподобающие» истинному самураю, но на самом деле вполне естественные: «Если проникнешь в глубину человеческой души, то найдешь там немало женственного, слабого… Люди стараются не показывать того, что в действительности происходит в их душе. Скажем, самурай готов жизнь положить за своего сюзерена, из чувства долга, но разве он не испытывает чувства тоски по родителям, детям, жене? И нет такого человека, который был бы лишен истинных чувств, даже если он скрывает их от других» [Там же. С. 301].
Известный писатель и публицист Сиба Рётаро (1923–1996) считал, что архетипический японец принадлежал типу таоямэ-бури , «женственности», но полагал, что «это ни в коей мере не унижает их, не оскорбляет чувство собственного достоинства. Среди истинно мужественных людей, обладающих такими качествами, как преданность, верность, неожиданно много оказывается таких, кто по сути своей принадлежит к женственному типу личности. <…> Конечно, к подобным рассуждениям следует относиться с долей иронии, но если говорить серьезно, то, что мы называем таоямэ-бури (женственность), обозначает не внутреннюю слабость, но, напротив, силу. Женственность эта явственно ощущается, когда японцы говорят о своих чувствах» [Сиба, Кин, 1996. С. 21].
Потребность выразить чувства, «неподобающие» истинному самураю, вызвала появление целого пласта художественных текстов, выдержанных в соответствующей стилистике, авторами которых были мужчины, ведущие повествование от лица женщины. Самой известной литературной мистификацией такого рода является «Дневник путешествия из Тоса» Ки-но Цураюки (872–945). Он был не только выдающимся поэтом и блестящим теоретиком литературы, но и высокопоставленным чиновником. Пять долгих лет он провел в далекой провинции Тоса в качестве губернатора. Там умерла его маленькая горячо любимая дочь, скорбь по которой стала темой его произведения. Языком этого первого в японской литературе лирического дневника стал родной японский, хотя сочинительство прозаических произведений для сильного пола считалось возможным только на китайском. Ки-но Цураюки сломал эту традицию, но для этого ему пришлось «обрядиться» в женские одежды. Знаменитый поэт считал, что родной, мягкий, «домашний», близкий японский язык более подходит для выражения своих чувств, чем чужой, официальный, формальный китайский. Но ему, как мужчине и губернатору, не подобает писать такие женственные, проникнутые чувствами, произведения:
Забывшись, Словно о живой, Спрошу подчас:
«Где та, которой нет?» –
Как тяжко на душе!
(пер. В. Н. Горегляда)
Эту двойственность сути японского характера, извечную борьбу мужского и женского начал, отражавшуюся и в литературе, передает символ Японии – «хризантема и меч». Этот символ – японский вариант единого Пути Дао. «Хризантема» – инь , «меч» – ян .
В разные времена японской истории преобладали то «хризантема» («женственность»), как в эпоху Хэйан (794–1185), то «меч» («мужественность»), как в эпоху Камакура (1185–1333), но они неизбежно уравновешивались, находили одно в другом, и это вело культуру к расцвету.
В IX в. Сугавара Митидзанэ (845–903), поэт и министр при дворе императора Уда, предложил идею 和魂漢才 вакон кансай – «японская душа – китайская ученость», которая оказала огромное влияние на японскую культуру. Он полагал, что нужно знать культуру Китая, но при этом не забывать, что является для японцев Основой. Это можно рассматривать как еще одну интерпретацию инь-ян , «хризантемы» и «меча». Это закон всеобщего соответствия и равновесия, следование которому, наверное, сделало возможным появление феномена японской классической культуры.
Таким образом, мы видим, как представления о «мужественности» и «женственности» влияют на содержание и стилистику художественных текстов. В обществе с жесткой маскулинной структурой, формирующем у человека набор гендерных ролей и стереотипов, стремление к идеальной маскулинной модели, к соответствию с этим идеальным образом мужчины противоречило потребности выражения своих чувств и переживаний. Но противоречие это не стало антагонизмом. «Мужской» стиль китайской иероглифики скомпенсировала «женственность» японской азбуки кана , формальность и официальность поэзии на китайском языке канси уравновесили мягкость и напевность японской вака , дневниковую прозу на китайском языке дополнил лирический дневник, который записывали японскими знаками. Не взаимное отрицание и стремление возобладать, но взаимодополнение и взаимное соответствие двух начал – мужского и женского – таков путь японской классической культуры.
Список литературы О категориях мужественности и женственности в японской классической литературе
- Большой толковый социологический словарь. М.: Вече, АСТ, 1999. Т. 1. 544 с.
- Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование. М.: Терра, 1999. 463 с.
- Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 704 с.
- Григорьева Т. П. Япония: путь сердца. Москва: Новый Акрополь, 2008. 388 с.
- Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979. 370 с.
- Долин А. А. История новой японской поэзии в очерках и литературных портретах: В 4 т. СПб: Гиперион, 2007. Т. 4: Танка и хайку. 416 с.
- Кокинсю. Собрание старых и новых песен Японии/Пер. со старояп., исслед. и коммент. И. А. Борониной. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 399 с.
- Маньёсю. Избранное. Собрание мириад листьев/Пер. с яп. А. Е. Глускиной. М.: Наука, 1987. 398 с.
- Мещеряков А. Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М.: Наука, 1988. 142 с.
- Платон. Федон; Пир; Федр; Парменид: Диалоги. М.: Мысль, 1999. 528 с.
- Словарь гендерных терминов/Под ред. А. А. Денисовой. М.: Информация XXI век, 2002. 256 с.
- Су вэнь, Нэй цзин: трактаты по традиционной китайской медицине на основе древних и современных текстов/Сост. Т. С. Гризун. М.: Серсон, 1994. 445 с.
- Hofstede G. Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: McGraw-Hill, 1997. 279 с.
- Tuttle L. Encyclopedia of feminism. New York: Oxford, 1986. 399 с.
- Мотоори Норинага. Мэйдзи бунка дзэнсю: . Полное собрание сочинений культуры Мэйдзи. Токио, 1963. Т. 2. 602 с.
- Сиба Р., Кин Д. Нихондзин то нихон бунка иттай дан . Беседы о японцах и японской культуре. Токио: Тю:ко: бунко, 1996. 244 с.