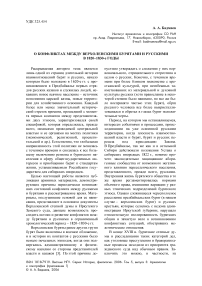О конфликтах между верхоленскими бурятами и русскими в 1820-1830-е годы
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Документальные страницы
Статья в выпуске: 3-1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736761
IDR: 14736761 | УДК: 325.454
Текст статьи О конфликтах между верхоленскими бурятами и русскими в 1820-1830-е годы
Раскрываемая автором тема является лишь одной из страниц длительной истории взаимоотношений бурят и русских, начало которым было положено в 1620-е гг. с проникновением в Предбайкалье первых отрядов русских казаков и служилых людей, искавших новое ясачное население – источник пополнения царской казны, новые территории для хозяйственного освоения. Каждый более или менее значительный исторический отрезок времени, прошедший с момента первых контактов между представителями двух этносов, характеризовался своей спецификой, которая определялась, прежде всего, нюансами проводимой центральной властью и ее органами на местах политики (экономической, религиозной, просветительской и др.). Естественно, что глобальная направленность этой политики не менялась с течением времени и сводилась к все большему включению региона и бурятского населения в сферу общегосударственных интересов и приобщению бурят к стандартам жизни, устанавливаемым Российским государством для сибирских инородцев.
Целью настоящей работы является публикация архивных материалов, демонстрирующих причины периодически возникавших состояний конфликта между русскими и бурятами в рассматриваемое время. Материалы, послужившие основой для ее написания, представляют в основном документы Верхоленской степной думы и Иркутского Земского суда, дающие возможность проследить истоки и развитие конфликтов между бурятами и русскими в ограниченный хронологический период – 1820–1830-е гг.
Верхоленские буряты ранее других групп бурят были включены в ясачное обложение, и в истории их контактов с русскими было немало печальных эпизодов, когда они подвергались административному и физическому насилию со стороны представителей власти и казаков [3]. По этой причине до- пустимо утверждать о сложении у них первоначального, отрицательного стереотипа в целом о русских. Конечно, с течением времени при более близком знакомстве с крестьянской культурой, при неизбежных заимствованиях из материальной и духовной культуры русских (хотя православие в некоторой степени было навязано, но все же было воспринято частью этих бурят), образ русского человека все более выкристаллизовывался и обретал в глазах бурят положительные черты.
Период, на котором мы останавливаемся, интересен событиями и процессами, происходившими на уже освоенной русскими территории, когда плоскость взаимоотношений власти и бурят, бурят и русских перешла под юрисдикцию Закона. В Предбайкалье, так же как и в остальной Сибири действовали положения Устава о сибирских инородцах 1822 г., помимо прочего законодательно защищавшие аборигенные сообщества от возможного негативного влияния переселенческого населения, представленного, прежде всего, русскими. Внутренняя жизнь бурятского общества в то же время регламентировалась нормами обычного права, имевшими вариации у разных этнических подразделений бурятского этноса. Однако сложившееся чересполосное расселение предбайкальских бурят (в нашем случае – верхоленских бурят) и русских крестьян, которые селились с ведома администрации Иркутской губернии, нарушало относительную изолированность бурятских общин и зачастую вело к возникновению конфликтных ситуаций, обострявших межэтнические отношения.
В конце XVIII в. бурятские степные думы в расследовании таких категорий дел, как уголовные преступления и бракоразводные процессы исходили из приоритета гражданского суда над обычным правом. Заключить это можно, в частности, из
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3: Археология и этнография (приложение 1) © А. А. Бадмаев, 2006
письменного распоряжения № 2109, присланного Иркутской губернской канцелярией Верхоленской степной думе в 1765 г., где указывается: «... понеже по наставлению бывшаго в Китае полномочного посла и … графа Саввы Владиславича (Рагузинского. – А. Б .) 728 года июля 30-го и на то по утвердительному из государственной коллегии иностранных дел 720 годов ноября 8 чисел указу повелено между ясашными иноверцами во всех малых делах яко то в калыме драках в кражах и других тому подобных: кроме важных и криминальных делах: судить не началникам то есть главным и родовым шуленгам, и зайсанам а в гражданском суде их испривлекать...» 1 . Заметим, что в первой трети XIX в. судебная практика в отношении бурят не претерпела значительных перемен.
Устав М. М. Сперанского от 22 июля 1822 г., как известно, подтвердил прежние права сибирских народов, что выразилось в их праве добровольного перехода в иные сословия (§ 25), в закреплении за ними земельных владений (§ 26, 28), в разрешении занятий земледелием, скотоводством и промыслами (§ 29). Важным являлось то, что российский законодатель предполагал меры по защите сибирских инородцев от возможных притеснений как друг друга в ходе промысловой деятельности (§ 30), так и от русских переселенцев. Касательно последнего сюжета был выработан ряд положений, носящих ограничительный и даже запретительный характер. Так, параграф 31-й Устава строго запрещал русским переселенцам самовольно селиться на землях инородцев, по 32-му параграфу они могли брать у инородцев земли в оброчное содержание только с согласия инородческих общин. Согласно 103-му параграфу инородцы, «владеющие издревле по рекам и озерам рыбными ловлями или сенокосными лугами», могли отдавать их в аренду переселенцам исключительно по письменному договору.
Земельный вопрос, затрагивавший право собственности на родовые территории, оставался в течение всего XIX в. камнем преткновения для бурятского общества и власти. Согласно Указу императора Петра I от 23 марта 1703 г. получили законное подтверждение (грамоту) на владение родовыми угодьями и землями хори-буряты 2. Си- туация, сложившаяся вокруг земель других бурят, не имела своего решения из-за искусственных препонов, создаваемых как губернскими, так и столичными чиновниками. Еще в 1806 г. им были обещаны грамоты на уже обмежеванные земли, но до конца XIX в. они так и не получили их. Верхолен-ские буряты подобно остальным предбай-кальским эхиритам и булагатам, являвшиеся автохтонами края, никак не могли добиться подтверждения законности своего землевладения. Официальную позицию по этому вопросу власть выработала лишь к 1880-м гг., когда устами первых лиц министерства государственных имуществ – министра князя Ливена и товарища министра А. Н. Кулом-зина было заявлено, что земли, на которых проживают буряты, не считаются их собственностью, а целиком принадлежат государству с соответствующими для бурят последствиями.
В переписке губернской администрации со степными думами мы находим указание, свидетельствующее, что в своих действиях местные власти должны были опираться на предписания вышестоящих инстанций, позиция которых однозначно утверждала незыблемость земельных прав аборигенов. Например, в одном из документов об этом написано буквально следующее: «Губернское правление, которое от № 31 Августа 1834 года в отношении оному правлению изъяснило, что указом правительствующаго Сената 30 сентября 1818 года повелено оставить инородцев по владению земель на том основании, на каком они ныне владеют, а тем из них, которыя уже водворены и занимаются хлебопашеством, буде сами того пожелают, отмежевать по 30 десятин на душу и землю сию утвердить за ними на праве помещичьих» 3 . Нельзя сказать, что губернская власть проявляла необходимую расторопность в земельных спорах инородцев и русских крестьян, лишь изредка под давлением вопиющих фактов земельных притеснений бурят она стояла на страже законности (см. док. № 1).
Такое подвешенное состояние в решении земельного вопроса умело использовалось нечистыми на руку землемерами, установившими целую систему взяток за урезание чужой земли в пользу заинтересованных сторон (русских и бурят). Между тем были прецеденты, когда некоторые крестьяне са- мовольно захватывали приглянувшиеся им земли бурят, что вызывало скорую ответную реакцию возмущенных бурят и обращение их в судебные инстанции (см. док. № 2). Е. М. Залкинд, изучив конфликтные дела по бурятским ведомствам XVIII – первой половины XIX в., сделал любопытный вывод, что «захватнические вожделения соседей распространялись на сенокосные, нежели на пахотные земли» [2. С. 52]. Речь, конечно, здесь идет о внутрибурятских конфликтах, но в контексте нашей темы, исходя из имеющихся источников, можно констатировать, что «вожделения соседей» были направлены и на бурятские сенокосы и на пашни. Понятно, что такие захваты земельных участков и сенокосных угодий русскими крестьянами у бурят не прибавляло взаимопонимания в межэтнических отношениях (см. док. № 3).
Помимо возникавших споров за земельные наделы и сенокосы часты были случаи столкновений бурят и русских из-за охотничьих и рыболовных угодий. При этом дело обычно заканчивалось отъемом охотничьего или рыболовного снаряжения с целью противодействия промыслу (см. док. № 4).
Поддержание государственной монополии на изготовление водочной продукции имело одним из последствий яростную борьбу с самогоноварением в любых формах. В условиях Восточной Сибири, где до середины XIX в. ощущался дефицит продовольственного зерна, и была слабо развита земледельческая отрасль, эти шаги со стороны государства приобретали особую актуальность. Применительно к бурятам это выражалось в поисках среди них лиц, использующих разрешенные законом самогонные аппараты для производства молочной водки на подпольное изготовление водки из хлебных злаков. Судя по многочисленным жалобам верхоленских бурят на самоуправство чиновников, направленных в улусы для осуществления надзора за самогоноварением, реальным результатом всей этой компании было осложнение отношений между русскими и бурятами. Провоцировало накал страстей, с одной стороны, отсутствие полномочных представителей из числа бурят во время акций по конфискации перегонных приборов, с другой стороны, привлечение русских крестьян из соседних деревень, которые сопровождали, и помогали чиновникам (см. док. № 5). Зачастую эти операции по изъятию происходили, когда хозяев не было дома: тогда взламывались двери юрт и забирались имеющиеся самогонные аппараты и посуда. В большинстве случаев такие обыски не давали подтверждений о незаконном производстве водки и выглядели скорее как меры устрашения.
Изучение документов Верхоленской степной думы и Иркутского Земского суда показывает, что преступления русскими переселенцами совершались с нанесением имущественного урона потерпевшим бурятам. Следует оговориться, что такие случаи краж были единичными, но, при отсутствии обратных примеров уже со стороны бурят, они добавляли негативные черты образу русских в глазах бурят. В связи с этим стоит заметить, что в числе переселенцев и ссыльных поселенцев нередко оказывались люди с криминальным прошлым или склонные к совершению преступлений, были также обездоленные крестьяне, которых на воровство толкала нужда. Среди краж превалировали хищения одежды, драгоценных изделий из юрт, увод домашнего скота, особенно лошадей (см. док. № 5). В традиции бурят не было принято устройство укрепленных дверей, замыкающихся на замок, поэтому доступ внутрь юрт в отсутствии хозяев представлялся делом не сложным. Скот у бурят также не всегда охранялся, так как случаи его угона не были часты, что объяснялось действием в их среде моральных норм, когда чужая собственность признавалась священной. При этом стоит отметить, что в конце XIX в. у тех же предбайкаль-ских бурят фиксируется множество примеров увода скота, главным образом лошадей, что в совокупности с другими негативными моментами указывает на наступление социального неблагополучия среди бурят вследствие проведения волостной реформы и ликвидации прежних общинно-родовых институтов. Свидетельства о падении нравов и отходе от традиционных норм морали мы находим в работах авторов тех лет [1. С. 25–26].
Активное вторжение во внутреннюю жизнь бурятской общины, инициаторами которой служили государство и православная церковь, а также частные лица (мещане, торговцы, крестьяне) не могло не вызывать протестной волны и аккумулировало зарождение и трансляцию негативных стереотипов о русских, так как именно они в глазах бурят ассоциировались с проводниками чужой, иногда враждебной воли.
Итак, документы 1820–1830-х гг. позволяют выделить круг наиболее распространенных межэтнических противоречий, вызванных как издержками политики властей (продолжающейся колонизации Предбайкалья, отказа от решения земельного вопроса, попыток христианизации бурят и др.), так и криминальными преступлениями, совершенными русскими крестьянами в отношении бурят.