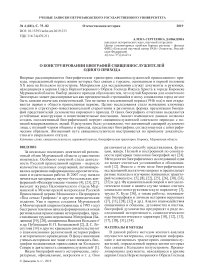О конструировании биографий священнослужителей одного прихода
Автор: Давыдова Алена Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 (181), 2019 года.
Бесплатный доступ
Впервые рассматриваются биографические траектории священнослужителей православного прихода, определенный период жизни которых был связан с городом, основанным в первой половине XX века на Кольском полуострове. Материалом для исследования служат документы и рукописи, находящиеся в церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в городе Кировске Мурманской области. Выбор данного прихода обусловлен тем, что случай Кировска для «советского Заполярья» может рассматриваться как прецедентный: строящийся в эпоху социализма город не мог быть заявлен иначе как атеистический. Тем не менее в послевоенный период (1946 год) в нем открывается первая в области православная церковь. Целью исследования стало выявление ключевых смыслов и структурно-повествовательной стереотипии в различных формах презентации биографий представителей духовенства кировского прихода. В таких биографиях отчетливо выделяются устойчивые конструкции и повествовательные инстанции. Анализ имеющихся данных позволил создать «коллективный биографический портрет священнослужителей советского периода» с позиций воцерковленных людей. В результате было установлено, что жизненный сценарий духовного лица, с позиций членов общины и прихода, представляет биографию, согласующуюся с агиографическим образцом. Жизненный путь священнослужителя выстраивается по принципу доказательства его сакрального статуса.
Священнослужители, церковный приход, биографическая траектория, кировск, мурманская область
Короткий адрес: https://sciup.org/147226461
IDR: 147226461 | УДК: 316.74(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.333
Текст научной статьи О конструировании биографий священнослужителей одного прихода
За несколько последних десятилетий религиозный облик Мурманской области существенно изменился. Особенно заметной стала деятельность Русской православной церкви – выросло количество культовых сооружений, активизировалась церковная информационно-просветительская и издательская работа. В 2007 году начали печататься материалы научно-богословских конференций «Феодоритовские чтения» [4], [23], [27], выходят журнал Паломнического отдела Мурманской и Мончегорской митрополии Русской Православной церкви Московского Патриархата «Под сенью Трифона»1 и другие периодические издания. Уже в период создания Мурманской и Мончегорской епархии (появилась в 1995 году) быстрыми темпами начала формироваться новая региональная православная историография, представленная трудами иеромонаха Митрофана (Ба-данина) [19], [20], священника Василия Вольского2 и др. Публикации Н. П. Большаковой [2], Д. С. Лоскутова [14] и других краеведов свидетельствуют о взаимовлиянии религиозной историографии и исторического краеведения. В фокус внимания ученых-историков все чаще стали попадать биографии подвижников православия на Кольском Севере и деятельность священнослужителей3 [1].
Видов биографий много: исторические, литературные, официальные, некрологи и т. д. Они
различаются по способу представления, функции, жанру. Полной и построенной по совокупности критериев типологии биографий нет [24]. Методология биографических исследований едва ли может считаться устоявшейся и обоснованной [12]. Вместе с этим поле биографических исследований достаточно широко и предполагает разные подходы к изучению жизненных траекторий человека (см.: [5], [8], [22], [25], [26], [30], [33], [35] и др.). Фундаментальной опорой в методологическом плане в нашем случае можно считать социально-конструктивистскую парадигму [3], труды Х. Буде [36], а также работы, посвященные биографиям и личным историям верующих ([7], [11], [28], [32] и др.). Анализ взаимодействия священника и общины, духовенства и паствы, биографий духовенства предпринят в ряде исследований исторического, социологического и антропологического характера [10], [12], [13], [17], [18], [31], [34].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе методом контент-анализа изучаются материалы, содержащие информацию о жизненных траекториях священнослужителей, определенный период жизни которых был связан с Кольским полуостровом. Проанализированы документы, находящиеся в архиве церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа
Иисуса Христа, расположенной в городе Кировске. Выбор данного прихода обусловлен тем, что случай Кировска для «советского Заполярья» может рассматриваться как прецедентный. Город был построен в период активной урбанизации Кольского Севера. Молодой строящийся социалистический город не мог быть заявлен иначе как атеистический. Кировск (до 1934 года - Хи-биногорск) был местом, куда были направлены или сосланы [9], приехали добровольно люди из разных краев и областей России [29], в том числе бывшие церковнослужители (священники, старосты и др.)4. Самую многочисленную категорию населения составляли высланные бывшие крестьяне. Латентная религиозная жизнь в советский период в Кировске была весьма насыщенной. Церковь существует с 1946 года. Это был первый православный храм, открывшийся в области в послевоенный период5 [6]. Церковь иконы Казанской Божией Матери просуществовала на улице Полярной до 1985 года. Когда здание пришло в негодность, исполком Кировского горсовета выделил списанный деревянный дом под обустройство одноименной церкви на улице Железнодорожной в поселке Юкспорр, на удалении от города6. Решением Священного Синода 20 апреля 2005 года храм был преобразован в Хи-биногорский женский монастырь7. Новое церковное здание было построено в 2004 году уже в городском пространстве на улице Солнечной8.
БИОГРАФИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
За период существования прихода в нем сменилось более 30 священнослужителей. Их жизнеописания - часть местной истории. Рассмотреть жизненный путь духовного лица можно с различных позиций: с точки зрения членов его семьи, церковной общины, прихожан, а также городских жителей с различным отношением к жизни Церкви. Остановимся на исследовании и описании повествовательной структуры биографий священнослужителей с позиций членов церковной общины и прихода. В отредактированном церковным летописцем А. А. Ляпинской варианте содержатся 38 биографий священнослужителей, разных по объему и содержанию. В частности, в рукописи «История храмов в горах Хибинских» [15], а также в книге «Памятью жив будет...» [16] автор выстраивает биографические траектории всех священников, завершивших на данный момент свое служение в Кировске. Сведения о событиях из жизни духовных лиц кировского прихода также содержатся в документальная базе, называемой членами общины «церковным архивом». Принятая для государственных архивов систематизация документов отсутствует. С данным «архивом» можно ознакомиться в библиотеке церкви Спаса Неруко-творенного Образа Господа Иисуса Христа в городе Кировске, улица Солнечная, 6. Имеющиеся материалы можно подразделить на рукописные записи (воспоминания прихожан, записанные летописцем А. А. Ляпинской), фотографии, вырезки из газет, освещающие деятельность церкви и священнослужителей, и электронные папки с файлами. Электронные файлы разделены тематически: папки с файлами, содержащие информацию о жизни духовных лиц: личные дела священнослужителей, автобиографии, анкеты и учетные карточки на служителей культа, доносы на священнослужителей; протоколы заседаний церковного совета, пастырские послания; отчеты о хозяйственной деятельности. С частью материалов можно ознакомиться на личной странице прихода церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в городе Кировске на сайте социальной сети «ВКонтакте», в разделе «История прихода»9.
На основе анализа имеющихся данных был создан «коллективный биографический портрет священнослужителей советского периода» с позиций воцерковленных людей. В таких биографиях отчетливо выделяются устойчивые конструкции и повествовательные инстанции, для обозначения которых мы пока используем отчасти устаревшую, но привычную категорию «мотив».
«МУЧЕНИЧЕСТВО»
Одной из самых необходимых для конструирования биографии священника является идея «мученичества». Она связана в первую очередь с представлениями о тяжелой доле репрессированных священников, а также с гонениями на церковь в целом. Воплощение находится в серии повествовательных мотивов, с одной стороны, опирающихся на биографические факты, с другой стороны, представляющих типовые интерпретативные схемы, под которые подстраивается реальность.
Данные церковного архива показывают, что большинство священников кировского прихода имели судимости, полученные в период с 1947 по 1949 год, преимущественно по 58-й статье Уголовного кодекса – за контрреволюционную деятельность. С февраля 1956 года, когда начался процесс реабилитации, ни один настоятель храма не был осужден по политическим статьям, а ранее имеющие судимости были оправданы.
Большой массив данных, находящихся в архиве, представляет так называемое «дело отца Дорофея». Игумен Дорофей служил в Казанской церкви кировского прихода в 1971–1972 годах. Придя в храм, он озаботился вопросами укомплектования штата священнослужителей церкви, порядка богослужений, обязанностей каждого члена притча и членов исполнительного органа, церковной дисциплины и права. Активная деятельность священника вызвала резонанс в приходе. Многочисленные жалобы и доносы постоянно поступали в Кировский горисполком уполномоченному по делам религий (документы, свидетельствующие об этом, содержатся в церковном архиве). Претензии касались как действий, так и личностных характеристик священнослужителя. Отца Дорофея неоднократно вызывали на беседу к секретарю горисполкома на предмет нарушений советских законов о религиозных культах. Представители власти предлагали не вмешиваться в хозяйственные дела церкви. О происходящем в приходе подробно сообщали (личность сообщавшего в документах не фигурирует) уполномоченному Совета по делам религий при Совете министров СССР по Мурманской области. В одном из заявлений указано на нежелательность дальнейшего пребывания священника Д. В. Смирнова в кировской церкви. Кульминацией разногласий в приходе стало обвинение о. Дорофея в совращении малолетних. Сведения документальной части истории прихода и его интерпретация летописцем, а вслед за ним и членами общины, сохранившими память об этом событии, в данном моменте расходятся:
«Рассказывали прихожане, что раздор произошел потому, что отец Дорофей решил сменить казначея. Такое нападенье вражье попустил господь для укрепления в вере! Клевету на батюшку возвели немыслимую. Подстроила все казначей: подкупила подростков, деньги им заплатила, чтобы лжесвидетельствовали. Составила ложное обвинение в совращении малолетних. <…> Имя ее теперь никто и вспомнить не может»10 [15: 28].
Отметим, что имя казначея неоднократно упоминается в документах, но в изложении оно предается забвению, в отличие от имени священника. После ареста игумен был осужден сроком на два года. Таким образом, отец Дорофей вошел в историю кировского прихода как мученик и «безвинный страдалец, жертвенно стоявший за веру» [15: 29].
Жизненный путь священников кировского прихода выстраивается как полный «скорбей и лишений». По мнению членов общины, это обстоятельство необходимо для того, чтобы быть «избранным»:
«Когда открыли в Кировске храм в честь Казанской иконы Божией матери, Степан Васильевич принял священный сан. Сердце и душа его были открыты человеческому горю, потому что он сам прошел через такие же страдания и сохранил верность Церкви Святой, верность богу нашему. Так, обычный русский крестьянин, рыбак, не получивший богословского образования, но искренне возлюбивший господа, пронес верность Церкви через все испытания. Он пострадал за любовь к Дому Божию, за пение на клиросе, он исповедовал веру в те страшные годы, и его дети и его жена вместе с ним прошли этим тесным, скорбным путем. Господь увидел его веру и терпение и сделал его своим избранным сосудом – свя-щеннослужителем»11.
В приведенном примере изложение биографии выстраивается по «житийному образцу».
Имеющиеся материалы позволили установить: несмотря на то что в отношении кировского прихода не было агрессивной религиозной политики, священников часто переводили с места на место. Ни один священник вплоть до середины 1980-х годов не служил в приходе более двух лет. Такая частая смена «духовника» воспринималась очень болезненно:
«Уполномоченный по делам русской православной церкви мог отказать или лишить регистрации, без которой они не имели права служить, поэтому их так часто переводили с места на место. Эти переезды, житейская неустроенность, неуверенность не создавали лучших условий для знания своей паствы и руководства духовным развитием жаждущих» [15: 41].
Переходы священнослужителей с одного места на другое не только указывают на нелегкую судьбу священников, но и характеризуют специфику советской религиозной политики.
Мотивы репрессий и борьбы с властью в биографиях священников постепенно заменяются мотивом «пробивания безбожничества»:
«<…> А самое главное, как говорит апостол, что вера познается по делам, – это дела его. Если мы замолчим, камни возопиют. Дела мы видим: построен храм в городе Кировске. Через это пришло множество людей, новых людей. Эти люди пришли благодаря тому, что здесь построен храм. Много батюшка трудился для того, чтобы привести людей к Богу. Особенно руководителей <…> Благодаря его заслугам, что он постоянно не забывал о том, что надо строить храм, и пробивал то безбожие, которое царило в Кировске. То руководство не соглашалось, не хотело слушать… Сейчас благодаря, конечно же, его усилиям в храме можно увидеть городское руководство, руководство комбината, и не просто увидеть, а они заботятся, помогают. Храм, украшаясь, преображаясь (такая связь тайная, невидимая), влияет на город. Чем больше укрепляется храм, тем город становится краше, лучше»12 [16: 96–97].
Несмотря на изменение религиозной политики в отношении Церкви в пользу последней, мотив «нелегкой доли» священнослужителя продолжает сохраняться и находит отражение в биографиях. Священники, приехавшие служить на Кольский Север, вынуждены бороться за одухотворение исторически безбожной территории путем постройки церковных сооружений.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
Священник, «заслуживший биографию», обладает высоко оцениваемыми личностными и профессиональными качествами. Он способен понимать невысказанные вопросы прихожан, умеет отвечать на них, доступно объяснять канонический текст и т. д. Одной из самых значимых характеристик, которая обязательно отражается в биографии, является качество проповеди духовного лица:
«Протоиерей Василий (Химчук) был общительным, добрым человеком, мог быть в иные минуты решительным и строгим. А какой это был проповедник! Прихожане, слушая проповеди отца Василия, ловили каждое его слово, пересказывали друг другу содержание. Так как не было православной литературы. В своих проповедях отец Василий отвечал на невысказанные мысли прихожан, на незаданные вопросы. Это укрепляло в людях понимание того, что господь знает все мысли и своевременно дает ответы»13 [15: 61].
Священник таким образом «показывает» и доказывает свой особый статус и незримую связь с богом. Цитата из устных воспоминаний, собранных А. А. Ляпинской, подтверждает, что записанные и устные биографические рассказы о священниках сопоставимы с агиографическими повествованиями составителей житий, демонстрирующих связь святого с Небесными силами [21].
Отметим, что содержанием проповедей всегда интересовались в совете по делам религий. Однако система их изучения отсутствовала, на что неоднократно указывается в официальных отчетах о деятельности религиозных объединений и состоянии религиозной обрядности в области14.
В памяти прихожан сохраняются, помимо проповедей, крылатые фразы священников: «По домам! По домам! И дома должна быть благодать!» [15: 17], говорил священнослужитель И. Кутузов, служивший в Казанской церкви в 1947–1948 и 1960 годах.
На особый статус духовного лица могут указывать его сверхспособности и прозорливость, проявляющиеся разными способами:
«Всегда поражалась чувству прозорливости отца Михаила: “Ну, кто у тебя на сей раз заболел?” Батюшка никогда не отказывал в молитвенной помощи <…>. Сильные молитвы отца Михаила ощутила на себе и на своих сродниках»15 [16: 73]; «Батюшка всех всегда выслушивал, всем помогал. Он прозорливо видел глубины человеческих душ: Господь ему открывал! Чувствуется, что злые силы, одолевающие человека, боятся молитв отца Михаила»16 [16: 69–70].
Священник может помочь выздороветь или принять правильное решение:
«Обращалась к батюшке за помощью духовной во всех жизненных ситуациях, всё были какие-то сложные и переживательные. Вот дочка замуж выходила – волнуюсь, а батюшка утешал: “Всё господь управит, не волнуйтесь. И день свадьбы тоже…” Так и вышло всё складно»17 [16: 88].
По воспоминаниям прихожан, прозорливостью отличался священник Иоанн Шастов:
«В новый открытый храм приезжало много людей, а ночевать было негде. Прихожане их устраивали по своим домам. У нас всегда много гостей ночевало. И пришел еще один старичок, просился ночевать. А я ему ответила – посмотри, сколько народу, негде ногой встать! Старичка этого больше не видели. А на следующий день отец Иоанн говорит: «Что же ты наделала? Как же ты Николая-Угодника ночевать не пустила?»18 [15: 15–16].
Если согласиться с утверждением, что
«святые соотносятся с такими мифологическими персонажами, как колдуны» и «их человеческая (или близкая к человеческой) природа, с одной стороны, и сверхчеловеческие способности, с другой, во многом сближают их, а то и способствуют их отождествлению» [21: 17], то биографии священнослужителей в части, повествующей о сверхспособностях, также вполне соответствуют «житийному образцу».
«НАЧАЛО» И ВЫБОР ДУХОВНОГО ПУТИ
Анализ биографий позволил выделить основные отправные точки, послужившие причиной выбора священниками «особого» пути: семейные традиции, исключительные обстоятельства, осознанный выбор, знамения. Перечисленные факторы нередко суммируются, при этом семейные традиции выступают доминирующим обоснованием выбора пути церковнослужения. Большинство священников, служивших в Кировске, родились в семьях духовенства:
«О себе он рассказывал, что, когда его крестили в младенчестве, священник сказал: “Этот будет батюшкой”. Отец его тоже был священнослужителем, и мальчик к десяти годам читал на церковно-славянском и полюбил чтение духовных книг. После окончания школы и армии учился заочно в Московской духовной семина-рии»19 [15: 61].
Если священники были сиротами, то отмечается, что они были «воспитаны верующими людьми». Родиной почти всех служивших в Кировске священников была Украина. В местах, где они родились и выросли, всегда были действующие церкви и не прерывались религиозные традиции. Это очень важно для биографа, поскольку дает возможность воплотить идею о предопределенности священнослужения, благодаря совокупности обстоятельств. Так, влияние семейной и локальной культуры усиливается и закрепляется мотивом чудесного знамения:
«Отец Михаил был очевидцем явленного чуда Божия в селе Либохора Львовской области: в храме Успения Божией Матери 28 августа отпечатался на стекле лик Пресвятой Богородицы на уровне второго этажа над входом в храм. Он помнил, что длилось это целый месяц. Люди стекались из разных мест толпами: днем и ночью шли пешком, ехали на машинах поклониться Божией Матери. Власти выставили войсковое ограждение, закрывая доступ к храму. А народ, оставляя машины в соседнем селе, пробирался через поля к пресвятой Богородице. <…>. В отроческом возрасте Михаилу во сне явилась умершая мать и сказала: “Сынок, держись храма!”. Это желание постоянно возрастало в душе Михаила. Родители и родственники – все были верующие, православные. Да и вера подкреплялась действиями: в их селе власти пытались отнять церковь у людей, но жители становились стеной, сменяя другу друга, дежурили день и ночь» [16: 7].
НАСТАВНИК
Период становления под руководством наставника – важная часть жизненного пути духовного лица. У каждого священника был духовный учитель, «жизненную школу» которого он прошел:
«В послушании у отца Георгия никто не выдерживал больше полгода-года: просили перевода или совсем убегали. Владыка предлагал отцу Михаилу рукополагаться во иереи, но он отказывался – хотел еще поучиться у отца Георгия. И учился смирению и послушанию <…> в дальнейшем состоялось духовное возрастание при служении с такими ревностными духовными пастырями, как Алексий Дендак, отец Георгий Казак, отец Иоанн Лапко и другие. Это была жизненная духовная школа»20 [16: 11].
Прохождение «духовной школы», по мнению самих священнослужителей, необходимо для получения достойного «воспитания». Из воспоминаний священника И. Баюра:
«Со мной служили маститые батюшки: отец Алексий Дендак, отец Василий Химчук. В 1983 году настоятелем Казанского храма назначили протоиерея Василия Хим-чука. <…> Он очень строго, с большим благоговением относился к богослужениям. <…> Подвергал большим взысканиям за небрежное совершение богослужений. Это была для меня хорошая закалка. Тогда я многого не понимал, строгость казалась мне ненужной. Но теперь я вижу, что под руководством отца Василия получил достойное воспитание. А иначе я, наверное, никогда не стал бы настоятелем такого огромного собора в Мон-чегорске»21.
Обучение у хорошего наставника важно не только для получения соответствующего опыта, но и для управления большим приходом.
СЕМЬЯ СВЯЩЕННИКА
Если у священника есть семья, то в биографии обязательно отражается его отношение к ней:
«Показательно отношение батюшки к семье. Отец Михаил был прекрасным семьянином. Они с матушкой Ярославой прожили счастливую жизнь. Матушка всегда была его верной помощницей. Своих дочек батюшка воспитывал прежде всего своим примером: примером любви, труда и веры в Бога. Девочки выросли в храме, на клиросе помогали матушке петь и читать. Семья для батюшки была прежде всего семьей во Христе, семьей не только его близких, но и его прихожан, вообще всех, кто нуждался в нем и приходил за советом»22 [16: 39].
Духовный статус подкрепляется тем, что священнослужитель и дома продолжает оставаться в сане: «Мне кажется, что папа даже дома был не просто человек, а как священник»23 [16: 42]. Родители детей, рожденных в семье священнослужителя, по представлениям членов общины, должны быть образцово-показательным примером семейного домостроя. В семье должны отмечаться все православные праздники и сохраняться православные традиции. Например, в семье о. Михаила Сыплывого сохранялся обычай 19 декабря, ко дню памяти святителя Николая, класть детям подарки под подушку: «Как только нам святитель Николай подарит что-нибудь, так сразу потом появляется это же в магазине!»24 [16: 37].
Жене священнослужителя отводится роль верной спутницы и помощницы во всех делах, связанных с церковной жизнью. Сюжеты, связанные с ролью жены священника, требуют отдельного рассмотрения.
ПОСМЕРТНОЕ БЫТИЕ
По представлениям воцерковленных верующих и членов общины, «земной» путь священника и его деяния в самом широком смысле продолжаются и после смерти, но только в ином качестве. В биографию органично включается агиографический мотив посмертного чуда:
«Становится посещаемой могила протоиерея Илии обращающихся к нему. Известна исцеленная от недуга женщина, просившая на его могиле помощи. Открывает Господь молитвенное заступление батюшки за нас. Сильно ощутимо нами, что протоирей Илия духом не покидает нас» [15: 18].
Священнослужитель продолжает «жить», например, в построенной им церкви:
«Великолепное Промышление божие, что в моей жизни состоялась встреча с отцом Михаилом и она не оборвалась с его уходом в мир иной <...>. Мы понимали, что не можем без него и не желали выпустить его за ворота храма. Батюшка не мог покинуть храм – это его жизнь. По прошению прихожан упокоен наш родной батюшка Михаил рядом с храмом, который сам и строил. Отец Михаил и храм просто неотделимы, и радует нас, что батюшка рядом» [16: 97].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя предварительный итог, отметим, что у биографий представителей духовенства свои каноны. Жизненный сценарий духовного лица, с позиций членов общины и кировского прихода, представляет биографию, согласующуюся с агиографическим образцом. Социальная реальность советского времени предоставила широкие возможности для воплощения идеи «мученичества» в различных конкретизирующих формах. Жизненный путь духовного лица выстраивается по принципу доказательства его сакрального статуса. На этот статус указывают сверхспособности и провидчество, а также свойства, которые по существу являются профессиональными (ораторские навыки, умение выстроить проповедь, выслушать человека, учительствовать), но в биографии предстают как свойства исключительной личности. Главными причинами выбора пути церковнослужения признаются семейные традиции, особые обстоятельства, осознанный выбор и чудесные знамения, а окончательному становлению священника способствует мудрый наставник. Земной путь священника и его служение продолжаются и после смерти в виде посмертных чудес или просто незримого присутствия в жизни и памяти верующих.
CONSTRUCTING THE BIOGRAPHIES OF THE CLERGYMEN OF ONE CHURCH
Список литературы О конструировании биографий священнослужителей одного прихода
- Бардилева Ю. П. Русская Православная Церковь на Кольском Севере в начале XX века. Мурманск: МГГУ, 2015. 253 с.
- Большакова Н. П. Летопись души: к 15-летию Мурманской и Мончегорской епархии: В 2 кн. Кн. 2: Дороги жизни. Мурманск: Опимах, 2010. 303 с.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. 323 с.
- Варзуга -первое русское поселение на Кольском Севере: Материалы региональной научно-богословской историко-краеведческой конференции. Вторые Феодоритовские чтения/Под ред. игумена Митрофана (Баданина). СПб.: Ладан, 2010. 304 с.
- Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований//Социологический журнал. 1995. № 1. С. 71-89.
- Давыдова А. С. История храмов г. Кировска в устных преданиях//Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2015. Вып. 7. С. 146-161.
- Дивисенко К. С., Дивисенко О. В. Биографические исследования реинтерпретации личной истории у православных верующих//Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX. № 4. С. 24-37.
- Дубин Б. В. Биография, репутация, анкета (о формах интеграции опыта в письменной культуре)//Обращенный взгляд/Слово -письмо -литература: Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 100-119.
- Змеева О. В., Разумова И. А. Спецпереселенцы Хибиногорска: динамика идентичностей//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 7 (168). С. 7-14.
- Знаменский П. В. Приходское духовенство на Руси. Приходское духовенство в России со времен реформы Петра. СПб.: Коло, 2003. 800 с.
- Исаева В. Б. Феномен конверсации: конструирование религиозной идентичности в биографическом нарративе//Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. XIII. № 1. С. 127-147.
- Козлова Л. А. Биографическое исследование российской социологии: предварительные теоретико-методологические замечания//Социологический журнал. 2007. № 2. С. 59-87.
- Леонтьева Т. Г. Сельское духовенство: политика и прихожане (1900-1924)//Studia Slavica Finlandensia. Tomus XVII. Helsinki: VenajanjaIta-Euroopaninstituutti, 2000. С. 255-274.
- Лоскутов Д. С. «Путь Варлаама». Страницы дневника//Север и история. Четвертые Феодоритовские чтения, город Кандалакша -село Варзуга, 11-14 августа 2011 года: Материалы междунар. историко-краеведческой конф./. Мурманск: Изд-во Мурманской и Мончегорской епархии; СПб.: Ладан, 2012. С. 268-273.
- Ляпинская А. А. История храмов в горах Хибинских. Б. м., 2014. 135 с. (рукопись)
- Ляпинская А. А. «Памятью жив будет…». Апатиты, 2015. 103 с.
- Макарова В. Ю. «Он хотя и выпивает, но не упивается»: отношение крестьян к пьянству у священников//Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 70-86.
- Мангилева А. В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX века (на примере Пермской епархии). Екатеринбург: УралНАУКА, 1998. 251 с.
- Митрофан (Баданин). Блаженный Феодорит Кольский, просветитель лопарей: исторические материалы к прославлению и написанию жития. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2002. 141 с.
- Митрофан (Баданин). Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие. Житие, предания, исторические документы. Опыт критического переосмысления. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2003. 295 с.
- Мороз А. Б. Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых. М.: Неолит, 2017. 443 с.
- Петрина А. Б. Возможности современной интеллектуальной истории для развития биографического жанра//Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История. Филология. 2010. Т. 9. Вып. 1: История. С. 332-336.
- Преподобный Феодорит Кольский и его духовное наследие: Материалы региональной научно-богословской конф. Первые Феодоритовские чтения/Под. ред. Иеромонаха Митрофана (Баданина). СПб.: Ладан, 2007. 127 с.
- Разумова И. А. Биография советского ученого: прагматика текста//Труды Кольского научного центра РАН. 2017. Вып. 11 (Гуманитарные исследования). С. 5-17.
- Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 386 с.
- Розенблюм О. М. Каналы опыта и структура переживания в «нормативной биографии» (на материале «Зои» М. Алигер)//Право на имя. Биографика 20 века. Эпоха и личность: ракурсы исторического понимания. СПб., 2008. С. 149-155.
- Север и история. Четвертые Феодоритовские чтения: Материалы междунар. историко-краеведческой конф./. Мурманск: Изд-во Мурманской и Мончегорской епархии; СПб.: Ладан, 2012. 304 с.
- Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках. М.: Индрик, 2002. 352 с.
- Сулейманова О. А. Багаж переселенцев (к вопросу о жизни вещей в культуре)//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2011. № 7 (120). С. 27-30.
- Тернер Р. Сравнительный контент-анализ биографий//Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 121-134.
- Тупахина О. В. Религиозная биография как форма нарративизации жизненного мира верующих (на примере православных христиан)//Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. № 1. С. 185-197.
- Фаворский Е. А., Соболев А. Н., Флоренский П. А. Православные священники -собиратели русского фольклора. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. 414 с.
- Цветаева Н. Н. Биографический дискурс: свидетельства об изменениях в культуре//Право на имя. Биографика 20 века. Методология составления и изучения биографии: Четвертые междунар. чтения памяти В. Иофе. 17-18 апреля 2006 г. СПб., 2007. С. 111-120.
- Чумакова Т. Православные священники -исследователи религии народов России//Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 12-32.
- Юмашева Ю. Ю. Историко-биографические исследования: методы и базы данных//Уральский исторический вестник. 2015. № 4 (49). С. 146-152.
- Bude H. Rekonstruktion von Lebenskonstruktionen -eine Antwort auf die Frage Was die Biographieforschung bringt//Kohli M., Robert G. (Hrsg.). Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven. Stuttgart: Metzler, 1984. S. 7-28.