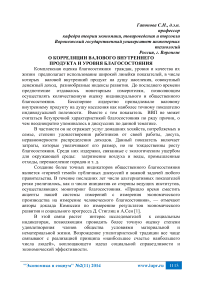О корреляции валового внутреннего продукта и уровня благосостояния
Автор: Гапонова С.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140107077
IDR: 140107077
Текст статьи О корреляции валового внутреннего продукта и уровня благосостояния
Комплексная оценка благосостояния граждан, уровня и качества их жизни предполагает использование широкой линейки показателей, в числе которых валовой внутренний продукт на душу населения, совокупный денежный доход, разнообразные индексы развития. До последнего времени предпочтение отдавалось монетарным измерителям, позволяющим осуществлять количественную оценку индивидуального и общественного благосостояния. Бесспорное лидерство принадлежало валовому внутреннему продукту на душу населения как наиболее точному показателю индивидуальной полезности. Вместе с тем показатель ВВП не может считаться безупречной характеристикой благосостояния по ряду причин, о чем неоднократно упоминалось в дискуссиях по данной тематике.
В частности он не отражает услуг домашних хозяйств, потребляемых в семье, степени удовлетворения работников от своей работы, досуга, неравномерности распределения доходов. Данный показатель включает затраты, которые увеличивают его размер, но не тождественны росту благосостояния. Среди них издержки, связанные с экологическим ущербом для окружающей среды: загрязнение воздуха и воды, промышленные отходы, перенаселение городов и т. д.
Создание более точных индикаторов общественного благосостояния является «горячей темой» публичных дискуссий и важной задачей любого правительства. В течение последних лет число альтернативных показателей резко увеличилось, как и число инициатив со стороны ведущих институтов, осуществляющих мониторинг благосостояния. «Пришло время сместить акценты нашей системы измерений с измерения экономического производства на измерение человеческого благосостояния», — отмечают авторы доклада Комиссии по измерению результатов экономического развития и социального прогресса Д. Стиглиц и А.Сен [1].
В этой связи растет интерес исследователей к социальным индикаторам, позволяющим проводить более точную оценку степени удовлетворения членов общества условиями материальной и нематериальной жизни. Возрождение утилитаристской традиции все чаще связывают с реализацией принципа «наибольшее счастье наибольшего числа людей», воплощающего идеал социальной справедливости и экономической эффективности.
По нашему мнению расширение показателей определяется двойственностью методологии в оценке благосостояния. Как справедливо было отмечено: «Если иметь ввиду благосостояние в узком смысле, как результат потребления материальных и нематериальных благ, то это экономическое благосостояние. Если же раздвинуть границы понятия за рамки процесса потребления с учетом состояния различных институтов общества, в том числе политических, идеологических и гражданских, то благосостояние как степень удовлетворенности процессами потребления и условиями жизни - это полезность в оценке любого члена общества» [ 2, с. 63] .
Широко известен и общепризнан показатель чистого экономического благосостояния (NEW), корректирующий ВНП путем вычитания отрицательных факторов, добавления стоимости нерыночной деятельности, а также оценки досуга. Концептуально близким NEW является индекс устойчивого экономического благосостояния (ISEW), активно используемый в расчетах с 80-х гг. XX в. В данном индикаторе учтены домашние услуги нерыночного характера, увеличение внешнего долга семей, спад благосостояния в результате усиливающейся концентрации доходов. Специалистами Программы развития ООН был разработан еще один комплексный показатель- индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index ) HDI. Он отражает уровень достижений общества в области развития человеческих ресурсов, а именно, соответствие условий формирования благосостояния населения в стране общепризнанным критериям благополучия.
Комплексные индексы, как можно заметить, строятся с учетом широкой базы показателей. Среди них принято выделять субъективные индикаторы, выявляемые путем социологических опросов, а также объективные индикаторы, то есть данные официальной статистики, характеризующие качество жизни. При построении субъективных индикаторов используется ординалистский подход, когда обследуемые определяют по шкале предпочтений порядковый номер своего уровня счастья в диапазоне «очень удовлетворен»-«совсем не удовлетворен». Данная оценка формируется под влиянием разнообразных факторов. Первоочередное значение в системе экономических факторов имеет уровень экономического развития общества, в том числе среднедушевые доходы населения, показатели инфляции и безработицы, качество государственных услуг, медицины, образования. Чрезвычайно актуальны для эмоционального благополучия человека неэкономические факторы, такие как семейное положение, уровень образования, профессиональная принадлежность, половозрастные характеристики. Практически на том же уровне по степени воздействия находятся климатические условия и состояние окружающей среды, состояние политической системы и правопорядок.
Между объективными показателями экономического развития и данными эмпирических исследований существует довольно тесная зависимость. Широко известен метод сопоставления среднедушевого уровня ВВП с показателями эмоционального благополучия. Выборочные обследования населения развитых стран показывают положительную корреляцию между этими показателями, на основании чего представляется правильным утверждение: «Чем богаче нация, тем она счастливее». Вместе с этим рост ВВП приводит к изменению норм, на которых основываются субъективные представления граждан о материальном благополучии. В этом случае возникает так называемый «парадокс Истерлина» – ситуация, когда, несмотря на высокий уровень подушевого ВВП, индивидуальные оценки эмоционального благополучия не высоки.
Взяв за основу широко известный показатель HPI (Happy Planet Index-индикатор счастья), который учитывает результаты социологических опросов (субъективные индикаторы), а также данные о продолжительности жизни, ресурсоемкости потребления и подушевом ВВП, можно убедиться, что поначалу корреляция между ними довольно высока. Но, она быстро исчезает, когда подушевой ВВП превышает $4 тыс. по паритету покупательной способности. HPI, как и другие индексы счастья, появился именно потому, что богатые страны достигли уровня, при котором их граждане начинают сомневаться в материальных ценностях.
Парадокс Истерлина подтвердился как для США, так и для большинства стран Европы. Обобщение результатов эмпирических исследований в пореформенной России показало наличие устойчивой связи между динамикой ВВП и уровнем эмоционального благополучия. Падение объемов производства и длительная стагнация вызвали резкое снижение уровня удовлетворенности жизнью. Однако переход к фазе экономического роста с 2000 г., не повлек соответствующего роста положительных оценок населения. Причину этого исследователи усматривают в повышении трудовых нагрузок, росте рисков и неопределенностей рыночной среды, стремительной коммерциализации социальной сферы. При заметно возросшем ВВП в России, значения индекса HPI практически не меняются (34,5) и составляют 122 позицию в группе обследуемых стран [1].
Как видим существует необходимость уточнить парадокс Истерлина . При относительно низком уровне ВВП на душу населения, характерном для стран с развивающимися рынками, по мере его повышения растет и уровень счастья нации. Если же уровень подушевого ВВП высок, его дальнейшее увеличение не приводит к подобному результату.
В общем случае парадокс Р. Истерлина объясняется так называемым «мотивом статуса», в соответствии с которым человек стремится преуспеть относительно других. В соответствии с гипотезой относительного дохода существует зависимость индивидуального уровня потребления от относительного дохода. В этом случае наблюдается положительная зависимость между индивидуальным доходом и удовлетворенностью благополучием на фоне неизменности доходов остальных представителей социальной выборки.
Не менее важным в объяснении данного экономического феномена является учет особенностей социально-экономической системы. Там где принципы социального государства реализуются в полной мере, благосостояние общества не конфликтует с индивидуальным благосостоянием. Очередное обследование граждан стран Северной Европы в сопоставлении с гражданами континентальной Европы показало, что первые в большей мере удовлетворены своей жизнью, чем вторые. При относительно небольших расхождениях в показателях среднедушевых доходов существует заметный разрыв в уровне социальных гарантий и социальной помощи респондентам обеих групп.
Справедливым будет утверждение о том, что «…сам по себе экономический рост не гарантирует достижения индивидуального благосостояния. Он выступает необходимым, но не достаточным условием качества жизни в современном обществе. Принципиальное значение имеет комплекс мер социальной политики с целью развития человеческого потенциала, демократических институтов, качества социальной среды» [3, с.153].