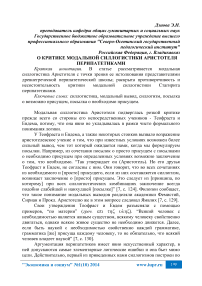О критике модальной силлогистики Аристотеля перипатетиками
Автор: Дзиова Э.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-3 (10), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается модальная силлогистика Аристотеля с точки зрения ее истолкования представителями древнегреческой перипатетической школы; раскрыта противоречивость и несостоятельность критики модальной силлогистики Стагирита перипатетиками.
Силлогистика, модальный вывод, силлогизм, посылка о возможно присущем, посылка о необходимо присущем
Короткий адрес: https://sciup.org/140106899
IDR: 140106899
Текст научной статьи О критике модальной силлогистики Аристотеля перипатетиками
Модальная силлогистика Аристотеля подверглась резкой критике прежде всего со стороны его непосредственных учеников - Теофраста и Евдема, потому, что она явно не укладывалась в рамки чисто формального понимания логики.
У Теофраста и Евдема, а также некоторых стоиков вызвало возражение аристотелевское учение о том, что при известных условиях возможен более сильный вывод, чем тот который ожидается нами, когда мы формулируем посылки. Например, из сочетания посылок о просто присущем с посылками о необходимо присущем при определенных условиях возможно заключение о том, что необходимо. “Так утверждает он (Аристотель). Но его друзья Теофраст и Евдем, не согласны с ним. Они говорят, что во всех сочетаниях из необходимого и [просто] присущего, если из них составляется силлогизм, возникает заключение о [просто] присущем. Это следует из [принципа, по которому] при всех силлогистических комбинациях заключение всегда подобно слабейшей и наихудшей [посылке]” [7, с. 124]. Филопон сообщает, что такое понимание модальных выводов разделяли академики Фемистий, Сириан и Прокл. Аристотелю же в этом вопросе следовал Ямвлих [7, с. 129].
Свои утверждения Теофраст и Евдем разъясняли с помощью примеров, “по материи” ( греч. επι τηζ υληζ ). “Всякий человек с необходимостью является живым существом, всякому человеку свойственно двигаться, однако всякое живое существо не необходимо движется. Далее, если быть наукой с необходимостью свойственно каждой грамматике, грамматика [же] присуща каждому человеку, то не обязательно, что всякий человек владеет наукой” [7, с. 130].
Аргументация перипатетиков имеет явно искусственный характер, в ней допускаются самые элементарные логические ошибки и она бьет мимо цели. Действительно, первый из приведенных нами силлогизмов построен по третьей фигуре, а она, как известно, не дает общих выводов. Кроме того, доводы построены на смешении “способности к движению” (с необходимостью, присущей всякому человеку и живому существу) и актуального состояния “быть в движении” (которое присуще ему не всегда и без необходимости). Ошибочно и второе рассуждение. Каждый человек владеет правилами грамматики не в качестве науки, а согласно своим природным способностям и, если он хорошо строит свою речь, то совсем не обязательно, что он изучал эту науку и владеет знаниями в области какой-нибудь науки. В обоих силлогизмах нарушено аристотелевское требование, чтобы меньший термин (В) относился к большему (Б) как часть к целому, а такое отношении, как мы отмечали, выражает у него связь вещи (ее вида) с родом, т. е. существенную связь терминов.
В еще большей степени формализм перипатетиков проявился в критике аристотелевского положения о том, что при известных условиях из сочетания посылок о необходимом и возможном следуют выводы о просто присущем.
Дело в том, что понятие о возможном истолковывалось Теофрастом и Евдемом чисто формально, как мыслимая допустимость без противоречия тому, что или уже фактически существует или с необходимостью будет существовать. Иначе говоря, перипатетики понимали его в смысле “омонимической возможности” [7, с. 132] и отвергали собственно возможное аристотелевской логики.
Естественно, что все без исключения правила ассерторической силлогистики Теофраст и Евдем автоматически переносили также на выводы из посылок о возможном. “Теофраст и Евдем утверждают, что общеотрицательные [посылки] о возможном обратимы так же, как обратимы ассерторические и необходимые [посылки].” В этом они существенно расходились с Аристотелем, полагавшим возможное в качестве противоречивой определенности самих вещей. “[По Аристотелю], - замечает Александр Афродизийский, - своеобразие возможного составляет превратимость, т. е. то, что в отношении к нему следует друг за другом образуемые нами утверждение, и отрицание… Надо, однако, сказать, что согласно Теофрасту эта превратимость посылок является неправильной и он ею не пользовался. Причины для того, что общеотрицательные [посылки] о возможном, подобно ассерторическим и необходимым, обратимы, а утвердительные [посылки] о возможном не превратимы и отрицательные, одни и те же.”
В пользу того, что общеотрицательные суждения о возможном обратимы также, как и суждение иных модальностей, перипатетики приводили ряд доказательств. “Пусть А возможно не присуще ни одному Б, тогда и Б будет возможно не присущим ни одному А. Ибо если А возможно не присуще ни одному Б , то А может быть отделено и обособлено (греч. απεζευµται µαι εχρισται) [от всякого Б], отделенное же отделяется от отделенного, значит и Б полностью отделено от А, а если это так, то оно возможно не высказывается ни о каком [А]” [7, с. 137].
Доказательство Теофраста, однако, содержит в себе порочный круг, так как оно основано на предположении того, что уже фактически отделено, а не того, что может быть отделено. В обратимости же общеотрицательных суждений Аристотель не сомневался, равно как и в обратимости суждений о возможном, если возможное понимается только в омонимическом смысле.
Формализм в понимании возможного привел к существенной перестройке аристотелевской теории выводов из модально смешанных посылок.
Во-первых, перипатетики отвергли мысль Аристотеля о том, что при известных условиях из “смеси” посылок о возможном и о необходимом возникает заключение о просто присущем. Согласно установленному ими правилу (заключение всегда подобно слабейшей посылке) здесь выводимо лишь суждение о возможном. Аналогичным образом они доказывали, что из посылок о необходимом и просто присущем всегда следует вывод только о присущем, а не о необходимом (в известных случаях, как утверждал Аристотель).
Во-вторых, запрещение перипатетиками превращения посылок по возможности означало исключение из силлогистики тех модусов, которые Аристотель получал, замещая утвердительные посылки “отрицательными” суждениями о возможном.
Поздние перипатетики весьма способствовали возникновению понятия о логике как о формальной науке. Что касается логики Аристотеля, то она не была еще вполне формальной. Ведь аподейктика (учение о необходимом знании) Стагирита находилась в тесной связи с его методологией. Однако постепенно эта связь аристотелевской логики с фундаментальными тезисами его методологии стала казаться заметным недостатком. Со временем аподейктика у продолжателей Стагирита оказывается на задворках, все большое внимание начинает уделяться формальным элементам в системе Стагирита. В еще большей степени это имеет место у стоиков, у которых логика с самого начала тесно увязывалась с грамматикой и риторикой. Именно в такой ситуации и возникает термин “диалектика” как синоним для слова “логика”.
Во-вторых, перипатетики начали употреблять термин “логика” ( греч. λογιµη : “логикэ”). Правда, термины логический ( греч. λογιµωζ ), “логически” применялись еще Стагиритом, однако в соответствии с тем смыслом, какой эти слова имели в современном ему греческом языке. Стагирит употреблял их в контексте вероятного знания, противопоставляя прилагательному “логический” прилагательное “аналитический”. Последнее означало “вполне достоверный”. Аристотель не мог применять термин “логика” для наименования своей теории.
Наряду с термином “диалектика” вошло в употребление также наименование “логика”. Возникновение этого термина у перипатетиков зафиксировано Александром Афродизийским, а труды Цицерона ясно свидетельствуют, что в его эпоху термин “логика” был уже общепринят.
Наконец, необходимо указать на перипатетический взгляд на логику как на орудие или органон философии, а не как на ее часть. Этот взгляд, очевидно, вытекал из концепции логики как формальной дисциплины, касающейся лишь общих, но не конкретных терминов. Стоики же защищали тот тезис, что логика должна рассматриваться в качестве ингредиента методологии. В дискуссии по этой проблеме между перипатетиками и стоиками некоторое преимущество было на стороне перипатетиков, так как взгляд на логику как на лежащую вне философии органически вытекал из концепции логики как формальной науки - понимание, которое, впрочем, разделялось в некотором смысле и стоиками.