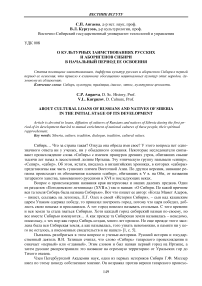О культурных заимствованиях русских и аборигенов Сибири в начальный период ее освоения
Автор: Ангаева С.П., Кургузов В.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена заимствованиям, диффузии культур русских и аборигенов Сибири в первый период ее освоения, что привело к взаимному обогащению национальных культур этих народов, духовному их сближению.
Сибирь, культура, традиция, диалог, этнос, культурные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/142142682
IDR: 142142682 | УДК: 008
Текст научной статьи О культурных заимствованиях русских и аборигенов Сибири в начальный период ее освоения
Cибирь… Что за страна такая? Откуда она обрела имя свое? У этого вопроса нет однозначного ответа ни у ученых, ни у обыденного сознания. Некоторые исследователи связывают происхождение слова «Сибирь» с именем пращуров древних угров, обитавших свыше тысячи лет назад в лесостепной долине Иртыша. Эту этническую группу называли «сипир», «Сепир», «сабир». Об этом, кстати, писалось в византийских хрониках, в которых «сабиры» представлены как часть гуннских племен Восточной Азии. По другим версиям, название региона происходит из обозначения племени «сибир», обитавших в V в. на Оби, от названия татарского ханства, завоеванного русскими в ХVI и последующих веках.
Вопрос о происхождении названия края интересовал и наших далеких предков. Один из разделов «Погодинского летописца» (ХVII в.) так и назван: «О Сибири. По какой причине вся та земля Сибирь была названа Сибирью». Вот что пишет ее автор: «Когда Мамет Адеров, пишет, ссылаясь на летопись, Л.Г. Олех в своей «Истории Сибири», сын над казанским царем Упаком одержал победу, то приказал построить город, потому что царя победил, доблесть свою показал и прославился. А тот город повелел называть стольным. С того времени и вся земля та стала зваться Сибирью. Хотя каждый город сибирский назван по-своему, но все вместе Сибирью именуются… А как прежде та Сибирская земля называлась – неведомо, поскольку, с тех пор как город Сибирь создан, много лет прошло. Но еще прежде этого заселена была вся Сибирская земля, а как называлась, того узнать невозможно, в памяти ни у кого не осталось, а письменных свидетельств и не нашел» [1, с. 5].
Пытались разобраться в этом вопросе и ученые-историки. Русский историк и государственный деятель В.Н. Татищев считал, что слово «Сибирь» татарского происхождения и означает «первый» или «главный». Этим словом и был назван первый город на Иртыше, а затем русские распространили это название на огромную территорию от Уральских гор до Тихого океана.
Член Петербургской Академии наук, один из первых историков Сибири Г.Ф. Миллер имел по этому поводу собственное мнение. Он возражал против версии татарского происхо- ждения названия края. Слово «Сибирь», полагал Миллер, пришло из языка зырян или пермяков. Однако эта его гипотеза не была подкреплена убедительными доказательствами.
В 1841 г. учитель Тобольской гимназии Н.А. Абрамов вмешался в спор о происхождении слова «Сибирь». По его мнению, оно происходит от глагола «сибиршан» («вычищенный», «чистый», «очищать»). Н.А. Абрамов пришел к следующему выводу: «Когда-то какой-то воитель, завладев этой страной, завел в ней новые порядки, и страна сделалась очищенной, выметенной, благоустроенной» [2, с. 6].
Трудно дать однозначный ответ на вопрос: «Откуда пошла земля сибирская?» Вполне ясно лишь одно, что это богатейший край, в котором сосредоточены несметные природные ресурсы и что Россия приступила к освоению этого края четыре столетия назад. Вместе с тем этот край малонаселен. В конце ХVI в. ее коренное население проживало на территории 12 млн. км2 и не превышало в те далекие времена 240 тыс. человек, т.е. на 1 км2 приходилось по 0,16 человека.
К нашему времени ситуация в какой-то мере изменилась, но не очень существенно. Если даже добавить к собственно сибирским землям территории тяготеющих к ним Урала и Дальнего Востока, то территория Большой Сибири составит 15 млн. км2. Это 87% всей территории России, население которой около 148 млн. человек. Из них на Урал приходится 20 млн., а на собственно Сибирь – всего 23 млн.
Это просторы, поражающие воображение. Здесь есть где развернуться, приложить свой ум, смекалку и трудолюбие. Это колыбель значительной части общероссийской культуры, многоцветной и высокодуховной по своему внутреннему содержанию. Эти просторы породили и особый тип культуры, наделенной особыми, сибирскими свойствами. Одним из таких свойств является неразрывная связь с природой вне зависимости от того, является ли сибиряк городским жителем или проживает в деревне. В жизнедеятельности сибиряка убедительно проявляет себя органическое сочетание принципа природо- и культуросообразности, который в свое время обосновал немецкий культуролог и педагог Ф. Дистервег.
Если культуры Западной Сибири соприкасаются с Приуральем и Зауральем, то Восточная Сибирь в древности выглядит автономно. Ее памятники сосредоточены в основной своей массе на берегах могучих сибирских рек – Ангары, Енисея и Лены, что предположительно указывает на основное направление миграции верхнепалеолитических племен при освоении новых земель. Об относительной самостоятельности и независимости процесса развития культуры Сибири нам говорят большие могильники, не имеющие никаких примесей иных культур. А это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что уже изначально процесс развития культур в Восточной и Западной Сибири характеризуется внутренней самостоятельностью и независимостью от процесса развития культур своих южных и западных соседей.
Зачатки сегодняшней культуры Сибири стали складываться в незапамятные времена, но новый их импульс был получен с приходом в Сибирь русских людей. Пришлое русское население со своей культурой, сложившимся образом жизни попадало в новое социальнокультурное пространство. Надо было как-то адаптироваться к новым условиям, постигать «тайны» местных традиций, обычаев, ценностей материальной и духовной культуры. В свою очередь, пришлые оказывали свое влияние на быт и культуру аборигенов.
Как видим, в Сибири изначально складывались определенные социальноэкономические и культурные отношения, представляющие собой результат трансляции российского образа жизни на местную почву, стал формироваться особый сибирский, народный тип культуры как вариант общенациональной русской культуры, явивший собой единство общего и особенного. Таким образом, процесс культурной адаптации имел как общие черты для всех сибиряков, так и частные черты, которые стали характерными для каждого социального слоя.
Межкультурное взаимодействие русских и аборигенов коснулось в первую очередь орудий труда. Пришлое население очень многое позаимствовало у аборигенов из орудий охоты и рыболовства, а аборигены, в свою очередь, стали широко использовать орудия зем- ледельческого труда. Заимствования с той или другой стороны в разной степени проявились в сооружаемых жилищах, хозяйственных постройках и одежде. Так, например, в низовьях Иртыша и Оби русские жители заимствовали у ненцев и хантов малицы, парки, обувь из оленьего меха и многое другое. Буряты, взяв за основу постройку русской избы, со временем стали делать деревянные, а не войлочные юрты.
Взаимное влияние разных культур имело место и в духовной сфере, в меньшей степени – на ранних этапах освоения Сибири, в значительно большей степени – начиная с ХVIII в. Речь идет, в частности, об усвоении некоторых феноменов религиозности коренного населения пришлыми людьми, с одной стороны, и о христианизации аборигенов – с другой.
Все исследователи культуры народов Сибири в период ХVII – ХIХ вв. отмечают большое сходство быта русских казаков с бытом коренного населения. И именно бытовые отношения весьма тесно сближали казаков с аборигенами, в частности с якутами и бурятами. Якуты, например, охотно давали в долг казакам свои каяки, помогали им в охоте и рыболовстве. Когда казакам по делам службы приходилось отлучаться на длительный срок, они оставляли соседям – якутам или бурятам на сохранение свой скот. Многие местные жители, принявшие христианство, сами становились служивыми людьми, так возникали общие интересы с русскими переселенцами, формировался если и не совместный, то близкий образ жизни.
Смешанные браки пришлых с туземками, как крещеными, так и оставшимися в язычестве, приобретали массовый характер. Следует иметь в виду, что православная церковь относилась к такой практике с большим неодобрением. В первой половине ХVII в. духовные власти высказывали беспокойство по поводу того, что русские люди «с татарскими и остяцкими вогульскими «поганскими» женами смешиваются… а иные живут с татарками некрещеными как есть с своими женами и детей приживают» [3, с. 49].
По этому поводу стоит сказать следующее. Русские, даже в Древней Руси или в Московском государстве, постоянно смешивались с близко живущими (как земледельческими, так и скотоводческими) народами. Покорение и колонизация новых земель стали вместе с тем и очередным вариантом метизации части европейских пришельцев, а влияние Сибирской ойкумены накладывало отпечаток на жизнь всех народов, обитающих в Сибири, и формировало не только особенный облик, если уже говорить о русских сибиряках-старожилах, но и характер. Сообщество сибирских народов, включая русских, подчинялось традициям, давно выработанным, обусловленным историко-географической средой, в том числе и принципом «не истребления соседей», а сосуществования с ними.
Местная культура, как уже отмечалось выше, несомненно, влияла на культуру россиян. Но влияние русской культуры на туземную было значительно сильнее. И это вполне естественно: переход ряда коренных этнических групп от охоты, рыболовства и других примитивных промыслов к земледелию означал не только повышение уровня технологического оснащения труда, но и продвижение к более развитой культуре.
Разумеется, процесс взаимовлияния культур был не так прост, как кажется на первый взгляд. Царский режим своей колониальной политикой в определенной степени сдерживал культурное развитие сибирского населения, как пришлого, так и аборигенного. Но имевшиеся в Сибири особенности социального устройства: отсутствие помещичьего землевладения, ограничение монастырских притязаний на эксплуатацию крестьянства, приток политических ссыльных, заселение региона предприимчивыми людьми, стимулировали ее культурное развитие.
Культура аборигенов обогащалась за счет российской общенациональной культуры. Повышалась грамотность населения, хотя и с большими трудностями. В ХVII в. грамотой владели в Сибири в основном люди духовного звания. Однако встречались грамотные и среди казаков, промысловиков, торговцев и даже крестьян. При всей ограниченности культурного развития Сибири в тот период уже закладывался фундамент дальнейшего духовного развития ее жителей, которое стало полнее проявляться в последующие годы.
Еще во второй половине ХIХ в. один из основоположников Петербургской культурологической школы академик А.Н. Пытин в своих историко-этнографических очерках писал о суровом Сибирском крае, сформировавшем особый тип человека – сибиряка, заметно отличного по своему облику и складу характера от европейца [4, с. 388]. В 80-е гг. этого же века о своеобразии Сибири и культуры ее населения заговорила и недолго просуществовавшая «Сибирская газета», которая издавалась в Томске с 1881 по 1888 г.
О сохранении особого сибирского характера в наши дни, несмотря на тенденцию заметного размывания сибирского социума, и основ его самобытной культуры в конце ХIХ – начале ХХ в. в связи со значительным притоком переселенцев из европейской части России убедительно писал наш земляк, профессор Санкт-Петербургского университета, почетный профессор ВСГУТУ А.О. Бороноев. В частности, он подчеркивал: «В культурноисторическом автостереотипе сибиряка, писал он, подводя итоги социологическим исследованиям, особое место занимают такие качества, как выносливость, упорство, честность, демократизм, расовая непринужденность, коллективизм, терпимость и т.д. Эти качества составляют, по мнению респодентов, основу характера сибиряков, самоуважения и определяют их идентичность, общность. Сибирячество опирается не на этнографическую базу, а на территориальную. Это очень важная черта и основа сибирской идентичности» [5, с. 15-17]. С нашей точки зрения, территориальность определяет и уникальные черты и культурного типа сибиряка.
Изучение материалов, связанных с историей культуры народов Сибири, убеждает нас в том, что все три вышеназванных фактора в равной мере оказываются определяющими в формировании особенностей Сибири как региона и сибиряка как исторически определенного жителя этого региона, демонстрирующего собой особый, сибирский тип культуры. Природные свойства Сибири сближали между собой различные этнические группы, создавая особую сибирскую культурную общность и солидарность, что в разных аспектах уже отмечалось в научной литературе.
В заключение следует сделать по меньшей мере три вывода:
Во-первых , уже с самого начала заселения русскими Сибири здесь начала складываться сибирская региональная общность. Уже в середине ХVII в., по мнению «областников», появляется этнографический тип «сибирянина», а в конце этого же века возникает представление о Сибири как о «цельной, объединенной некоторыми общими потребностями стране», даже как о «нравственно-общественном целом».
Во-вторых , одним из важнейших социокультурных факторов возникновения своеобразной культуры сибиряков явилось, с одной стороны, приобщение аборигенного населения русскими к земледелию, а русских-сибиряков к скотоводству и охотничьему промыслу, являющихся традиционными формами хозяйствования аборигенного населения Сибири, что, несомненно, способствовало формированию тех общих черт мироотношения, которые породила в психологии и миропонимании сибиряка отношение к окружающей природе и его отношения к труду, к прошлому, устоявшемуся семейно-клановому и общинному быту.
В-третьих , даже поверхностное сравнение культурных традиций русских сибиряков и традиций аборигенов Сибири позволяет сделать вывод о том, что в этом сравнении можно обнаружить много общего, не отталкивающего друг от друга эти народы, а сближающего их. Это можно легко доказать, сравнивая языческие основы русской культуры, выраженные в традициях отношения к природе, трудолюбию, гостеприимству, стремлению к коллективизму, общинному типу жизнеустройства и проч.
В-четвертых, с культурологической точки зрения, межкультурное взаимодействие русских поселенцев и коренных жителей Сибири даже в самом начале этого процесса стало прологом формирования новой сибирской субкультуры – культуры, которая впитала в себя многонациональные ценности всех народов этого обширного региона России, имя которому – Сибирь.
Наконец, в-пятых, русские в современной Сибири, проживая на исконных территориях аборигенов, вступая с ними в тесное межкультурное взаимодействие в рамках единого государства, в силу объективных и вполне очевидных причин представляют собой сегодня уникальную этнокультурную общность. Этот факт следствие конгломерации, когда происходит такое соединение отдельных частей в одно целое, при котором сохраняются их черты и специфика. В век глобализации и всеобщей унификации, поглощающих и стирающих последние проявления самобытности этнических групп, их изучение представляется нам весьма актуальным.