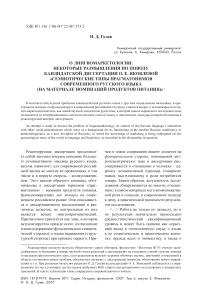О лингвомаркетологии: некоторые размышления по поводу кандидатской диссертации О. Е. Яковлевой «Семиотические типы прагматонимов современного русского языка (на материале номинаций продуктов питания)»
Автор: Голев Н.Д.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
В контексте обсуждения проблемы взаимодействия русского языка с другими социальными явлениями, в пространстве которых он функционирует в современной российской ситуации, ставится вопрос о лингвомаркетологии, или маркетолингвистике, как новой научной дисциплине русистики, в которой знание маркетинга последовательно подчиняется (в детерминационно-гносеологическом смысле) языку и лингвистике, контуры которой обозначены в рецензируемой автором диссертации.
Короткий адрес: https://sciup.org/14736866
IDR: 14736866 | УДК: 811.161.1'06+81'22+81'373.2
Текст научной статьи О лингвомаркетологии: некоторые размышления по поводу кандидатской диссертации О. Е. Яковлевой «Семиотические типы прагматонимов современного русского языка (на материале номинаций продуктов питания)»
В контексте обсуждения проблемы взаимодействия русского языка с другими социальными явлениями, в пространстве которых он функционирует в современной российской ситуации, ставится вопрос о лингвомаркетологии, или маркетолингвистике, как новой научной дисциплине русистики, в которой знание маркетинга последовательно подчиняется (в детерминационно-гносеологическом смысле) языку и лингвистике, контуры которой обозначены в рецензируемой автором диссертации.
An attempt is made to discuss the problem of linguomarketology (in context of the Russian language’s interaction with other social phenomenons which serve as a background for its functioning in the modern Russian conditions), or marketolinguistics, as a new discipline of Rusistics, in which the knowledge of marketing is being subjugated (in the gnoseological sense of the word) to language and linguistics, as described in the dissertation in question.
Рецензируемая диссертация представляет собой лингвистическое описание большого номинативного массива русского языка, весьма значимого для современной российской жизни во многих ее проявлениях, в том числе и в первую очередь – коммуникативном. Этот массив образуют единицы, обозначаемые в диссертации термином «праг-матонимы» – названия продуктов питания, функционирующих как товары на современном российском рынке. Они описываются в диссертационном исследовании в различных аспектах, но центральным из них является аспект лингвопрагматический. Прагматоним трактуется как знак, в котором актуализируется прежде всего соотношение плана содержания (функционально-семантической стороны) и плана выражения (структурной стороны) при примате первого. При- чем в плане содержания акцент делается на функциональной стороне, понимаемой антропоцентрически: знак в диссертации рассматривается в отношении к человеку – адресату номинативной единицы (товарного знака), выступающему в роли потребителя товара. Таким образом, актуальность исследования обнаруживается во многих отношениях: в самом материале и его коммуникативной роли в социуме, в современном подходе к нему, в практической значимости результатов исследования.
<…> Работа не только по замыслу, но и по результатам значительно превосходит среднестатистический квалификационный уровень и может быть оценена как серьезный вклад в отечественную науку о языке в ее теоретическом и практическом аспектах: прежде всего в ономастику, а также в лингвопрагматику, когнитивную лингвистику, общее языкознание и семиотику.
Осуществленное диссертантом исследование примечательно во многих отношениях. Прежде всего, оно относится к современным исследованиям. И дело здесь не столько в новом материале, сколько в том подходе, который в работе заявлен и реализован, и в той модели языка, которая за подходом стоит. В определенном смысле по отношению к рецензируемой работе можно говорить о новой концепции языка, пока еще намечаемой, но тем более значимой. Раскрою этот тезис.
Диссертация выполнена в русле тех новейших направлений, которые рассматривают язык на стыке с другими социальными явлениями, в пространстве которых он функционирует. Таковыми стыками выступают, например, стык языка и культуры (лингво-культурология), языка и религии (фидеистическая лингвистика), языка и права (юридическая лингвистика), языка и политики (политическая лингвистика), языка и экономики (я имею в виду цикл статей Ю. Н. Караулова, в которых язык рассматривается в парадигме экономических категорий: транспорт, энергетика и т. п.) и др. В диссертации представлен стык языка и маркетинга. Термин «лингвомаркетология» в работе О. Е. Яковлевой не применяется, но контуры новой научной дисциплины в ней просматриваются. В определенном смысле такие дисциплины являются прикладными, поскольку обслуживают те или иные социальные потребности, и лингвомаркетология здесь не исключение (в диссертации прикладные возможности лингвистики в маркетинге убедительно раскрыты). Но я в данном случае имею в виду не прикладную, а теоретическую значимость самого общего порядка. Она проявляется в том, что каждая сфера функционирования, обладая существенной спецификой, дает возможность рассматривать язык в новом ракурсе и позволяет увидеть в нем то, что при имманентоцентри-ческом взгляде, как правило, не заметно. Например, лингвокультурология предлагает модель языка, в которой он выступает как система, аккумулирующая в себе культурный опыт человечества, нации, отдельного человека; фидеистическая лингвистика вскрывает сакральный потенциал языка; юрислинг-вистика ставит вопрос о языке как объекте правовой защиты или инструменте правона- рушений и т. д. В лингвомаркетологии выстраивается модель языка как участника товарно-денежных отношений, выступающего как в статусе самого товара, так и в статусе инструмента осуществления таких отношений. Происходит своеобразная «коммерциализация языка» (в противовес сакрализации в фидеистической парадигме и юридизации языка – в юридической). Известна формула товарно-денежных отношений в рыночном обществе: «Деньги-1 – Товар – Деньги-2» (где 2 – прибыль). Язык в виде товарных знаков, слоганов и т. п. очевидным и эффективным способом участвует в создании прибыли. Какие свойства языка, его отдельных элементов позволяют ему быть продаваемым и покупаемым? – вот основной вопрос лин-гвомаркетологии. Какие моменты диссертационного исследования проясняют этот вопрос? Ядерной формулой товарной модели языка, в общем виде отвечающей на него, можно считать следующую: «отношения между референтом и товарным знаком являются подчиненными отношениям между наименованием товара и его потенциальным покупателем» (с. 26 диссертации). Из этой формулы вытекают следующие производные тезисы.
-
1. В исследовании происходит переключение фокуса исследовательского внимания с классического предмета структурной лингвистики – семантики (отношение знака к означаемому и наоборот) и синтактики (отношения между знаками) на прагматику (взаимоотношения знака и человека как создателя знака и его адресата). И статус знака, и статус человека определяются в данной концепции тем обстоятельством, что они являются «элементами» товарно-денежных отношений. В первой главе диссертации прослеживается эволюция таких взглядов.
-
2. Прагматический предмет знака как «элемента» товарно-денежных отношений детерминирует семантику по принципу обратной связи. В частности, радикально меняются взаимоотношения таких компонентов содержания слова, как информативный и суггестивный. Традиционное представление о первичности информативного компонента (ранее существовал даже тезис об информативных названиях как правильно ориентирующих) явно уступает представлению о том, что именно информативный компонент подчинен суггестивному. Там, где знак – товар
(элемент товара), – там информация обслуживает потребности коммерции. Например, в рекламе, имитирующей научный дискурс, нередко приводятся факты, цифры, называются конкретные имена и рисуется история (или якобы история) создания товара, эксплуатируется сложная малопонятная терминология, но суть такой рекламы не в информации, а именно – в имитации научного стиля и эксплуатации чувства доверия к науке. Особенно значимым в этой эволюции нам представляется отмеченное в диссертации смещение фокуса прагматики в маркетинговой стратегии: от ориентации на сбыт к ориентации на реальный запрос потребителя, т. е. вопрос не в том, чтобы показать, что товар хорош или даже лучше всех по качеству, а в том, чтобы выбранный продукт удовлетворял социальные значимости потребителя: престиж, чувство собственного достоинства и т. п. (с. 17 диссертации); «от информации реклама перешла к внушению, затем к незаметному внушению, ныне же ее целью является цель управлять потреблением» (с. 36). В конкретно-исследовательском плане данная тенденция проявляется в работе в преодолении тематического принципа описания (с. 45), вытеснении его прагматическим, точно так же мотивированность справедливо трактуется в диссертационном исследовании не как отражательно-информативное качество знака, а как мотивемы и коннотемы.
Будучи принципиально современной, работа имеет диахронический контекст. Автор убедительно показывает сдвиги, происходящие и в самой предметной области исследования (прагматиконе), и в лингвистическом сознании, взаимодействующем с ним. Работа хорошо иллюстрирует взаимообусловленную природу этих сдвигов: языкового и метаязыкового. Постоянным логическим компонентом исследования является сопоставление советского периода прагматикона с периодом рыночным, советской лингвистики – с современной российской лингвистикой. Прослеживаются глубинные сдвиги во всех компонентах, в том числе функциональном (что я уже отметил выше) и когнитивном. Идеологическая устремленность советского ономастикона сменяется прагматическими установками современных имядателей, стихийное (по сути) и интуитивное имятворчес-тво трансформируется в технологическое, основанное на рекламе как науке, искусстве, высокотехнологичном ремесле. Совершенно обоснованно в работе появляется современная когнитивистская идея языковой картины мира. Система товарных знаков и слоганов, в которые они включены, с одной стороны, сама вытекает из ментально-языкового состояния социума, отражает те ценности, которые он исповедует (в противном случае, будучи чуждой духу социума, она не была бы эффективной), с другой – она их формирует, категоризует, организует видение мира и его оценку. Это влияние глобальное, мировоззренческое. Например, на наших глазах меняется прецедентика русского языкового сообщества как канал передачи ментального опыта от одного поколения другому: в речи нового поколения не используются пословицы, поговорки, крылатые выражения из классики и т. п., на их место встают слоганы, цитаты из современных поп-текстов и модных телепрограмм, интернет-слэнг и т. п. Товарный знак действительно (это первое положение, вынесенное на защиту) с периферии коммуникации перемещается в настоящее время в ее центр, вторгаясь в глубинные презумпции современного дискурса, а вслед за ним и сознания. Коммерциализация общественных отношений между людьми не может не повлиять на коммерциализацию отношений человека с языком.
Таким образом, современность рецензируемой работы заключена не столько в новом материале – этот момент тоже присутствует, но он находится на поверхностном слое работы, – сколько в способе проникновения в его сущность. В этом аспекте нужно отдать должное диссертанту: эффектность материала не отвлекла его от эффективности исследования, направленного на решение поставленных задач. Материал последовательно подчинен целям, чувствуется, что автор пережил период романтического увлечения им и смог перейти от эстетического отношения к материалу к отношению прагматическому (имею в виду научную прагматику). Этим работа О. Е. Яковлевой выгодно отличается от других подобных работ. Тем не менее нельзя не отметить богатства материала, его разнообразия и особенно креативности. Экспериментальный дух использования языкового материала доминирует в сфере его маркетитингового функционирования.
Создается ощущение, что авторы товарного имятворчества и слоганосложения «выжимают» максимум фасцинативных возможностей из языка. Можно сказать, что такое «выжимание» неуклонно переходит с поверхностных уровней языкового материала к все более глубинным. Конкуренция заставляет искать в утрачивающем свою суггестивную энергетику языковом материале все новые и новые энергетические возможности. Трудно себе представить, например, что конфеты с поверхностной мотивацией типа «Яблочные» или «Фруктовые» выдержат сейчас конкуренцию. Тут нужны уже «Фрукта-ягодка» или «Тутик-фрутик» (с. 81). В качестве характерного примера укажу на факт фасцинации, получаемой из прямо противоположных свойств знака: благозвучности, порождающей приятие знака, и неблагозвучности, порождающей эпатажное отношение к знаку (с. 63, 79 и др.). Это еще раз доказывает, что главное в современной рекламе не столько демонстрация отменного качества товара, через которое делается попытка достичь благосклонного отношения к нему потенциального покупателя, сколько привлечение к нему внимания самого по себе. На фоне такого креативного материала хорошо видно, что диссертант проникся им, легко «читает» изыски изобретательных «имиджмейкеров товаров», переводя их на строгий научно-лингвистический язык.
Еще важнее в этом плане отметить следующее. Исследование языка в новых сферах его функционирования часто приводит увлеченных исследователей к выходу за рамки собственно лингвистического предмета и перемещению его в эти новые сферы. Например, на этапе освоения «дискурсной лингвистики» появлялись работы типа «дискурс трамвая», в которых целые главы посвящались особенностям трамвая как транспорта, становлению трамвайного дела в том или ином городе и т. п. Это, конечно, перекос. Исследование О. Е. Яковлевой демонстрирует прекрасное знание внеязыковой стороны дела: маркетинга, рекламы, самих реалий, – но автор нигде не «теряет» языка как предмета его научного интереса. В этом смысле рецензируемая работа принадлежит даже не «лингво-маркетологии», а «маркетолингвистике», в которой знание маркетинга последователь- но подчиняется (в детерминационно-гно-сеологическом смысле) языку и лингвистике. Получается качественный сплав, за которым явно стоит большая накопительная и интеллектуальная работа. Как показательная частность – рецензент, много занимающийся юридической лингвистикой, не может не отметить хорошее знание и умелое применение законодательной базы маркетинговой деятельности в области товарных знаков.
Сильное впечатление на меня производит выкристаллизованный дискурс научной мыс-ле-речи диссертанта, отражающий единство маркетологического взгляда на язык и лингвистического взгляда на маркетинг (товарный знак, рекламу и пр.). Диссертация написана не просто грамотно (это поверхностная характеристика), она написана основательно, каждая фраза продиктована содержанием, исходящим из обеих детерминант: интраязыковой и экстраязыковой. Четкость формулировок, характерная для идостиля диссертанта, коррелирует с четкостью слоганов, в которых выверен каждый миллиметр звукового, графического и смыслового пространства. В научный дискурс диссертации органически вплелась «нить» теоретической работы над лингвистической литературой, как правило, хорошо освоенной диссертантом. Автору удается избежать даже такого частотного «греха» идиостиля многих диссертаций, как механистичность цитирования. Все цитаты, включенные в текст (а их немало), уместны, точны, органичны для текста. <…>
Важной особенностью рецензируемого сочинения в плане работы с литературой является хорошее сочетание в нем прежней лингвистической традиции описания подобного материала и новых идей в этой области. Автор показал хорошее знание того и другого. Заслуживает быть отмеченным уважительное отношение к исследованиям советского периода. С благодарностью отмечаю, в частности, тот факт, что диссертант «оживил» введенный в свое время рецензентом термин мотивема, который уже начал казаться ему анахронизмом. В диссертации он достойно «работает» во второй главе. Автор впитал важные исследовательские фреймы из лингвистической литературы прошлых лет, что придает его работе основательность и убедительность в теоретических построениях. Так, весьма содержательны его со- поставления товарных знаков со смежными явлениями, в ходе которых выявляется их специфика <…>.
Конкретно-исследовательская вторая глава демонстрирует умение автора систематизировать в заданном аспекте языковой материал, устанавливать количественные корреляции и умело и глубоко их интерпретировать. Глава является продолжением заявленных функционально-прагматических и антропоцентрических установок на лингвомаркетологическое описание конкретного языкового материала. Автору удалось разработать оригинальную классификацию, являющуюся творческой (на наш взгляд, вполне обоснованной) переработкой семиотической матрицы Ч. Пирса. Она базируется на двух пересекающихся параметрах: способе создания и функции знака-имени. В сущности, эти параметры можно трактовать как два типа объяснения, известных в гносеологии и детерминистике: генетического объяснения и объяснения синхронно-функционального. Характеристика имени в параметре «первичность – вторичность – прецедент-ность» является генетическим объяснением имени-знака (данный параметр тесно связан со структурным планом знака, поскольку генетическое «застывает» именно в структуре как способе выражения содержания), в параметре «иконичность – индексальность – символичность» отражаются варианты (=аспекты) функционального содержания. Каждый из семи выделенных классов получает в диссертационном сочинении богатую иллюстрацию, вариативную характеристику и сопровождается содержательной логиколингвистической интерпретацией. То обстоятельство, что параметр «способ создания» избран в качестве титульного, обусловило большую роль в диссертации структурной типологии материала, в которой автор проявил скрупулезность и тонкость <…>. Было бы, однако, несправедливым квалифицировать эту главу как сугубо классификационноописательную. Она весьма значима и в теоретико-методологическом плане. Так, вполне содержательна характеристика прагматони-мов индексального вторичного типа (раздел 2.2), в которой вскрывается природа появления символического смысла у вторичных имен и, напротив, его утрата в результате де-онимизации (пиво «Жигулевское», «Клин-ское»). Диахронические и функциональные штудии в этой главе еще раз подчеркивают глубокую проработку диссертантом материала, его исследовательское внимание к каждому отдельному слову-знаку <…>.
В начале отзыва я отметил, что работа содержит потенциал новой концепции языка, которая оказалась в общих чертах очерченной, но не в полной мере реализованной, развернутой. Мы видим причину этого еще и в том, что во главу угла не были поставлены такие важные компоненты исследовательской логики, как проблема и гипотеза . Их отсутствие повлияло и на соотношение экстенсивных и интенсивных тенденций в работе, в которой в ряде случаев перевешивают первые. В частности, описательность проявляется в классификационных построениях, которым хотелось бы иногда придать большую иерархичность, «выведенность» классов из исходных постулатов исследования (в том числе и в первую очередь из гипотезы и логики ее обоснования). Один пример: функции прагматонимов (раздел 1.3.2) даются перечислительно, при этом в общем ряду, через запятую, перечисляется коммуникативная функция, хотя она должна бы «возвышаться» над всеми другими, выводимыми из нее. Весьма желательно, чтобы они образовывали не перечень, а структуру, а сама эта структура включалась бы в структуру более высокого порядка и т. д.
Включение исследования в когнитивную и культурологическую парадигму предполагало, на наш взгляд, обращение к продуктивному в современной лингвистике понятию концепта. Так или иначе имплицитно это понятие присутствовало в тексте диссертации, в отдельных случаях оно достигло уровня высоких обобщений (например, в ярком пассаже о культурологической национальной символике в номинации водочных изделий, с. 166), но думается, что весьма обещающим в научном плане была бы систематическая реализация этого понятия на всем протяжении исследования, начиная с Введения. Тем более, что тенденция к переходу от семантики понятийного типа к концептной семантике в товарных знаках присутствует явно и много объясняет в маркетологическом функционировании языка.
Нечто подобное можно сказать и о лингвоперсонологическом аспекте, возникающем в диссертации в связи с гендерными особенностями функционирования товар- ных знаков и слоганов. Мы полагаем, что проявления типов языковой личности в их отношении к воздействию словом, которое также носит системный и регулярный характер, могло бы стать в диссертации важным системообразующим параметром. Во всяком случае противопоставление манипуляторов и манипулируемых личностей (Р. Шостом), личностей, склонных к внушению через слово, и не подверженных такому типу суггестии, языковых скептиков и языковых романтиков и даже «просто» противопоставление логических и художественных типов языковой личности явно усилило бы функциональную модель описания товарных знаков. Но наверняка это далеко не единственные релевантные для них оппозиции.
В число конструктивных пожеланий включу также пожелание использовать материал лингвистических экспертиз товарных знаков и слоганов. Коммерциализация языка, становящегося в определенной мере то- варом, предметом собственности, а вслед за этим и объектом права, призванного регулировать таковые отношения, порождает появление закона о товарных знаках, достаточно сложного и одновременно «активного» в современном обществе, частые конфликты в области авторского права формируют потребность в лингвистической экспертизе – и это тоже весьма стимулирует глубинную проработку лингвомаркетологических аспектов языка. На наш взгляд, в число практических значимостей работы можно включить и возможность использования результатов исследования в лингво-экспертологической практике, поскольку они дают для нее важные презумпции для оценки неоднозначных словесных товарных знаков с точки зрения создания и функционирования в сознании потребителей. Этому предложению способствует тот факт, что сам автор участвовал в экспертной деятельности такого рода <…>.