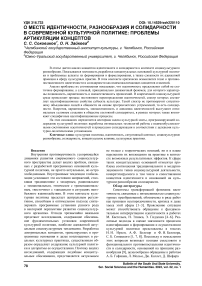О месте идентичности, разнообразия и солидарности в современной культурной политике: проблемы артикуляции концептов
Автор: Соковиков Сергей Степанович, Зайкова Ольга Николаевна
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ концептов идентичности и солидарности в контексте социокультурного разнообразия. Показывается значимость разработки концептуальных оснований культурной политики и проблемные аспекты их формирования и формулирования, а также сложности их адекватной проекции в сферу культурных практик. В этом контексте критически осмысляется тезис о противопоставленности идентичности и солидарности как взаимоисключающих концептов и явлений. Анализ проблемы их соотношения показывает, что идентичность представляет собой не статичное формирование, а сложный, принципиально динамичный феномен, для которого характерны подвижность, вариативность и множественность проявлений. В современной социокультурной среде происходит процесс постоянного переопределения идентичностей, спектр которых составляет идентификационные свойства субъекта культуры. Такой спектр не противоречит ситуативному объединению людей в общности на основе прогрессистских устремлений, то есть солидарности. Напротив, вариативность, множественность и динамика идентичностей выступают оптимальным условием создания в обществе состояний солидаритета, в рамках которых также возникают специфичные идентификационные процессы. На этих основаниях определяется векторная задача культурной элиты, программирующей содержание культурной политики: выработка оптимальных технологий работы с взаимообусловленными состояниями идентичностей и процессами солидаризации в соответствии с целевыми культурно-политическими установками.
Культурная политика, идентичность, ситуативный контекст, социокультурное разнообразие, солидарность, концептуальное влияние, культурные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/147236590
IDR: 147236590 | УДК: 316.733 | DOI: 10.14529/ssh220110
Текст научной статьи О месте идентичности, разнообразия и солидарности в современной культурной политике: проблемы артикуляции концептов
Внутренняя противоречивость ускоряющейся динамики развития современного социокультурного пространства делает анализ проблем, связанных с разработкой программных оснований культурной политики, не просто актуальным, но остро злободневным. Неустранимые тенденции глобализации усиливают эти состояния напряжений, сталкивая традиционное с модерным, рациональное с эмоциональным, этническое с транснациональным, «восточное» с «западным» в ситуациях неизбежного взаимодействия. В этом контексте культурная политика предстает центральным регуля-тивом, способным в оптимальном подходе синтезировать программные установки разного рода в векторной перспективе развития социокультурного организма. Отсюда чрезвычайно важными предстают исследования, содержащие обоснование фундаментальных установок современной культурной политики, наиболее адекватной актуальным социокультурным тенденциям. Разработка доктринальных концептов, транслируемых в программные основания и далее воплощаемых в реальных культурных практиках, существенным образом определяет содержание культурной политики и алгоритмы ее осуществления. Поэтому анализ исследований, содержащих подобные концептуальные обоснования, представляется актуальным не только с теоретических позиций, но и в плане перспектив их воплощения на практике в контексте возможных результативных эффектов. К сфере таких концептуальных оснований относится проблема соотношения традиционального и модернизационного типов социокультурной деятельности, конкретизируемого в том числе в сопоставлении концептов идентичности и основанной на культурном разнообразии солидарности.
Обзор литературы
Симптомы трансформаций феномена идентичности, связанные с интенсивностью социокультурных преобразований, обозначены в ряде работ как признаки неупорядоченности, кризиса и даже хаоса этой сферы [1–3]. Прояснению ситуации может способствовать обращение к фундаментальным интерпретациям идентичности в работах М. Кастельса, Н. Элиаса, Э. Гидденса [4–6]. Различные подходы в оценке значимости процессов идентификации в формировании и осуществлении культурной политики представлены в текстах И. И. Ирхен, А. Ф. Белозор и Ф. И. Белозора, С. Б. Синецкого [1, 7, 8]. Поскольку в осмыслении этих вопросов возникает позиция смыслового и функционального противопоставления идентичности и солидарности, основанной на принципе разнообразия [9], целесообразно обращение к работам А. Б. Гофмана, Л. Мольм, Дж. Коллет, Д. Шефера
[10, 11], в которых даются основательные интерпретации социокультурных смыслов явления солидарности. Особый интерес представляют методологические разработки А. Я. Флиера, в которых представлено соотношение концептов идентичности и солидарности, а также воплощение этого в реальных социокультурных практиках [12, 13]. Более полному уяснению этого вопроса способствуют тексты Е. В. Дзякович, А. В. Рязанова, И. С. Семененко, показывающие различные аспекты взаимокорреляции идентичности и солидарности в общесоциальном контексте [14, 15]. В работах З. Баумана и Н. И. Мигунова представлены актуальные процессы, определяющие динамичное ускорение социокультурного развития и порождающие в том числе своеобразный «культ новизны», создавая контекстные обстоятельства для проявления идентичности и солидарности [16, 17]. Эти обстоятельства определяют особые состояния идентичности, которые исследователи обозначают как мультикультурная идентичность [18], плавающие идентичности [2], ситуационная идентичность [19, 20], множественность идентичностей [3]. Доктринальное значение основных концептов культурной политики и вместе с тем сложность их корректного использования показана в материалах британского исследователя Э. Бельфиоре [21].
Методы исследования
Для определения содержательного поля анализируемых концептов использовались понятийносмысловые аспекты терминологического анализа. В силу необходимости установления деятельностной направленности явлений, обозначаемых представленными концептами, применялся функциональный анализ. Учет динамики исторической трансформации этих явлений определил обращение к элементам культурно-типологического подхода. Верификация вырабатываемых теоретических положений происходила посредством обращения к материалам экспериментальных исследований, связанных с проблематикой темы.
Результаты и дискуссия
Актуальность проблем, связанных с современными состояниями идентичности (вплоть до утверждений о ее глубоком кризисе), а также специфичными аспектами взаимосвязи идентичности с принципами социокультурного разнообразия и процессами солидаризации в современном мире, порождает самые различные интерпретации. Остроту проблем усиливает неизбежность учета этих состояний в разработке стратегических направлений перспективного развития культурной политики. В этом смысле значительный интерес представляет методологическая позиция докторов культурологии С. Б. Синецкого и М. Л. Шуб, изложенная в статье «Культурная политика в контексте противоречий разнообразия и идентичности», опубликованной в «Вестнике культуры и искусств» Челябинского государственного ин- ститута культуры. Авторы известны как специалисты, глубоко и плодотворно исследующие проблематику культурной политики. Достаточно назвать такие фундаментальные тексты, как «Культурная политика XXI века: от прецедента истории – к проекту будущего» С. Б. Синецкого [8], коллективная монография «Ориентиры культурной политики XXI века: актуальные исследовательские тренды» [22]. В новой работе авторы обращаются к глобальной проблеме культуры, которая представляется как объективное противоречие между базисными феноменами идентичности и разнообразия как «…конкурирующими пара-дигмальными векторами актуальных состояний культуры и ее будущего» [9, с. 76].
Хотя в тексте С. Б. Синецкого и М. Л. Шуб упоминается диалектическое единство разнообразия и идентичности, вместе с тем настойчиво подчеркивается их, по сути, взаимоисключающий характер, порождая принципиальный вопрос: «Какая парадигма больше соответствует современному контексту: основанная на укреплении идентичности либо стимулирующая разнообразие?» (выделено нами. – С. С., О. З .) [9, с. 76]. Продолжая эту логику, авторы принципиально разделяют социокультурные системы на те, которые ориентированы на «якорные» эталоны прошлого, монокультурность и статичность, и иные – направленные на модернизацию, перспективу, полистилистич-ность и динамику. Исходя из этого, «…иден-тичность в контексте культуры “отвечает” за прошлое, привычное, стабильное; разнообразие, наоборот, – за будущее, новое, изменчивое» [9, с. 79]. Связывая разнообразие прежде всего с принципом индивидуальной свободы в самопо-зиционировании и творчестве, авторы приходят к выводу: «…культурная политика, направленная на поддержание идентичности как стремления к некоему эталону, входит в противоречие с объективными тенденциями социально-экономического развития наиболее развитых обществ. Культурная политика, стимулирующая разнообразие, таким тенденциям соответствует» [9, с. 80]. В этом суждении вновь подчеркивается кардинальное различие между идентичностью и разнообразием . Стоит кратко отметить, что соблюдение и поддержание в обществе принципов индивидуальной свободы, и тем более деятельность по их реальному обеспечению, в свою очередь требует идентификации с этой позицией различных социокультурных акторов – от института или общности до личности. Другое дело, что не стоит сводить идентичность исключительно к архаически статичным (общинным, корпоративно-цеховым, кастовым и пр.) ее проявлениям.
Вместе с тем С. Б. Синецкий и М. Л. Шуб полагают, что неверно использовать характеристику идентичность применительно к консолидации социумов, ориентирующихся на развитие разнооб- разия. С их точки зрения, в данном случае более адекватным является концепт солидарность: «Разное не может быть идентичным, но может солидаризоваться по тем или иным основаниям» [9, с. 80]. При этом авторы апеллируют к тезису А. Я. Флиера о векторе движения человечества к своего рода «культурному коммунизму», отличающемуся устойчивым культурным многообразием и равноправием [12, с. 120]. В этом смысле аргументация авторов не представляется исчерпывающе убедительной. Вряд ли предлагаемую замену «идентичности» на «солидарность» можно полагать корректной. Неслучайно в высказывании А. Я. Флиера акцент делается в том числе на состояниях устойчивости общества. В каждом «разном» в ходе взаимодействия входящих в его поле людей неизбежно формируется соответствующий тип идентичности. Кроме того, солидаризироваться способны носители разных идентичностей, если их объединяет решение задач, выходящих по значимости за пределы отдельных «разнообразий». Стоит отметить, что А. Я. Флиер, на позиции которого не раз ссылаются С. Б. Синецкий и М. Л. Шуб, использует солидарность и идентичность (в том числе - в цитируемой ими работе) как устойчивое словосочетание, обозначающее определенную целостность в их реальных проявлениях. Согласно этому, «…солидарность и идентичность являлись “двумя сторонами одной медали” социального самоощущения и самовыражения людей», представляя два аспекта “рассмотрения единой проблемы”» [12, с. 117]. Именно специфичные варианты сочетания солидарности и идентичности А. Я. Флиер определяет как «доминантные идентичности», присущие культурам разных эпох, включая современную [12, с. 110]. Более того, анализируя новые доминантные идентичности постиндустриальной эпохи, он в то же время подчеркивает, что «…еще далеко не исчерпали себя основания для солидарности, характерные для индустриальной эпохи - национальное, классовое, профессионально-отраслевое» [12, с. 117]. Что же касается солидарности, то А. Я. Флиер видит ее как всякую устойчиво воспроизводимую систему общественного порядка с соответствующими ей основаниями социокультурной идентичности человека [13, с. 99]. Таким образом, идентичность (на базе общности) и солидарность (на основе разнообразия) выступают по отношению к системе социокультурной деятельности как смысловая и функциональная целостность, не предполагающая замены одного другим. Хотя они различным образом соотносятся в тех или иных социокультурных ситуациях, однако представляют взаимодополняемые аспекты этой целостности.
Важно понимать, что позиция С. Б. Синецкого и М. Л. Шуб не сводится к терминологическим и понятийным изысканиям. Основной пафос статьи направлен на утверждение разнообразия и со- лидарности как основ оптимальной культурной политики, ориентированной на инновационный тип культуры и адекватной современным вызовам [9, с. 81]. При этом культурная политика с ориентацией на идентичность, по мысли авторов, обречена на закрытость, обособленность от внешней среды, консервативность, низкую способность к изменениям, воспроизводство монокультурности и сакрализацию традиции [9, с. 79, 81].
Однако стоит обратить внимание на то, что в современном модернизирующемся обществе интенция к модернизации парадоксальным образом превращается в своего рода традицию - устойчивый тип социокультурных механизмов, направленных на воспроизводство ситуаций перманентного обновления, порождая в том числе своеобразный «культ новаций». С одной стороны, Зигмунд Бауман обращает внимание на самоценность новшеств: «Сегодня приносит прибыль именно ошеломляющая скорость обращения, рециркуляции, старения, демпинга и замены, а не прочность и длительная надежность изделия» [16, с. 20]. С другой, - по точной мысли Н. И. Мигунова, модернизация порождает «…культ новизны с акцентом на слове “культ” (своего рода инновационный фетишизм). Он представляет собой разновидность производственно-технологического (хозяйственного) и исторического оптимизма, и в его основании лежит неартикулированная вера в то, что улучшение есть самоцель, что оно уже само по себе “хорошо”, благо» [17, с. 25–26]. Причем Н. И. Мигунов высказывает это суждение в контексте анализа социокультурной политики современного Китая, демонстрирующего эффективность развития именно на основе цивилизационного синтеза констант традиционализма и модернизационности [17, с. 34]. Таким образом, указанные константы отнюдь не являют собой категорически взаимоисключающие основания.
В этом смысле фундаментально значимой представляется мысль социолога Норберта Элиаса об органичном сочетании в идентичности индивидуально-особого и социально-общего начал: «…идентичность представляет собой ответ на вопрос о том, кем является человек, причем и как социальное, и как индивидуальное существо» [5, р. 246]; при этом Н. Элиас подчеркивает преобладание в современности именно «Я-иден-тичности» самостоятельного самоопределяющегося индивида. Целесообразно задаться вопросами: так ли уж противоположны идентичность и разнообразие ? Действительно ли элиты, ориентированные в культурной политике на «производство» идентичности, непременно обрекают общество на утрату автономности и аутентичности, некритичное сближение разных социальных субъектов до уровня нивелирования и уменьшение новационного потенциала [9, с. 81]?
Это вопросы далеко не праздные и не отвлеченно-теоретические. То, что доминантные векторы культурной политики определяются и артикулируются элитой, вряд ли может вызвать сомнение. А. Я. Флиер справедливо подчеркивает: «…адекватное понимание наиболее сущностных типологических признаков и черт той культурноценностной системы, которая реально доминирует в обществе, заказывается правящей элитой и должна реализовываться в социальной практике» [13, с. 98]. Обратим внимание: для формирования верных направлений культурной политики правящая элита должна иметь адекватное понимание сущностных культурно-ценностных «признаков и черт». Это происходит в том числе посредством выработки ключевых концептов, определяющих в конечном счете конкретное содержание «культурно-политической» деятельности. В этом поле возникает проблема, обозначенная, в частности, британским исследователем культурных коммуникаций Элеонорой Бельфиоре. Анализируя конкретные ситуации осуществления культурной политики, она показала, что исследователи, обладая концептуальным и дискурсивным влиянием, могут играть ключевую роль в распространении результатов своих изысканий. В то же время непонимание или неправильная интерпретация этих материалов «…влиятельными пользователями исследований» приводят к негативным последствиям в культурных практиках, которые ученые уже не в состоянии предотвратить или исправить [21, p. 207, 212–213]. В таком контексте тем более важным становится как можно более точная артикуляция доктринальных концептов, предлагаемых в основание культурной политики.
В этом смысле толкование соотношения идентичности, разнообразия и солидарности, представленное С. Б. Синецким и М. Л. Шуб, может быть несколько уточнено. Прежде всего, это относится к пониманию идентичности как сугубо традиционального явления, которому, по мнению этих авторов, присущи: культурное воспроизводство, квазиэволюционный темпоритм изменений, низкая способность к инновациям, закрытость и обособленность, сакральное отношение к традиции, консерватизм мировоззрения [9, с. 78–79]. Эти черты, несомненно, присущи традиционным обществам прошлого и отчасти некоторым регионам современного мира, в меньшей мере включенным в модернизационные процессы. Однако в современности преобладающей является иная ситуация. Идентичность представляет собой сложное динамичное явление, в котором даже базовые уровни подвергаются диффузии [1, с. 11] и для которого характерны подвижность, вариативность и множественность. Идентичность не существует как застывший конструкт, она осуществляется в процессах постоянного формирования и реформирования, определяемых «калейдо- скопом» социокультурных ситуаций, в которых оказывается современный человек. На динамичную, ситуативную вариативность идентичности обращает внимание Энтони Гидденс, подчеркивая связь ее трансформаций и с событийной канвой повседневной жизни, и с тенденциями развития современных институтов [6, р. 87]. Неслучайно она определяется исследователями как мульти-культурная идентичность [18], плавающие идентичности [2], ситуационная идентичность [19, 20], множественная идентичность [3].
Словенский исследователь Тадей Прапротник отмечает, что истинная сущность идентичностей заключается в их перманентном извилистом переопределении, так как люди постоянно пытаются разделить себя и других на группы; эти группы и идентичности изменяются во времени, пространстве и культуре [2, р. 134–135]. Ситуация усложняется в силу того, что социокультурных механизмов, влияющих на формирование и трансформацию идентичностей, становится все больше [2, р. 134]. Мануэль Кастельс, например, основываясь на идеях А. Турена, указывает три основных источника, а исходя из этого и типа идентичности: легитимирующей, транслирующейся правящей элитой для укрепления своего доминирования; протестной, демонстрирующей импульсы сопротивления со стороны ущемленных общностей; проективной, формируемой субъектами процессов преобразования социально-ценностной структуры на новых основаниях, но с учетом ценностей традиционной культуры [4, p. 6]. Несложно заметить, что уже эти схематично очерченные источники образуют поля напряжения и активные взаимодействия, порождающие разнообразные случаи идентичности. Даже в интернет-пространстве, где предъявление подлинной идентичности пользователя не обязательно, неизбежно образуются сообщества, в которых возникает широчайший спектр пусть иллюзорно-игровых, но вполне действующих идентичностей. К тому же, по словам Т. Пра-протника, такие явления следует «…рассматривать больше как элемент или расширение реальной культуры, а не как абсолютную альтернативу ей» [2, р. 144].
Разумеется, в реальном социокультурном пространстве подобная «игра идентичностей» развертывается гораздо более масштабно и динамично. В результате конкретных исследований американские ученые Татьяна Рютов и Клиффорд Нойман пришли к следующим выводам: человек конструирует и представляет любую из множества возможных социальных идентичностей в зависимости от контекста ситуации; в реальном мире люди легко переключаются между разными ситуативными идентичностями [20]. Причем интенсивность подобных переключений проявляется даже на коммуникативном микроуровне: анализ микрокоммуникаций показывает «…смену нескольких идентичностей одной личности в зависимости от развития конкретной беседы или интеракции», что «охватывается термином “ситуативная идентичность”» [19, с. 16]. Последнее определение, на наш взгляд, является в функциональносмысловом значении по отношению к современной идентичности наиболее точным и полным, вбирая вышеозначенные характеристики «мультикультур-ная», «плавающая», «множественная», а также «транскультурная», в качестве контекстуально обусловленных аспектов более конкретных ситуаций.
Таким образом, вариативный спектр проявлений идентичности отнюдь не противоречит принципу разнообразия и основанной на нем солидарности. Группа американских социологов во главе с Линдой Мольм на основе экспериментальных исследований пришла к определению солидарности как интегративных связей, которые развиваются между людьми, а также между людьми и социальными объединениями, к которым они принадлежат [11, р. 207]. Ясно, что такие интегративные связи возникают между различными субъектами - носителями разных идентичностей: принадлежать объединению без идентификации с ним невозможно. Более того, возникновение солидарных отношений объективно образует некую новую целостность, которая в свою очередь предполагает формирование новой идентичности. Это отчетливо утверждает отечественный социолог А. Б. Гофман: при любых трактовках солидарность включает взаимодополнительность и общность интересов индивидов, групп, обществ; взаимную симпатию, сопереживание социальных акторов; их приверженность одним и тем же нормам и ценностям и, что важно в контексте нашей темы, их общую социальную (групповую) идентичность [10, с. 173]. В то же время о возможности солидарного творчества и солидарного взаимодействия между сообществами и индивидами как носителями разных убеждений и идентичностей говорит доктор политических наук И. С. Семененко [15, с. 14]. С одной стороны, это свидетельствует о функциональном единстве идентичности и солидарности, с другой -заставляет уточнить их соотношение.
В этом вопросе также нет единодушия мнений. Так, доктор социологических наук А. Р. Тузиков видит во множественности современных идентичностей ломку их традиционных параметров, ведущую к негативной хаотизации и разрушительным для общества последствиям, не имеющим ничего общего с понятием «прогресс» [3, с. 47]. В такой оптике говорить о подлинной солидарности нет оснований, однако трудно согласиться с подобной излишне категоричной оценкой «множественной идентичности» - некоторые крайности ее проявлений не снимают весомого позитивного потенциала. Интерпретируя соотношение солидарности и идентичности, доктор культурологии Е. В. Дзякович и доктор философ- ских наук А. В. Рязанов полагают, что в нынешних условиях формирование солидарностей происходит в основном искусственно, «…с помощью профессионального управления коммуникативными потоками и контроля над средствами массовой коммуникации», в то время как идентичность «…в основе своей имеет глубинные культурно-исторические корни, трансформировать которые с помощью искусственного социального конструирования значительно сложнее» [14, с. 60]. Нет оснований сомневаться в реальном наличии означенных авторами ситуаций, однако представляется неправомерным сведение сущности и соотношения идентичности и солидарности только к ним. Есть множество ситуаций совершенно иного рода: спонтанного возникновения солидарных сообществ; ситуативного формирования новых идентичностей различных масштабов и характера. Вместе с тем, в позиции Е. В. Дзякович и А. В. Рязанова можно усмотреть основания для некоторых опасений, прозвучавших в статье С. Б. Синецкого и М. Л. Шуб. Речь об акцентировании в явлении идентичности именно традиционных черт, основанных на приоритете ценностей и паттернов прошлого.
Действительно, в работах современных исследователей нередки призывы «не разбрасываться» накопленным опытом сплочения нации на основании лояльности к Конституции и приверженности традиционным базовым ценностям и государству [1, с. 12], строить культурную политику на обращении к истории как объединяющему началу государства, сохранении памяти предков, вере в Бога, почитании памяти и защиты исторической правды [7, с. 174]. Совершенно невозможно усомниться в принципиальной значимости названных оснований для культурной политики. Однако столь же определенно следует обозначить невозможность ограничиться только ими. В то же время было бы крайностью видеть эту ситуацию как дихотомию «или - или»: или идентичность, и тогда - консерватизм, воспроизводство, застой и монокультурность, или солидарность, означающая разнообразие, прогресс и процветание. Солидарность также не есть панацея, - по меткому замечанию А. Б. Гофмана, «...хорошо известно - солидарность с кем-то и за что-то слишком часто означает одновременно солидарность против кого-то и чего-то. Соединяя с одними, она разъединяет с другими, вызывая или усиливая враждебность к тем, кто по каким-то причинам не оказывается объектом или участником процесса данной конкретной солидаризации» [10, с. 179–180]. К сожалению, современный мир дает слишком много примеров солидарности подобного типа. Обобщая изложенное выше, можно сделать следующий вывод: перед элитами, формирующими повестку культурной политики стоит не выбор между идентичностью и солидарностью, а задача по «солидаризации идентичностей» и «идентификации солидарностей» в силу их органической общности. Предельно упрощенно можно обозначить следующее: разнообразие идентичностей дает богатейшие основания для формирования различных и действенных солидарностей. В свою очередь, ситуация солидарного взаимодействия предполагает объединение носителей разных идентичностей и выработку общих идентифицирующих оснований.
Выводы
Таким образом, можно констатировать, что дихотомическое разделение идентичности и солидарности как противостоящих концептов культурной политики не соответствует их реальной непротиворечивой взаимосвязанности. Они представляют два аспекта единого процесса социокультурной деятельности: идентичность как понимание и переживание принадлежности к определенной общности; солидарность как единение людей в векторе общей целевой направленности. Такое понимание процесса соучастного действия идентификации и солидаризации позволяет, во-первых, более осознанно учитывать перипетии взаимодействия этих аспектов и, во-вторых, целенаправленно использовать их позитивный потенциал. «Сшивает» эти аспекты в целостность сочетание ситуативной динамики идентичностей и разнообразие вариантов солидарностей. Сложнейшей задачей творцов культурной политики является выработка технологий, способных обеспечить оптимальный режим регулирования этих процессов и получение эффективных результатов в достижении целей культурной политики.
Список литературы О месте идентичности, разнообразия и солидарности в современной культурной политике: проблемы артикуляции концептов
- Ирхен, И. И. Нарративы культурной политики в современном обществе I И. И. Ирхен II Культура и образование. - 2019. - № 4 (35). - С. 5-14.
- Praprotnik, T. Free-floating Identities: Social Pain or Social Gain? / T. Praprotnik // Innovative Issues and Approaches in Social Science. - 2014. -№ 7 (3). - P. 132-147.
- Тузиков, А. Р. Идентичность социальных групп и идеология: концептуализация и конфигурирование I А. Р. Тузиков II Гуманитарий Юга России. - 2016. - Т. 18, № 2. - С. 45-51.
- Castells, M. The Power of Identity / M. Cas-tells // The Information Age: Economy, Society and Culture. - 2nd ed. - Vol. 2. - Oxford, U.K. ; Malden, Mass. : Blackwell Publishing, 2004. - xxii, 537 р.
- Elias, N. Die Gesellschaft der Individuen / Hrsg. von M. Schröter. - Frankfurt am Main: Suhr-kamp, 2003. - 338 p.
- Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age / A. Giddens. -Cambridge : Polity Press, 2013. - 264 р.
- Белозор, А. Ф. Культурная политика Российской Федерации в условиях современных вызовов I А. Ф. Белозор, Ф. И. Белозор II Государственное муниципальное управление. Ученые записки. - 2021. - № 2. - С. 168-177.
- Синецкий, С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего : монография / С. Б. Синецкий. - Челябинск : Энциклопедия, 2011. - 288 с.
- Синецкий, С. Б. Культурная политика в контексте противоречий разнообразия и идентичности / С. Б. Синецкий, М. Л. Шуб // Вестник культуры и искусств. - 2021. - № 3 (67). - С. 75-84.
- Гофман, А. Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции / А. Б. Гофман // Традиция, солидарность и социологическая теория : избранные тексты. - М. : Новый Хронограф, 2015. - С. 160-248.
- Molm, L. D. Building solidarity through generalized exchange: A theory of reciprocity / L. D. Molm, L.D., J. L. Collet, D. R. Schaefer // American Journal of sociology. - Chicago (IL), 2007. - Vol. 113, № 1. - P. 205-242.
- Флиер, А. Я. История культуры как смена доминантных типов идентичности / А. Я. Флиер // Личность. Культура. Общество. - 2012. - Т. XIV, Вып. 1 (№ 69-70). - С. 108-122.
- Флиер, А. Я. Культурология для культурологов / А. Я. Флиер. - М. : Согласие, 2015. - 672 с.
- Дзякович Е. В. Идентичность и солидарность в контексте конструктивистского анализа / Е. В. Дзякович, А. В. Рязанов // Вестник МГУКИ. - 2017. - № 5 (79). - С. 54-61.
- Семененко, И. С. Горизонты ответственного развития: от научного дискурса к политическому управлению / И. С. Семененко // Полис. Политические исследования. - 2019. - № 3. - С. 7-26.
- Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман ; пер. с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. -СПб. : Питер, 2008. - 240 с.
- Мигунов, Н. И. О специфике трансформационных процессов китайской цивилизации / Н. И. Мигунов // Философские науки. - 2012. - № 2. - С. 24-35.
- Спирина, Е. А. К проблеме сохранения культурной идентичности в эпоху глобализации / Е. А. Спирина // Универсальное и национальное в культуре : сборник научных статей. - Минск : БГУ, 2012. - С. 117-125.
- Чернобровкина, Е. П. Дискурс и идентичность / Е. П. Чернобровкина // Вестник БГУ. Философия. - 2018. - № 2-2. С. 14-18.
- Ryutov, T. Situational Identity: a Person-centered Identity Management Approach / T. Ryutov, C. Neuman // USC ISI Technical report ISI-TR-630. Information Sciences Institute University of Southern California. - URL: https://docplayer.net/1388265-Situational-identity-a-person-centered-identity-mana-gement-approach.html.
- Belfiore, E. Cultural policy research in the real world: curating «impact», facilitating «enlightenment» / E. Belfore // Cultural Trends. - 2016. -Vol. 25, № 3. - P. 205-216.
- Ориентиры культурной политики XXI века: актуальные исследовательские тренды : коллективная монография / Л. Б. Зубанова и др. - Челябинск : ЧГИК, 2019. - 173 с.