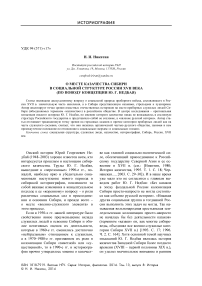О месте казачества Сибири в социальной структуре России XVII века (по поводу концепции Ю. Г. Недбая)
Автор: Никитин Николай Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дискуссионному вопросу о социальной природе приборного войска, составлявшего в России XVII в. значительную часть населения, а в Сибири представленную казаками, стрельцами и пушкарями. Автор анализирует точки зрения известных отечественных историков на место приборных служилых людей Сибири (объединяемых термином «казачество») в российском обществе. В центре исследования - оригинальная концепция омского историка Ю. Г. Недбая, по мнению которого казачество никак не вписывалось в сословную структуру Российского государства и представляло собой не сословие, а «явление русской истории». Автор статьи отстаивает традиционную точку зрения на городовых казаков и прочие категории приборных людей как на часть служилого сословия, считает, что они являлись органической частью русского общества, занимая в нем промежуточное положение по отношению к социальным «верхам» и социальным «низам».
Социальная структура, служилые люди, казачество, историография, сибирь, Россия, xvii век
Короткий адрес: https://sciup.org/147219163
IDR: 147219163 | УДК: 94
Текст научной статьи О месте казачества Сибири в социальной структуре России XVII века (по поводу концепции Ю. Г. Недбая)
Омский историк Юрий Георгиевич Не-дбай (1948–2003) хорошо известен всем, кто интересуется прошлым и настоящим сибирского казачества. Труды Ю. Г. Недбая, вышедшие в «переломные» 1990-е гг., пожалуй, наиболее ярко и убедительно ознаменовали наступление нового периода в сибирской историографии, повлекшего за собой важные изменения в концептуальном подходе к ее «коренному» вопросу – о роли различных социальных сил в присоединении и освоении Сибири, и прежде всего – о месте «военно-служилого элемента» в этом процессе.
Если в 1950-х гг. нашей литературе было свойственно явное преуменьшение вклада служилых людей в освоение Сибири и обилие негативных оценок их деятельности, которые в 1960-е гг. сменились достаточно «нейтральным» отношением к служилым, а в 1970–1980-е гг. признанием их роли в колонизации Сибири «заметной» или «существенной», то в 1990-е гг. в историографии прочно утвердилось мнение о казачест- ве как главной социально-политической силе, обеспечившей присоединение к Российскому государству Северной Азии и ее освоение в XVII в. (см.: [Никитин, 1980; История казачества, 1995. Т. 1. С. 18; Чер-навская…, 2003. С. 29–30]). И в наше время уже мало кто не согласится с главным выводом работ Ю. Г. Недбая: «Без казаков в эпоху феодальной России колонизация Сибири просто-напросто не могла состояться как событие русской истории». «Никакая другая социальная группа в тогдашней России выполнить этих задач не могла. Так называемая вольнонародная крестьянская земледельческая колонизация просто-напросто не началась бы без деятельности казаков» (термином «казаки» он, как многие сибире-веды, объединял все военно-служилые категории Сибири XVII в.) [1993. С. 17; 1996. Ч. 2. С. 164]. Хотя основной темой научных изысканий Ю. Г. Недбая являлась история казачества Западной Сибири более позднего времени (XVIII – первой половины XIX в.), он уделял значительное внимание и ранним
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 8: История © Н. И. Никитин, 2014
периодам казачьей истории, продемонстрировав при этом достаточно глубокое знание изучаемого предмета, недюжинную работоспособность и яркий исследовательский талант.
Рассматривая с привлечением широкого круга разнообразных источников и литературы практически весь круг проблем, связанных с изучением сибирского казачества, Ю. Г. Недбай дал свое видение его истории. По большей части поднимаемых вопросов позиция ученого выглядит вполне убедительно. Например, с ним нельзя не согласиться в том, что многие исследователи сильно сгущали краски, описывая «тяжелое положение» и «голодное существование» казаков. По мнению Недбая, «существовал предел их материального положения, опуститься ниже которого правительство не могло позволить, ибо теряло служилого человека…» [1993. С. 17]. Однако есть в его работах и такие положения, которые не поддаются однозначным оценкам и касаются главным образом вопроса о месте казачества в социальной структуре российского общества. В силу своей важности они выходят далеко за рамки «частного интереса» к творческому наследию ученого и, полагаю, заслуживают особого внимания исследователей. Но сначала немного об историографии вопроса.
Прежде всего, надо отметить то печальное обстоятельство, что авторам ряда работ, касающихся русской колонизации Сибири, присущи весьма смутные представления о сибирском казачестве как таковом, да и о казачестве XVII в. в целом. Им, в частности, свойственно непонимание различий между казаками городовыми , служившими на территории Московского государства «по стрелецкому уряду», и казаками вольными , жившими фактически независимыми самоуправляемыми общинами на Дону, Яике и Тереке и служившими «великому государю» эпизодически на сугубо добровольной основе. Кроме того, некоторые сибиреведы разделяют широко распространенное в околонаучных кругах мнение, что казаки – это вообще-то «особый этнос», не имеющий ничего общего с русским народом, и этим объясняют особое положение казачества в российском обществе.
К таким подходам восходит, в частности, точка зрения Л. Н. Гумилева на происхождение и социальный статус сибирского ка- зачества. Как писал автор знаменитого труда «Этногенез и биосфера Земли», «в XIV в. потомки обрусевших хазар сменили русское название “бродники” на тюркское “казаки”. В XV–XVI вв. они стали грозой степных ногаев и, перенеся войну в Сибирь, добили их последнего хана Кучума. Получив подкрепление от московского правительства, они за один век прошли Сибирь до Тихого океана. Нуждаясь в пополнении, они охотно принимали в свои отряды великороссов, но всегда отличали их от себя. Всех вместе их принято называть землепроходцами» [1990. С. 289].
Оставим за скобками те ошибки и фантазии уважаемого ученого, которые не имеют прямого отношения к теме нашего исследования, и остановимся на представлениях Л. Н. Гумилева о составе сибирских «казаков-землепроходцев». В настоящее время имеющаяся в нашем распоряжении источ-никовая база позволяет назвать почти всех их поименно и сделать однозначный вывод, что в своем абсолютном большинстве они вышли в Сибирь не с «казачьих рек», а с Русского Севера и Верхнего Поволжья, являясь устюжанами, пинежанами, холмогор-цами, костромичами и т. д. Так что именно они, великороссы, «принимали в свои отряды» тех немногочисленных выходцев из вольного казачества, которые в XVII в. волею судеб оказывались за Уралом, а не наоборот. И у нас нет никаких свидетельств того, что зачисленные в состав сибирских гарнизонов вольные казаки занимали там какое-то особое положение и чем-то отличали себя от остальных служилых людей (см.: [Никитин, 1996. С. 12–16; Леонтьева, 1991. С. 24–31; 1997. С. 30–42]).
Казалось бы, вопрос о происхождении казачества Сибири предельно ясен. Но те, кто считает сибирских казаков «особым этносом», берут на вооружение еще одну «концепцию», предельно усложняющую «казачий этногенез». Согласно ей, некий древний «казачий народ» в XIV в. ушел от притеснений татар на Русский Север, пережил там лихолетье и в XVI–XVII вв. стал оттуда возвращаться на родимый Дон и прочие «казачьи реки», а часть – ушла за Урал… И вот как, например, выглядит один из «сибирских вариантов» этой «концепции»: «Енисейские казаки выделились из сибирских в первой четверти XVII в. Как и все сибирские казаки (курсив мой. – Н. Н.), они происходили из семей тех служилых казаков, которые за два века миграции с Дона привязались к богатому лесному Северу и не пожелали возвратиться на южные реки с общей казачьей волной. Потомки прежних донских казаков пришли сюда с новых мест расселения: из Зырянской земли, северных русских городов (Вычегды, Ваги, Холмогор, Устюга, Вятки), Казани и др.» [Плеханов А. А., Плеханов А. М., 2007. С. 182– 183].
Ясно, что при таком подходе практически любого сибирского служилого человека при желании можно объявить «потомком вольных казаков». Только можно ли считать такой подход научным? На что опираются сторонники вышеизложенной «концепции»? Обычно они ссылаются (если ссылаются вообще) на «Казачий словарь-справочник», подготовленный группой эмигрантов и вышедший в США в 1966–1969 гг., а также на донского «автономиста», историка-любителя Е. П. Савельева (1860–1927), являющегося автором других, не менее интересных «концепций» – об участии казаков в Троянской войне, основании ими Рима и т. п. [Савельев, 2007. С. 24]. Приверженцам этой точки зрения бесполезно напоминать, что ни одного факта, свидетельствующего о переселении каких-либо групп населения (тем более называвшихся «казаками») с нерусского Юга на русский Север в XIV в. в источниках пока никем не найдено. Сторонникам Е. П. Савельева и прочих казачьих «автономистов-сепаратистов», для уверенности в своей правоте, видимо, достаточно того, что на севере Европейской России «казаками» называли неимущих вольнонаемных работников.
Сочинениям историков-любителей, а то и просто дилетантов, возможно, не стоило бы вообще уделять внимания, если бы их «концепции» не были представлены ныне в работах профессионалов. Так, этнологи А. В. Сопов и А. Ш. Бузаров тоже разделяют в Сибири XVII в. «казаков» и «русских», причем к первым причисляют таких известных первопроходцев, как С. Дежнев, Е. Хабаров и В. Поярков, похоже, имея довольно смутное представление об их «родословных» и социальном статусе [Сопов, Бузаров, 2011]. Уместно в этой связи напомнить научному сообществу, что, например, Поярков происходил из кашинских дворян, причем в свою знаменитую экспедицию на Амур он отправился в должности «письменного головы» [Вершинин, 1998. С. 60, 193], а такие «чины и звания» не позволяют считать его «казаком», сколь бы расширительно ни толковать это понятие.
Далеких от науки взглядов на происхождение и социальную природу сибирского казачества придерживаются и некоторые культурологи. Так, Л. В. Дмитриева, исследуя культурную антропологию Тобольска, характеризует сибиряка как «особый психологический тип» и отмечает в нем «высокий элемент пассионарности», сохранившийся «от традиций вольного казачества» [2005. С. 305]. Она называет казачество «озоновым слоем российской цивилизации» и осуждает «доминирующую в советской историографии официальную теорию, согласно которой предками казачества являлись вольнолюбивые русские люди» (ибо она-де «не может претендовать на полноту и законченность выражения»). Исследовательница, вероятно, нашла эту «полноту» и «законченность» во все тех же широко распространенных ныне псевдонаучных, мифологизированных «теориях», абсолютно бездоказательно выводящих казачество из арийской конницы, из былинных богатырей Древней Руси и тому подобных этно-и социокультурных образований [Там же. С. 300].
Игнорирование серьезных, профессионально выполненных работ по ранней истории казачества и доверие к сочинениям политически ангажированных дилетантов почему-то вообще присуще нашим культурологам, обращающимся к казачьей проблематике. Так, Е. М. Бородина – еще один культуролог-сибиревед – в своей кандидатской диссертации, посвященной изучению традиционной культуры казачества Западной Сибири, без колебаний присоединяется к мнению авторов тех легковесных работ, которые выводят предков казаков из хазар, печенегов, половцев 1. Вслед за известным московским культурологом И. Г. Яковенко она призывает «отбросить расхожую версию, согласно которой казачество будто бы создали выходцы из русских княжеств», и подкрепляет этот призыв ссылками на сочинения давно и жестко раскритикованных профессиональными историками дилетантов – таких, как уже упоминавшийся «донской автономист» Е. П. Савельев, историк-любитель из числа эмигрантов А. А. Гордеев (почему-то названный ею «известным ученым») или священники А. М. и В. М. Гнеденко (см. о них: [Очерки традиционной культуры…, 2002. С. 140– 154]). Поэтому и «становление российского казачества», по мнению Е. М. Бородиной, шло «первоначально как этноса, а затем как сословия… параллельно со становлением российской государственности».
Представления о казачестве как «особом этнокультурном явлении» возникают, конечно же, не случайно, не на пустом месте. Видимо, они складываются у исследователей, прежде всего, потому, что в последние десятилетия умножилось число работ, в которых показано широкое бытование в сибирской служилой среде XVII в. традиций и норм самоуправления, сближающих по ряду признаков казаков Сибири с казаками вольными (выборность командного состава, самостоятельная разверстка «служб», контроль за очередностью их несения и раздачей жалованья и т. д.) (см.: [Никитин, 1996. С. 56–60]).
«Неофициальная» сторона военной организации сибирских гарнизонов часто объясняется наследием дружины Ермака и прямым влиянием представителей вольного казачества, попадавших за Урал позднее, но это слишком поверхностный взгляд на столь сложное и интересное явление. Фундаментальные исследования В. А. Александрова и Н. Н. Покровского позволили взглянуть на него иначе, поставив неофициальную организацию сибирских служилых людей в один ряд с посадскими и крестьянскими «мирами», сохранявшими за Уралом сильные позиции вплоть до конца XVII в. и генетически связанными с нормами общинного самоуправления на Русском Севере [1991. С. 22–107]. Опираясь на эти исследования и сопоставив их с фактами частого проявления традиций и норм казачье-общинного самоуправления по всей стране (особенно в кризисных ситуациях и на окраинных территориях), я еще два десятилетия назад высказал предположение о незавершенности процесса феодализации русского общества в XVII в. [Никитин, 1992]. Однако моя точка зрения на причины живучести норм общинного самоуправления в России либо оста- лась незамеченной коллегами, либо сочтена ими недостойной серьезного внимания.
Какова же позиция Ю. Г. Недбая по этому комплексу вопросов? Она довольно оригинальна и во многом противоречива.
Как серьезный историк, вполне владеющий исследуемым материалом, он, естественно, отвергает дилетантские и политически ангажированные «концепции» происхождения казачества, широко представленные в последнее время в псевдонаучной литературе. Особенно крепко достается от Ю. Г. Недбая казачьим «историкам» из числа эмигрантов, в частности авторам-составителям упомянутого выше «Казачьего словаря-справочника», цель которых определена Недбаем однозначно: «Вырвать казачество из контекста российской истории, представить его неким особым, с древнейших времен независимым народом, который чуть ли не тысячу лет всеми силами помогал неблагодарной России, а она его не только не оценила, но продала и бросила в лихую годину» [2001. С. 11].
Общая же оценка эмигрантской литературы по истории казачества у Ю. Г. Недбая такова: «…Научная ценность работ, вышедших за границей, значительно ниже тех, что были опубликованы во второй половине XIX – начале ХХ в. Источниковая база для изучения исторического прошлого казачества в них отсутствует. В силу объективных и субъективных причин на смену поиску истины приходит стремление подогнать уже имеющиеся факты под некую теорию и попытки придать ей наукообразную форму. Историческими изысканиями… занимаются, в подавляющем своем большинстве, не профессионалы, а часто люди, вынужденно покинувшие страну и пытающиеся ее же обвинить во всех бедах». В этой связи Ю. Г. Недбай осуждает участившиеся в нашей стране «требования отдельных представителей казачества объявить его отдельным народом» и полагает, что это, «кроме политического авантюризма, показывает глубочайшее невежество в области истории Отечества у большинства казаков или лиц, себя так именующих» [Там же. С. 13].
Такая трактовка ситуации с дилетантскими работами по истории казачества у меня, конечно же, не вызывает возражений. Наши расхождения с Ю. Г. Недбаем касаются вопросов хоть и далеких от политики, но с оценкой места казачества в российском обществе связанных самым непосредственным образом.
Суть этих расхождений в следующем. Поскольку казаки Сибири в XVII в. представляли собой одну из региональных групп служилых людей «по прибору» (составлявших тогда довольно многочисленную категорию населения и в Европейской России), на них мною был распространен и дополнительно обоснован сформулированный еще дореволюционными исследователями вывод о том, что стрельцы, городовые казаки, пушкари и т. п. «приборные чины» занимали в русском обществе положение, промежуточное по отношению к служилым «по отечеству» (дворянам, детям боярским) и тяглым слоям (посадским людям и крестьянам).
Будучи четко сформулированной в заключительной части моей монографии о служилых людях Западной Сибири XVII в. [Никитин, 1988. С. 194–195], эта точка зрения вызвала у Ю. Г. Недбая полное неприятие. Прежде всего, он не согласился с мнением о принципиальном сходстве положения приборных служилых в Сибири и Европейской России (с тем, что общего у них больше, чем различий), но обосновал свою позицию лишь ссылкой на показанное мною же фактическое равенство стрельцов и казаков Сибири «с самого начала их совместного существования» [1996. Ч. 2. С. 11–12], не приведя при этом никаких доводов в пользу того, что в европейской части страны (в частности, на южной ее окраине, где, как и в Сибири, стрельцы и городовые казаки служили вместе) такого равенства не было, в то время как имеющиеся в литературе сведения свидетельствуют как раз об обратном (см.: [Александров, 1950; 1967; Загоровский, 1969; Важинский, 1974; Чистякова, 1975. С. 110– 113, 126–127; Глазьев, 1987. С. 23–33; 1989; Горбачев, 2013]).
Возникновение тезиса о «промежуточном положении сибирского казачества» Ю. Г. Недбай был склонен объяснять теоретической беспомощностью исследователей перед лицом столь уникального явления, как казачество, и не делал при этом никаких различий между казаками «вольными» и «служилыми», городовыми. Он выразил сомнение «в правильности определения казачества как сословия» и полагал, что «казачество не сословие феодального общест- ва… а явление русской истории и поэтому нуждается в изучении именно как явление» [1998. С. 3].
Мнение историков о промежуточном положении приборных служилых людей Ю. Г. Недбай вообще трактовал в ироническом ключе. В частности, моя позиция по этому вопросу в его изложении выглядит так: «…Автор не смог отойти от узкосословных рамок при изучении вопроса. На протяжении всей своей работы он усиленно пытается найти ту самую ячейку, в которую можно было бы “запихнуть” служилых… И все попытки, естественно, оказываются неудачными… Ну никак эти самые служи-лые-казаки не хотят вписываться в стройную систему классов-сословий…» [1996. Ч. 1. С. 22–23].
По мнению Ю. Г. Недбая, к выводу о промежуточном социальном положении сибирских служилых XVII в. историки пришли, исследуя побочные занятия казачества – земледелием, «торгами и промыслами». А поскольку «ни одно из этих занятий не определяло его социального статуса и ни одно не получало поддержки со стороны правительства», то и говорить о каком-то «промежуточном положении» сибирских казаков, об их тяготении к каким-то «полюсам», «классам» и «группам» не приходится. Как полагал Ю. Г. Недбай, казачество если и тяготело, то «только к самому себе». Об этом, считал он, «совершенно недвусмысленно свидетельствует» не только стремление потомков служилых людей остаться в казачьей среде, но и нешуточная «борьба за право поверстаться на убылое место», а также «политика правительства, стремившегося все более и более не допускать в “промежуточный” слой посторонних и освободив (с течением времени) казаков от функций, мало связанных с военно-охранительной службой» [Там же. Ч. 2. С. 163, 186].
Приходится констатировать крайне упрощенный подход уважаемого историка к столь важной проблеме, как особенности сословного строя феодальной России. Казачество, конечно, можно считать «явлением» в российской (и даже мировой) истории, но разве это означает, что ему не было места в социальной структуре русского общества?
В последние два десятилетия в нашей историографии появилось много новых трактовок проблем, касающихся изучения социальной структуры Российского государства XVI–XVIII вв. В частности, даются новые определения понятия «сословия», а группа довольно влиятельных отечественных историков (Б. Н. Миронов, А. Б. Каменский, В. Б. Перхавко) полагает, что до XVIII–XIX вв. в России сословий не было вообще, а были лишь «социальные группы». Е. Н. Марасинова убедительно объясняет их позицию влиянием западноевропейской историографии (таких исследователей, как А. Инкелес, Р . Фельдмессер, Г. Фриз, М. Конфино), усилившимся в годы «активизации научных контактов», которые и «спровоцировали восприятие западноевропейского образца как эталонного и соответственно привели к известному «европоцентризму»» при интерпретации некоторых процессов развития российской государственности» и «ориентации на западную модель». Вместе с тем Е. Н. Марасинова отмечает, что большинство наших историков в настоящее время все же признает сословный характер российского общества в XVI–XVII вв., как и «приоритет социально-сословных категорий над религиозными и этническими в политике Российского государства» [2007. С. 279–280; 2008. С. 12–14].
Из работ Ю. Г. Недбая никак не следует, что их автор отошел от традиционной трактовки понятия «сословие». Но если сословия, как по-прежнему полагает большинство исследователей, представляют собой социальные группы, обладающие определенными законом или обычаем и передаваемыми по наследству правами и обязанностями, то точку зрения Ю. Г. Недбая о внесословном статусе казачества можно принять лишь применительно к вольной его части (ибо она до XVIII в. находилась вне московской юрисдикции), но никак не к служилым, городовым казакам (в том числе и сибирским), имевшим, по российскому законодательству, вполне определенные обязанности и права, отразившиеся, в частности, в Соборном Уложении 1649 г. [1987. С. 132].
По мнению большинства историков, в XVI–XVII вв. городовые казаки, как и другие «приборные» люди, являлись частью служилого сословия, в которое, кроме них, входили и служилые «по отечеству» – от детей боярских и дворян до бояр. И именно потому, что служилое сословие в России
XVI–XVII вв. хоть и было привилегированным, но объединяло столь разные по социальному статусу группы, исследователи характеризуют положение городовых казаков и других приборных людей, находившихся на нижних ступенях «чиновной» иерархии, как «промежуточное» по отношению к высшим категориям служилых (т. е. к представителям «господствующего класса») и социальным низам (крестьянам и посадским), а не только потому, что казаки «тяготели» к ним в силу своих занятий земледелием, торговлей или «промыслами» (которыми, кстати, как я пытался показать в своих работах, большинство сибирских служилых как раз и не было охвачено [Никитин, 1988. С.141–193; 1990]).
Эта точка зрения восходит к трудам В. О. Ключевского [1918. С. 168; 1959. Т. 6. С. 411–412] и Н. П. Павлова-Сильванского [1909. С. 197]. Она базируется на работах нескольких поколений отечественных историков, и от нее нельзя отмахнуться как от чего-то легковесного и не достойного серьезного внимания. И вообще, разве можно игнорировать историографию вопроса, если пытаешься по-новому трактовать его?
В. О. Ключевским было показано, насколько сложным был сословный строй в Московском государстве XVI–XVII вв., насколько, в частности, пестрым по социальному составу являлось служилое сословие, в котором, вследствие свойственной этому времени подвижности социальных перегородок, существовало немало «промежуточных, переходных слоев разнородного социального состава», а приборная служба «имела значение канала, посредством которого происходил обмен между городовым дворянством и неслужилыми классами» [1957. Т. 3. С. 155, 157; 1959. Т. 6. С. 411– 412].
От разработанной В. О. Ключевским схемы сословного деления русского общества XVI–XVII вв. не отказалась и советская историческая наука: она лишь приспособила ее к своему видению социальных процессов и явлений. Так, М. Т. Белявский в качестве примера несовпадения в феодальном обществе классового и сословного деления тоже указывал на приборных служилых людей как социальную группу, занимающую промежуточное положение между «антагонистическими классами». Подчеркивая сложность феодального общества в России, он отмечал наличие внутри сословий большого количества сословных групп и категорий, самым наглядным примером чему, по мнению М. Т. Белявского, являлось все то же служилое сословие [1970. С. 68–70]. «Наиболее сложным и противоречивым по своему составу и внутренней структуре» назвала служилое сословие Н. Ф. Демидова, также отметившая наличие в нем «промежуточных социальных групп» [1972. С. 332; 1987. С. 80–82].
О промежуточном положении приборных служилых людей в социальной структуре русского общества писали и многие другие советские историки [Бахрушин, Новосельский, 1952. Т. 1; Важинский, 1974. С. 23; Буганов и др., 1980. С. 243; Скобел-кин, 1986. С. 20; Глазьев, 1987. С. 32]. Изучение сословного строя России и по сей день остается одной из приоритетных задач нашей науки. Эта проблематика разрабатывается исследователями применительно к самым различным хронологическим периодам и в самых различных аспектах в ходе научных конференций (например, «Череп-нинских чтений» [Сословия и государственная власть…, 1994; Сословия, институты и государственная власть…, 2010]), в монографиях и статьях [Миронов, 1999. Т. 1; Ма-расинова, 2007; 2008]. Разумеется, и здесь среди историков существуют расхождения в понимании целого ряда вопросов, которые невозможно проанализировать в одном исследовании, но полемика без должной аргументации и практически без учета наработок предшественников, как это получилось у Ю. Г. Недбая, еще менее продуктивна.
Вполне закономерно, что мнение Ю. Г. Недбая о социальном статусе казачества не получило распространения среди сибиреведов. Авторы коллективного труда «История казачества Азиатской России» однозначно характеризуют казаков как сословие [1995. Т. 1. С. 86–94; Т. 2. С. 100– 107]. Частью казачьего сословия по-прежнему считают служилых людей Сибири Г. А. Леонтьева [2012. С. 275] и А. И. Коваленко [2009. С. 6]. У А. Ю. Огурцова представление о месте сибирских казаков в социальной структуре России тоже вполне традиционное. Он полагает, что, «получая “государево” жалованье, не выплачивая прямых налогов в казну, служилые люди и их потомки долго оставались в более привилегированном положении по сравнению с другими категориями населения России. Однако в своей массе они не относились к правящему слою государства, находясь где-то посередине между дворянами и остальными, податными людьми» [2004. С. 11].
Вместе с тем в позиции Ю. Г. Недбая и по этим вопросам немало абсолютно верных подходов. При всех расхождениях с ним, не могу не признать, что в критике ряда высказанных его коллегами мнений о социальном облике сибирских служилых XVII в. ему нельзя отказать ни в логике, ни в понимании сути обсуждаемых вопросов. Так, обратившись к давним разногласиям историков по вопросу о месте и роли хозяйственных занятий в жизни служилых людей, Ю. Г. Недбай убедительно показал несостоятельность взглядов, отстаиваемых некоторыми крупными историками.
Восходящая к «школе Шункова» точка зрения, согласно которой служилую колонизацию Сибири следует считать одной из форм крестьянской колонизации (по причине крестьянского происхождения большинства казаков и занятий многих из них земледелием), уже подвергалась критике в литературе [Никитин, 1988. С. 14–15; Огурцов, 1994. С. 3–15]. Ю. Г. Недбай дал этой дискуссии новый импульс. Комментируя позицию Е. И. Заозерской, видевшей в казаках-ремесленниках не столько служилых людей, сколько «потомков крестьян», он язвительно (но резонно) замечает, что, «следуя подобной логике рассуждений, не составит большого труда докопаться до “крестьянского” происхождения самого самодержца всероссийского, не говоря уже о нас бедных. Кем бы ни были до прихода в Сибирь и сами казаки, и их предки, здесь на месте, в Сибири, они стали казаками, и из этого факта следует исходить, говоря о месте и роли различных социальных групп в том или ином процессе» [Недбай, 1996. Ч. 2. С. 172]. Вполне обоснованной критике Ю. Г. Недбай подвергает и В. Н. Курилова, полагавшего, что служилые люди Тюмени за первое столетие существования города, благодаря своим хозяйственным занятиям, по сути дела, переродились, «превратились из сугубо военной группы населения сначала в военно-земледельческую, затем в торгово-промышленную…». По справедливому замечанию Ю. Г. Недбая, нельзя считать, «что если человек приторговывает… то он – торговец, если запахал пару десятин – зем- леделец и т. д. Согласно подобной логике, – пишет Ю. Г. Недбай, – только те, кто палец о палец не ударил ради благоденствия семьи и довольствовался одним лишь жалованьем, есть «собственно военно-служилый» человек» [Там же. С. 167, 169]. Отсюда один шаг до вывода о сословном статусе казачества Сибири, который не может меняться из-за хозяйственных (побочных) занятий его представителей, но Ю. Г. Недбай этого вывода не делает, ибо не считает казаков сословием. Такой вот историографический парадокс…
Возражая А. Р. Ивонину, считавшему характер ремесленного производства служилых людей «тупиковым», поскольку у них не было свободного времени для хозяйственных занятий, Ю. Г. Недбай вновь подчеркивает, что «казачество – образ жизни, состояние души, как у любого профессионала (поэта, ученого, слесаря, крестьянина и т. д. и т. п.), и измениться оно может не от наличия “свободного” времени и проч., а от причин более глубоких». Причины «тупикового характера» казачьих «промыслов» Ю. Г. Недбай видит «в самой природе казачества», ибо «размеренный быт земледельца и ремесленника не соответствовал состоянию духа, внутренней природе казачества» [Там же. С. 176–178].
Столь «романтизированная» концепция выглядит, безусловно, красиво и даже в чем-то логично. Ее можно считать в основном верной применительно к вольному казачеству XVI–XVII вв., но она в корне противоречит тому, что мы знаем об образе жизни служилого казачества, особенно в более поздние хронологические периоды, когда земледелие, скотоводство и различные «промыслы» являлись неотъемлемой частью быта казаков во всех «войсках», включая сибирские (см.: [История казачества…, 1995. Т. 2. С. 108–127]).
Анализ работ Ю. Г. Недбая в очередной раз показывает, что в обсуждении вопроса о месте казачества в социальной структуре России рано ставить точку. Тема эта многоаспектна и многогранна, она нуждается в дальнейшем и более глубоком изучении, которое вряд ли по силам одному человеку и вряд ли возможно без достижения историками хотя бы относительного «консенсуса» в методологических подходах к проблеме. И, разумеется, непременным условием успешной работы в этом направлении (как, впрочем, и во всех других) должна стать опора не только на репрезентативные источники, но и на серьезные, профессионально выполненные исследования. Научные дискуссии не должны превращаться в обсуждение мифов и псевдонаучных «теорий», которыми так богаты теперь медиа-среда и историческая литература.
Список литературы О месте казачества Сибири в социальной структуре России XVII века (по поводу концепции Ю. Г. Недбая)
- Александров В. А. К вопросу о происхождении сословия государственных крестьян // Вопросы истории. 1950. № 10. С. 86-95.
- Александров В. А. Стрелецкое население южных городов России в XVII в. // Новое о прошлом нашей страны. Памяти акад. М. Н. Тихомирова. Сб. ст. М., 1967. С. 235-250.
- Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск: Наука, 1991. 401 с.
- Бахрушин С. В., Новосельский А. А. Московское восстание 1648 г. // История Москвы. М., 1952. Т. 1. С. 577-587.
- Белявский М. Т. Классы и сословия феодального общества в России в свете ленинского наследия // Вестн. Моск. гос. ун-та. Серия: История. 1970. № 2. С. 65-79.
- Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России: социально-экономические проблемы. М.: Мысль, 1980. 342 с.
- Важинский В. М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII веке.(По материалам южнорусских уездов России). Воронеж: Липецкая облтипография, 1974. 119 с.
- Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. 204 с.
- Глазьев В. П. Воронежские стрельцы и их роль в экономическом развитии края в XVII веке // История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. Воронеж, 1987. С. 23-33.
- Глазьев В. Н. История южнорусских стрельцов (конец XVI - начало XVIII в.): Автореф. дис.… канд. ист. наук. Воронеж, 1989. 24 с.
- Горбачев В. И. Стрелецкое войско украинных и рязанских городов России 30- 40-х гг. XVII в.: Автореф. дис.… канд. ист. наук. Воронеж, 2013. 23 с.
- Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.3-е изд. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 528 с.
- Демидова Н. Ф. Приказные люди XVII в.(Социальный состав и источники формирования) // Исторические записки. М., 1972. Т. 90. С. 332-354.
- Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России и ее роль в формировании абсолютизма. М.: Наука, 1987. 228 с.
- Дмитриева Л. В. Культурная антропология Сибири и Тобольска конца XVI - начала XVIII века // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки (философия). 2005. Т. 5, № 10. С. 299-309.
- Загоровский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. 304 с. История казачества Азиатской России: В 3 т. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. Т. 1: XVI - первая половина XIX века. 317 с.; Т. 2: Вторая половина XIX - начало XX века. 253 с.
- Ключевский В. О. История сословий в России. Пг.: Литературно-издательский отдел Комиссариата Народного Просвещения, 1918. 276 с.
- Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 3. 426 с.; 1959. Т. 6. 516 с.
- Коваленко А. И. Казачество восточных окраин России в XIX - начале ХХ вв.: культурно-исторический аспект: Автореф. дис.… д-ра ист. наук. Владивосток: Изд-во Ин-та истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2009. 43 с.
- Леонтьева Г. А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров: Кн. для учащихся ст. классов. М.: Просвещение, 1991. 144 с.
- Леонтьева Г. А. Якутский казак Владимир Атласов - первопроходец земли Камчатки. М.: Изд-во Ин-та этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 1997. 192 с.
- Леонтьева Г. А. Служилые люди в Восточной Сибири во второй половине XVII - первой четверти XVIII в.(по материалам Иркутского и Нерчинского уездов). М., 2012. 321 с.
- Марасинова Е. Н. Абсолютизм и дворянское сословие (некоторые проблемы историографии первой четверти XVIII века) // Связь веков: исследования по источниковедению истории России до 1917 года. Памяти проф. А. А. Преображенского: Сб. ст. М., 2007. С. 277-302.
- Марасинова Е. Н. Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. М.: Наука, 2008. 460 с.
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб.: Дм. Буланин, 1999. Т. 1. 548 с.
- Недбай Ю. Г. Казачество Западной Сибири в первой четверти XVIII века: Автореф. дис.… канд. ист. наук. Омск, 1993. 20 с.
- Недбай Ю. Г. История казачества Западной Сибири. 1582- 1808 гг.(Краткие очерки). Омск, 1996. Ч. 1. 118 с.; Ч. 2. 203 с.
- Недбай Ю. Г. Казачество Западной Сибири в эпоху Петра Великого. Омск, 1998. 272 с.
- Недбай Ю. Г. История Сибирского казачьего войска (1725- 1861 гг.): В 2 т. Омск, 2001. Т. 1. 428 с.
- Никитин Н. И. Военнослужилые люди и освоение Сибири в XVII веке // История СССР. 1980. № 2. С. 161-173.
- Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири XVII века. Новосибирск: Наука, 1988. 255 с.
- Никитин Н. И. К вопросу о социальной природе приборного войска // История СССР. 1990. № 2. С. 44-59.
- Никитин Н. И. О традициях казачьего и общинного самоуправления в России XVII в. // Изв. СО РАН. История, филология и философия. 1992. Вып. 3. С. 3-8.
- Никитин Н. И. Начало казачества Сибири. М.: Изд-во ИРИ РАН, 1996. 95 с.
- Огурцов А. Ю. Русская экспансия в Южной Сибири (постановка вопроса) // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1994. Вып. 2. С. 3-15.
- Огурцов А. Ю. Кузнецкий гарнизон // Кузнецкая крепость. Новокузнецк, 2004. № 1. С. 4-11.
- Очерки традиционной культуры казачеств России. М.; Краснодар:[Тип. ГУП «Кубанькино»], 2002. Т. 1. 589 с.
- Павлов-Сильванский Н. П. Соч.: В 3 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. Т. 1. 336 с.
- Плеханов А. А., Плеханов А. М. Казачество на рубежах Отечества. М.: Кучково поле, 2007. 640 с.
- Савельев Е. П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2007. 480 с.
- Скобелкин О. В. Служилые люди Воронежского края и их участие в антифеодальной борьбе во второй половине XVII в.: Автореф. дис.… канд. ист. наук. Воронеж, 1986. 23 с.
- Соборное Уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л.: Наука, 1987. 448 с.
- Сопов А. В., Бузаров А. Ш. Место и роль казачества в общероссийских культурно-этнических процессах // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. Серия 1. 2011. Вып. 1 (74). С. 30-37.
- Сословия и государственная власть в России. XV - середина XIX в. Международная конференция - Чтения памяти акад. Л. В. Черепнина. Тезисы докладов. М., 1994. Ч. 1. 354 с.; Ч. 2. 367 с.
- Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое время). Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. М.: Языки славянских культур, 2010. 992 с.
- Чернавская В. Н.«Восточный фронтир» России XVII - начала XVIII века: историко-историографические очерки. Владивосток: Дальнаука, 2003. 176 с.
- Чистякова Е. В. Городские восстания в России в первой половине XVII века (30-40-е годы). Воронеж, 1975. 248 с.