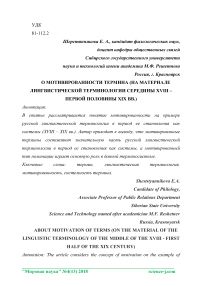О мотивированности термина (на материале лингвистической терминологии середины XVIII - первой половины XIX вв.)
Автор: Шерстянникова Е.А.
Журнал: Мировая наука @science-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (13), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие мотивированности на примере русской лингвистической терминологии в период ее становления как системы (XVIII - XIX вв.). Автор приходит к выводу, что мотивированные термины составляют значительную часть русской лингвистической терминологии в период ее становления как системы, а мотивированный тип номинации играет основную роль в данной терминосистеме.
Термин, лингвистическая терминология, мотивированность, системность термина
Короткий адрес: https://sciup.org/140263465
IDR: 140263465
Текст научной статьи О мотивированности термина (на материале лингвистической терминологии середины XVIII - первой половины XIX вв.)
Оптимизация терминологических форм предполагает сознательное их изменение. Это прежде всего проявляется в приспособлении формы термина для более легкого понимания называемого понятия. Представленное в виде требования к термину, оно выражается в предпочтительности мотивированных, системных терминов.
Вопрос о мотивированности и систематичности термина является одним из наиболее важных вопросов современного терминоведения. Так, Д.С. Лотте под систематичностью (или системностью) понимал выраженную формой термина связь данного понятия с другими понятиями системы [Лотте, 173]. Другие исследователи под системностью термина понимали только отражение им места понятия в системе или только одинаковость терминоэлементов при построении. Некоторые авторы эти свойства называют мотивированностью.
Проблема системности и мотивированности в области специальной лексики является одной из наиболее сложных проблем. Это связано в первую очередь с множественностью и комплексностью характера системности в этой области лексики. С.В. Гринев указал на три уровня системности в области специальной лексики: нестрогой лексической системности, которой терминология обладает как совокупность единиц языка; нестрогой специальной системности, которой терминология обладает как совокупность единиц специальной лексики и строгой терминологической системности, которой обладает терминология, прошедшая систематизацию и упорядочение, то есть терминосистема.
Принадлежа терминологии, термин выступает как элемент системы и должен рассматриваться с учетом всей системы. Согласно одному из правил терминологической работы, термин не должен оцениваться и упорядочиваться отдельно, вне терминологии, которой он принадлежит. Системность – это неотъемлемое свойство, признак термина, которым обладают все термины без исключения [Гринев, 172 – 173].
В отличие от системности, систематичность термина не является его неотъемлемым свойством, если понимать под ней отражение в форме термина места называемого им понятия в определенной системе понятий. У многих терминов оно отсутствует. Если под систематичностью термина понимать его фиксированное место в терминосистеме, то оно есть только у терминов упорядоченной терминологии. Поэтому систематичность и мотивированность – это всего лишь желаемые свойства термина, требования к термину.
Под мотивированностью термина в настоящее время принято понимать его «семантическую прозрачность, свойство его формы давать представление о называемом термином понятии. Высшей степенью мотивированности термина следует считать системность термина – отражение в структуре, форме термина связи называемого им понятия с другими в данной системе понятий, места этого понятия в данной понятийной системе» [Гринев, 173]. Кроме этого, системность связана с таким свойством термина, как соответствие лексического значения термина выражаемому им понятию, или непротиворечивость семантики термина. Это свойство отличается сложностью семантической структуры термина, где на лексическое значение термина накладывается терминологическое значение, обычно приравниваемое к содержанию специального понятия.
Стремление авторов грамматик к созданию мотивированных терминов – одна из характерных черт, присущих русской лингвистической терминологии в период ее становления.
Так, мотивированными являются термины, называющие основные категории звуков (букв): самогласные, согласные, безгласные. Самогласная буква – буква, произносимая самостоятельно, без помощи другой буквы. Основная функция самогласной буквы – слогообразовательная. « Самогласныя буквы называются для того, что онЂ сами собою издаютъ голосъ, и безъ нихъ никакiй слогъ не составляется » [Курганов, 2]. Согласная буква – буква, произносимая с помощью гласной буквы. « Со гл а сн ы я потому, что онЂ безъ самогласныхъ сами собою ни одного слога составить ни голоса издать не могутъ » [Курганов, 2]. Безгласная буква – буква, не имеющая голоса, самостоятельно не произносимая. Безгласными являются Ъ и Ь . « Безгл а с н ыя для того, что онЂ нетокмо сами собою но и съ каждою согласною порознь не произносятся » [Курганов, 3].
Мотивированными являются термины, называющие разновидности гласных и согласных звуков. Например, в зависимости от места образования преград, которые преодолевает струя воздуха при произнесении гласного звука, последние подразделяются на гласные заднего, среднего и переднего ряда. Гласный заднего ряда – гласный, при произнесении которого язык приподнимается в задней части спинки к заднему, или мягкому, небу; гласный среднего ряда – гласный, при произнесении которого язык в средней части спинки приподнимается к переднему, или твердому небу; гласный переднего ряда – гласный, при произнесении которого язык в передней части спинки приподнимается к переднему, или твердому, небу.
Мотивированность характерна для терминов, называющих разновидности глагольного вида: неопределенный вид («Неопредђленный, выражающiй совершенiе дђйствiя просто, неопредђленно, безъ означенiя притомъ, часто ли онае совершается, и совершается ли именно въ то самое время, о которомъ идетъ рђчь; напримђръ: я пишу письмо, я сижу на стулђ, я хочу, онъ бђгалъ, я буду ђздить» [Греч, 256 – 257]), определенный вид («Опредђленный <вид>, означающiй, что дђйствiе совершается именно въ то самое время, о которомъ говориться; напримђръ: я иду теперь въ поле, он бђжалъ по улице, когда грянулъ громъ; я буду завтра ђхать подлђ кареты» [Греч, 257]), однократный вид («Однократный <вид>, означающiй, что дђйствiе совершилось или совершится одинъ разъ; напримђръ: я тронулъ, ты шагнулъ» [Греч, 257]), многократный вид («Многократный <вид>, коимъ означается, что дђйствiе совершалось нђсколько разъ; напримђръ: онъ ђзжалъ вђрхомъ, я бывалъ въ Петергофе» [Греч, 257]), несовершенный вид («Несовершенный <вид>, выражающiй, что дђйствiе не совершенно кончено или кончится; напримђръ: я подписывалъ, ты будешь разсматривать» [Греч, 257]).
Мотивированным является термин имя прилагательное , прилагаемое к имени существительному. « Прилагательными жъ называются потому что прилагаются къ существительнымъ, для показанія ихъ качествъ; и безъ сего приложенія немогутъ точно и опредђленно въ умђ представлены быть на пр. великій, великъ, не извђстно человђкъ ли или камень; или стукъ. Великая, велика, гора ли или бездна, или печаль… ибо оныя прилагательныя ковсђмъ симъ существительнымъ и къ премногимъ другимъ, въ разныхъ случаяхъ съ равною пристойностію приложены быть могутъ » [Барсов, 94].
Термин причастие называет такую часть речи, которую еще античные грамматики рассматривали как причастную (гр. met-jchikon = лат. partitipium), с одной стороны, к категории имени, так как она может склоняться подобно прилагательному, а с другой строны – к категории глагола, поскольку может выражать время и залог. « Имя причастное названо по тому, что оно отъ части съ глаголомъ, а отъ части съ именемъ сходствуетъ въ том, что означиваетъ существо вещей и имђетъ падежи, склоненія, родъ, число… » [Курганов, 44].
Стремление к созданию более мотивированного термина часто становится причиной синонимии. В «Российской грамматике» М.В. Ломоносова употребляется термин безгласная буква - «ь, ъ» [Ломоносов, 423]. Буквы ъ, ь наши лингвисты, с одной стороны, называли безгласными буквами, так как они произносятся «без голоса». Понятие безгласной буквы известно еще со времен античных грамматик. К таковым в греческом алфавите относились буквы β, γ, δ, χ, π, τ, υ, φ. «Безгласными они называются потому, – писал Дионисий Фракиец, – что дают худший звук, чем остальные». У Дионисия Галикарнасского безгласными буквами названы «те, которые сами по себе ни самостоятельного, ни полусамостоятельного звука, а звучат лишь в сочетании с другими» [Античные теории языка и стиля, 107]. Термин припряжногласная буква встречается у А.А. Барсова, у Н.И. Греча, В. Половцова, А.Х. Востокова – полугласная буква. «...Полугласныя ь, ъ, кои выражают половину гласного звука, слышного в соединении с другими буквами, и именно: ь и ъ после согласных» [Востоков, 5]. Оба эти термина не совсем «справедливы», по словам Г.П. Павского. Термин полугласные буквы заставляет думать, что ь и ъ ближе к гласным, нежели к согласным. «У нынђшнихъ нашихъ Грамматиковъ Гг. Греча и Востокова буквы ъ и ь названы полугласными. Судя по этому названію, иной можетъ подумать, что ъ и ь ближе къ гласнымъ буквамъ, нежели къ согласнымъ. Да и въ самомъ дђлђ нђкоторыя вздумали увђрять насъ, будто буквы ъ и ь въ древнемъ Словенскомъ языкђ были тоже, что кранная гласныя о и е. назвате безгласныхъ, какое прежде давали ъ-у и ь-ю еще мен^е справедливо. Какая охота была Изобретателю звук вносить въ нее буквы безгласныя или беззвучныя? Чтобъ увђрить, что ъ и ь не безъ глосса, стоитъ только развить произношеніе словъ, имђющихъ у себя ъ и ь, съ слвоами не имђющихъ ихъ. На пр. такъ ли звучатъ слова сълђпъ, князья, как сђлъ, князя? Смотрицкій, одинъ изъ старинныхъ Словенорусскихъ Грамматиковъ, буквы ъ и ь назвалъ припряжногласными. Имя конечно грубо, но подъ нимъ заключается понятіе довольно близкое къ истинђ. Названіе придыханій, какое я даю ъ-у и ь-ю, тђмъ удобно, что оно указываетъ вмђстђ и на происхожденіе и на значеніе сихъ буквъ…Название безгласные еще менее справедливо. Какая охота была изобретателю азбуки вносить в нее буквы безгласные или беззвучные?» [Павский, 41]. Сам Г.П. Павский вводит новый термин для обозначения ь и ъ – придыхание, который, по словам исследователя, указывает и на происхождение, и на значение этих букв. Буквы Ь и Ъ «обязаны предшествовать всем согласным, но и служить заменою их в случае их отсутствия и поэтому сопутствовать всем согласным, не имеющих при себе гласных…В сем последнем случае они исполняют должность Еврейской шевы, которая также при согласных буквах служит наместником гласных…». Со временем «писцы, наскучив писать часто ь и ъ», или опускали их, или ставили значок S – ерок или паерк. Они знали, что ь и ъ то же, что «Греческое придыхание, заменившее старинную придыхательную букву...» [Павский, 1850, 41-42]. Придыхания, по мнению исследователя, близкие согласным буквам, отличаются от последних лишь меньшей степенью ясности и определенности; от них зависит твердое или мягкое произнесение гласных и согласных. Относительно других наименований ь и ъ, предложенных лингвистами, Г. Павский выражает свое неудовлетворение. «Называя ъ и ь придыханіями, я надђюсь чрезъ то избежать сбивчивости въ понятіяхъ» [Павский, 41].
Термины склоняемое прилагательное и спрягаемое прилагательное, введенные А. Востоковым, были заменены терминами прилагательное одночленное и прилагательное двоечленное. «Прилагательные склоняемые непосредственно приложены к существительному: на ый, ий, ой, например, белый, синий, любимый; спрягаемые – с помощью глагола: на ь и ъ, например, былъ сытъ, любим» [Востоков, 13]. Как отмечает Г.П. Павский, предложенные А. Востоковым наименования «неудовлетворительны». Они «касаются только синтаксиса, который указываетъ, какое дать окончаніе тому или другому прилагательному имени в извђстном случае. В этимологіи же требуется дђленіе словъ этимологическое, а не синтаксическое…» [Павский, 20 – 21]. Г.П. Павский предлагает «дђленіе именъ прилагательныхъ на одночленныђ и двоечленныђ», которое «объемлетъ всђ вообще прилагательныђ имена, и съ первого взгляда очень ясно. При томъ же оно этимологическое, прямо основанное на составђ букв, а не на какой либо определенности или неопределенности въ рђчи, или на его отношеніи къ имени существительному или къ глаголу» [Павский, 20-21].
Предшественники Г.П. Павского «… прилагательные имена, отвечающия на вопрос чей, чья, чье, обыкновенно » называли притяжательными именами (possessiva) [Барсов, 123]. Г.П. Павский же употребляет термин усвоительное прилагательное имя , «… потому что слово притяжательный, происходящее отъ устарелого стяжать, притяжать (possideo), ныне сделалось не внятным… » [Павский, 2].
Г.П. Павский, исходя из особенностей окончаний имен прилагательных, предлагает делить последние на одночленные (с окончаниями ъ, а, о и ь, я, е ) и двучленные (с окончанием ый, ая, ое и ій, яя, ее ). «… Окончанія <имен прилагательных> ый, ая, ое съ отвђтствующими имъ мягкими ій, яя, ее, составились изъ повтореннаго члена ъ, а, о, ч буду называть превоначальное окончаніе ъ, а, о и ь, я, е одночленнымъ, а окончаніе ый, ая, ое, и ій, яя, ее двучленнымъ » [Павский, 18 – 19]. Другие термины, предложенные различными грамматистами в разное время для наименования данного понятия ( определенное прилагательное/ неопределенное прилагательное, усеченное прилагательное/ полное прилагательное, склоняемое прилагательное/ спрягаемое прилагательное), кажутся Г.П. Павскому «неудовлетворительными». « Одни изъ грамматиковъ называютъ имена прилагательныя съ окончаніемъ ъ, а, о неопредђленными (indefinita), а съ окончаніемъ ый, ая, ое опредђленными (definita). Названіе сіе взято изъ
Нђмецкой грамматики и принято Добровскимъ, а за нимъ и другими. Въ Нђм. языкђ этђ названія имђютъ какой нибудь смыслъ, а въ нашемъ никакого. Тамъ есть два члена, одинъ неопредђленный: ein, eine, eines (= одинъ, одна, одно или нђкто), а другой опредђленный der, die, das (= тотъ, та, то) » [Павский, 18 - 19]. « Называли прежде, и теперь еще некоторые изъ Русскихъ грамматистовъ называютъ одночленное прилагательное окончаніе ъ, а, о усђченнымъ, а двоечленное ый, ая, ое полнымъ. Это названіе принялъ въ свою Сербскую грамматику Сербъ Вукъ Стефановичъ, но съ тою однакожъ оговоркою, что вђрнђе было бы назвать одночленныя прилагательныя не усђченными, а первообразными (за што стоjа у первоме облику), а двоечленныя, какъ справедливо говоритъ онъ, образовались уже послђ посредствомъ наращенія » [Павский, 19]. « Названіе усђченный предполагаетъ, что прилагательныя съ окончаніемъ ый, ая, ое были въ Словенскомъ языкђ первоначальными, а изъ нихъ уже выродились укороченныя или усђченныя съ окончаніемъ ъ, а, о. А это понятіе объ именахъ прилагательныхъ совершенно ложно, слђд. и названія ихъ ус^ченныя, полныя, не годятся для именъ прилагательныхъ. Новейшее дђленіе окончаній имнъ прилагательныхъ на склоняемыя и спрягаемыя, предложенное Г. Востоковымъ, тоже я считаю не удовлетворительнымъ. Оно касается только синтаксиса, который указываетъ, какое дать окончаніе тому или другому прилагательному имени въ извђстномъ случађ. Въ этимологіи же требуется дђленіе словъ этимологичсекое, а не синтаксическое. Здђсь дђленіе должно основываться прямо на образованіи словъ, а не будущемъ ихъ назначеніи, какое онђ получатъ въ синтаксисђ. При томъ прилагательныя съ однимъ членомъ добръ, добра, добро, называемыми, легко могутъ стоять и не при глаголђ; и слђд. могутъ быть и бываютъ неспрягаемыми » [Павский, 20].
Деление имен прилагательных на одночленные и двоечленные, по мнению самого Г.П. Павского, имеет ряд преимуществ перед другими. Во- первых, оно охватывает все имена прилагательные. Во-вторых, оно основано на морфологических свойствах прилагательного, а не на его сочетаемостных способностях [Павский, 21].
Можно утверждать, что мотивированные термины составляют значительную часть русской лингвистической терминологии в период ее становления как системы, а мотивированный тип номинации играет основную роль в данной терминосистеме. Мотивированность термина, безусловно, является одним из факторов сохранения самобытного, национального характера русского лингвистической терминологии в эпоху ее становления.
Список литературы О мотивированности термина (на материале лингвистической терминологии середины XVIII - первой половины XIX вв.)
- Античные теории языка и стиля. - М., 1936. - 344 с.
- Барсов А. А. Российская грамматика. М., 1981.
- Востоков А. Х. Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной Грамматики полнее изложенная. СПб., 1839.
- Греч Н. И. Пространная русская грамматика. М., 1830.
- Гринев С.В. Введение в терминоведение. - М.: Моск. лицей, 1993. - 309 с.
- Курганов Н. Г. Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присвокуплением разного ученого и полезнозабавного вещесловия. СПб., 1790.
- Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 10 т. М. - Л., 1950 - 1959. Т. 7. 997 с.
- Лотте Д.С. Основы пространства научно-технической терминологии. - М., 1961. - 210 с.
- Павский Г.П. Филологические наблюдения над строем русского языка. Рассуждения 1-3. - СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1850.