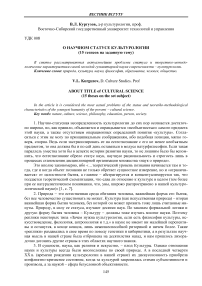О научном статусе культурологии (15 тезисов на заданную тему)
Автор: Кургузов В.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальнейшие проблемы статуса и теоретико-методологические характеристики самой молодой гуманитарной науки современности - культурологии.
Природа, культура, наука, философия, образование, человек, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/142142681
IDR: 142142681 | УДК: 008
Текст научной статьи О научном статусе культурологии (15 тезисов на заданную тему)
-
1. Научно-статусная неопределенность культурологии до сих пор осознается достаточно широко, но, как правило, объясняется и оправдывается «необъятностью» самого предмета этой науки, а также отсутствием операционных определений понятия «культура». Согласиться с этим не могу по принципиальным соображениям, ибо подобная позиция, мягко говоря, спорна. Ведь если экстраполировать ее на естествознание с его не менее необъятным предметом, то она должна бы и по сей день оставаться в модусе натурфилософии. Если такая параллель уместна хотя бы в аспекте истории развития науки, то не лишним было бы вспомнить, что естествознание обрело статус наук, научную рациональность и строгость лишь в процессах становления дисциплинарной организации множества «наук о природе».
-
2. Природа это естественная среда обитания человека, важнейшая форма его бытия, без нее человечество существовать не может. Культура (как искусственная природа) – вторая важнейшая форма бытия человека, без которой он может прожить тоже лишь считанные минуты. Природу, в силу ее статуса, изучают десятки наук. По законам формальной логики и другую форму бытия человека – Культуру должны тоже изучать многие науки. Поэтому реплики некоторых типа «Зачем нужна культурология, если есть философия культуры, искусствоведение, филология, антропология и т.д.» в науке не имеют ни малейшей перспективы и останутся, в конце концов, лишь нежизнеспособной риторикой и ничем более. Такие «реплики» раздавались в свое время по поводу генетики и кибернетики, а в результате научная мысль в нашей стране была отброшена на десятилетия назад, и нам пришлось лихорадочно догонять другие страны в этих областях научного знания.
-
3. В сущности, наука, как религия и искусство, – плод Культуры. Однако отношения науки и культуры всегда были многосложны по своей природе. А в последней четверти ХХ в. (времени рождения культурологии в нашей стране) их дискуссионность приобрела конфликтно-кризисное состояние, когда за культурой закрепилась стихия субъективности и произвола, а за наукой – сфера безусловной объективности.
-
4. Между тем процесс рождения культурологии вполне объективен и закономерен. «Еще совсем недавно, подчеркивает отечественный культуролог В.А. Фортунатова, культурологизм смотрел на академическую науку через Высокую Стену и совсем не чувствовал в себе сил и возможностей не только претендовать на обозначение необходимой степени научной мысли, но и надеяться на востребованность своих концепций, знаний и технологий» [2, с. 75]. Но времена меняются, и сейчас данная ситуация во многих своих позициях уже преодолена.
-
5. Тем не менее некоторые люди науки до сих пор говорят культурологам: «Если у вас нет устоявшейся дефиниции понятия «культура», то о какой культурологии может идти речь?» На это я бы мог ответить так: устоявшегося определения человека тоже не существует, но это совсем не значит, что надо отменить все существующие антропологии, которых сегодня более 30 (социальная, политическая, культурная, экономическая, педагогическая, даже космическая антропология и проч.), и перестать изучать феномен человека вообще. Так происходит со многими сложными системами, какими и являются Человек и две важнейшие формы его бытия Природа и Культура. Кстати, у Природы тоже множество определений, порой даже взаимоисключающих друг друга. Тем не менее наука ее изучает и будет изучать впредь.
-
6. Сегодня вполне очевидно, что суждение о культурологии как исключительно модной и достаточно амбициозной науке на «злобу дня», а следовательно, не серьезной, не несущей новые знания и не имеющей своего объекта изучения, ибо он безмерен (пресловутые 2,5 тысячи определений культуры), оказалось поспешным. В связи с этим я бы сослался на мнение Т.С. Элиота, который пишет: «…существует два класса людей, говорить с одними трудно, говорить с другими – тщетно. Второй – более многочисленный и упрямый, чем это может показаться вначале, ибо он представляет состояние ума, в которое все мы склонны впадать вследствие природной лени, включает в себя тех, кто не способен поверить, что положение вещей когда-нибудь изменится по сравнению с существующим в данный момент. Время от времени – возможно, под влиянием убедительных слов какого-нибудь проповедника или публициста – они могут переживать мгновения тревоги или надежды, однако непобедимая инерция воображения заставляет их продолжать вести себя так, будто ничто никогда не изменится. Те, с кем говорить трудно, но возможно, не тщетно, это люди, верящие, что великие перемены должны произойти, но толком не знающие, что в них неизбежно, что возможно, а что – желательно» [3, с. 14].
-
7. Отсутствие активного интереса и необходимого уважения к научным возможностям культуррологии во многом объясняется тем, что вхождение любого человека в ее логику требует универсального знания, которого часто недостает современным представителям узкопрофильных научных интересов, склонным к эзотерике, «цеховым» тайнам и терминологическому воляпюку (пустым, бессодержательным фразам). Появление же ученого, имеющего интегральные знания, еще и сегодня нередко воспринимается как абсурд и… снижение профессионализма.
-
8. В современном научном сообществе до сих пор существует точка зрения, высказанная когда-то Леонардо да Винчи (правда, совсем по другому поводу): «Та наука полезнее, плод которой наиболее поддается сообщению» [4, с. 8]. Поскольку культурология довольно долгое время не могла определить свою конечную цель в терминах и понятиях, то отечественное «научное племя» поспешно занесло ее в ранг маргинальных, околонаучных созданий гуманитаристики, хотя в действительности именно культурологии предстояло спасение или возрождение последней. Между тем культурология сама восстала против приблизительности, путаницы и неразберихи в своем научном аппарате. «Интересно, как повели бы себя физики, не без иронии писал Лесли Уайт, если бы у них существовало столько же представлений об энергии, сколько мы имеем о сущности и употреблении термина «культура» [5, с. 27].
-
9. Нынешнее «перевернутое» состояние гуманитарного знания, характеризуемое раздробленностью, хаотичностью, отвлеченностью, возникло от идей , построенных на всяких
-
10. «Осадная», как я ее называю, культурология 90-х гг. прошлого века, когда перед ней стоял только один вопрос: «Быть или не быть?», передала начальный опыт своей легитимной преемнице – современной культурологии, перед которой сразу встало множество ар-хисложных научных проблем. При этом следует подчеркнуть, что культурология никогда не жила и не живет за счет априорных конструкций. Наоборот, она идет за отцом механики Ньютоном, один из трудов которого называется «Гипотез не измышляю».
-
11. Парадоксально, но уже три десятилетия после рождения культурологии многие российские гуманитарии не могут «развести» по индивидуальным «квартирам» философию культуры и науку о культуре культурологию. Чаще всего это происходит с людьми, которые до сих пор полагают, что философия – это наука. Этим недугом страдает даже наша Высшая аттестационная комиссия (ВАК), до сих пор выдавая дипломы кандидатов и докторов несуществующих «философских наук». Этот пережиток идет с первых лет советской власти, с тех лет, когда марксистско-ленинская философия априорно считалась не просто наукой, а наукой № 1. Между тем такого понимания философии («мудрствования на досуге», как этот род занятий называли древние греки) нет нигде в мире. В большинстве стран присваивается ученая степень доктора философии – и все. В России до ума до сих пор не доходит простая истина, что философия – это философия, она (в отличие от науки) не требует эмпирических доказательств в своих выводах. А посему в научном дискурсе сплошь и рядом присутствует очевидное стремление не видеть между этими дисциплинами никакой разницы. Многим нашим философам и культурологам невдомек, что философия призвана изучать не саму культуру, представления людей о ней, а культурология призвана изучать сам феномен культуры во всех его морфологических, типологических и структурных ипостасях.
-
12. Культурология как наука являет собой принципиально новый уровень освоения действительности – финальную стадию синтеза в диалектической триаде «факт – артефакт – концепция». Ее задачей является создание образного строя современного научного знания, а в спектр ее исследовательских стратегий органично входят такие определяющие науку прошлого подходы, как описательность, историчность, фотографичность. «В ней нет и не может быть, как справедливо отмечает В.А. Фортунатова, деления на старое и новое, она одновременно традиционна и современна, привержена старым формам и воплощенным в них идеям, но вместе с тем авангардна, инновационна и даже произвольна» [7, с. 79]. Как мне представляется, именно этот мыслительный анархизм более всего и эпатировал приверженцев традиционалистских устоев в науке.
-
13. Принципиально важно отметить то, что культурология вообще и кульурологизм в частности предстают как вид неогуманизма , в котором наука о природе соединяется с наукой о человеке. Об этом я в свое время достаточно подробно писал в монографях «Гуманитарная культура» и «Генезис антропологического знания» [8, с. 80]. Более того, на мой взгляд, это соединение: сущности и существования, закономерностей и отдельных фактов,
-
14. В онтологическом плане культура – это форма бытия, способ жизни человека. Сам же человек как детерминанта научно-культурных отношений может стать основой для формирования целостной картины мира, в которой он восстановит свои предназначения творца, а не разрушителя. Что для этого необходимо? Только одно: поворот сознания , сила которого способна сравняться с энергией разумности и целесообразности Вселенной. Однако подобный поворот человеческого сознания возможен только в режиме активного диалога науки с культурой , ибо ассоциация, аргумент и рефлексия, объединяясь в культурологическом поиске, создают особый стиль научной рефлексии процессов формирования человека Homo culturalus .
-
15. «Человек культурный» как особый тип личности крайне необходим современной России, испытывающей практически одновременный социально-исторический, экономический, мировоззренческий и культурный шок. Воспитание такого человека – важнейшая национальная задача , означающая целую предметную область, где культурология призвана играть далеко не последнюю роль и в которой отсутствуют исследовательские разграничения и конфликты научных парадигм, но очень ощутима и востребована динамика интеграции.
Это вполне закономерно, ибо «…теоретический уровень познания начинается там и тогда, где и когда объект познания не только обретает сущностное измерение, но и «ограничивается» от целостности бытия, а главное – абстрагируется и концептуализируется так, что поддается теоретической схематизации, что едва ли относимо к культуре в целом (тем более при ее натуралистическом понимании, что, увы, широко распространено в нашей культурологической науке)» [1, с. 7].
«измах», которые стремительно сменяют друг друга, не задерживаясь ни в общественном, ни в виртуальном сознании, не только не порождая шедевров, способных воплотить накопленный человечеством опыт, не создавая универсальных духовных систем, подобных «Феноменологии духа» Гегеля или «Капиталу» Маркса, но, напротив, искажая культурный фонд маловразумительными спекулятивными, необоснованными фундаментальными знаниями и проектами. Наверное, именно поэтому, характеризуя состояние постсоветской гуманитари-стики, Б. Дубин отмечает, что она часто воспроизводит только внешние признаки науки, «но, по сути, является не наукой, а скорее «culture critics» [6, с. 45].
Она изучает «творения творцов», то есть достижения ученых, деятелей искусства и литературы, истолковывающих, отражающих, воссоздающих предметы и явления природы как в прошлые, так и в наши дни. Причем каузальность (причинно-следственные связи) устанавливается в ней не в хронологической последовательности (диахроники), а на основе ассоциаций, очевидного сходства, аналогии (синхроники) происходящих культурных событий и явлений, или даже парадоксально-пародийного сближения.
форм вовлечения и форм связи между участниками культурного сообщества является главным завоеванием культурологии.