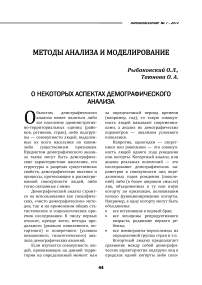О некоторых аспектах демографического анализа
Автор: Рыбаковский Олег Леонидович, Таюнова Ольга Александровна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Методы анализа и моделирование
Статья в выпуске: 1 (63), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрыты и обоснованы основные черты демографического анализа, а также статистические и социологические методы изучения демографических явлений и процессов. Очерчены особенности использования показателей продольного и поперечного анализа. Приводятся типичные примеры проведения некорректного и корректного сравнительного анализа. Представлен алгоритм и определена суть метода агрегатных индексов и его частного случая - метода стандартизации.
Демографический анализ, продольный и поперечный анализ, сравнительный анализ, индексный метод, метод стандартизации
Короткий адрес: https://sciup.org/14347496
IDR: 14347496
Текст научной статьи О некоторых аспектах демографического анализа
О бъектом демографического анализа может являться либо все население административно-территориальных единиц (районов, регионов, стран), либо подгруппы — совокупности людей, выделенные из всего населения по каким-либо существенным признакам. Предметом демографического анализа также могут быть демографические характеристики населения, его структуры в разрезах существенных свойств, демографические явления и процессы, протекающие в рассматриваемой совокупности людей, либо тесно связанные с ними.
Демографический анализ строится на использовании как специфических, «чисто демографических» методов, так и на применении общих статистических и социологических приемов исследования. К числу первых относят, прежде всего, методы продольного (реально поколенного, когортного) и поперечного (условно поколенного, гипотетического) анализа демографических явлений.
Если изучается совокупность людей, проживающих на данной территории на определенный момент или за определенный период времени (например, год), то такую совокупность людей называют современниками, а анализ их демографических параметров — анализом условного поколения.
Напротив, одногодки — сверстники или ровесники — это совокупность людей одного года рождения или когорты. Когортный анализ, или анализ реальных поколений — это исследование демографических параметров в совокупности лиц определенных годов рождения (поколений) либо (в более широком смысле) лиц, объединенных в ту или иную когорту по признакам, положившим начало функционированию когорты. Например, в одну когорту могут быть объединены:
-
• все вступившие в первый брак;
-
• все женщины репродуктивного
возраста, родившие первого ребенка;
-
• все иммигранты-переселенцы из определенной группы стран и т.п.
Когортный анализ предполагает сравнение между собой демографических характеристик подгрупп лиц в пределах одной когорты либо сопо- ставление показателей различных когорт.
К примеру, сравнение в пределах одной когорты продолжительности жизни мужчин и женщин в зависимости от их брачного состояния позволило в прошлом веке сделать вывод о том, что дольше всех живут никогда не состоявшие в браке женщины, а меньше всех — разведенные мужчины.
Анализ условных поколений — это исследование демографических параметров всего населения той или иной административно-территориальной единицы, либо подгруппы населения, в котором содержатся все живущие (либо демографически активные) возрастные группы населения на период изучения, но представляющие различные реальные поколения людей. Демографические показатели, рассчитанные для рассматриваемого года (интервала времени), предопределяются совокупностью демографических характеристик всех представленных в условном срезе реальных поколений.
Вследствие этого анализ условных поколений, как правило, не дает исчерпывающей характеристики демографических явлений, тем более, о перспективах их развития, не позволяет улавливать динамику скрытых (латентных) факторов, воздействующих на интенсивность тех или иных демографических процессов. Он отражает текущую ситуацию, уровни и особенности демографических процессов рассматриваемого периода времени, но не отражает истинные тенденции демографических процессов, выявляемые лишь при рассмотрении реальных поколений. Из-за такой относительной поверхностности и не достаточной объективности анализ условных поколений по воз- можности добавляют анализом реальных поколений.
С другой стороны, более объективный когортный анализ в полной мере возможно провести лишь в ретроспективе, т.е. по мере прохождения когортами всего демографического пути. Точность такого анализа, проводимого в ряде случаев анамнестическим (ретроспективным) путем, т.е. опросом когорт о фактах в прошлом, подвержена целому ряду понижающих объективность факторов. Среди них — эмиграционные и иммиграционные процессы, различная интенсивность смертности для разных подгрупп когорт, элементарная забывчивость опрашиваемого населения, в особенности, если оно находится уже не в молодом возрасте, различные допущения о равной интенсивности демографических характеристик, прибывающих извне и выбывающих из когорт миграционным и естественным путем индивидуумов и т.п.
По этим обстоятельствам в практике демографического анализа преобладает преимущественно анализ ситуационный — за определенный год или за несколько лет, т.е. анализ по текущим данным. При этом продольный, когортный анализ служит дополнением, уточнением поперечного анализа.
Анализ условных поколений чутко фиксирует и выявляет текущие изменения уровней демографических событий, вызванные различными событиями, такими, например, как воздействие мер демографической политики, войны, эпидемии, стихийные бедствия, иные катаклизмы. Когортный анализ выявляет изменения демографического поведения, связанные преимущественно с долговременными тенденциями, с эволю- ционными преобразованиями или переходами от одного типа демографического поведения к другому.
Демографический анализ включает также и общие для наук о населении методы — сравнительный статистический и социологический анализ. Эти методы используют для оценки состояния, структуры и динамики населения, основных демографических компонент — воспроизводства (рождаемости, смертности) и миграции населения, а также их взаимосвязей с основными демографическими факторами или составляющими. В случае с рождаемостью — это очередность рождений, возрастная структура женщин детородного контингента, брачность, разводи-мость, репродуктивное поведение, а со смертностью — это половозрастная структура населения, нозологическая структура населения (структура заболеваемости или причин смертности), самосохранительное поведение.
Анализ миграционных процессов включает географическую структуру мест исхода и входа мигрантов, а также формирование мобильности, процессы приживаемости, интеграции постоянных иммигрантов. В более широком понимании демографический анализ включает и анализ взаимосвязей демографических компонент с прочими, недемографическими факторами — социально-экономическими, политическими и т.п.
Статистический анализ в демографии основывается на сплошном либо не сплошном исследовании количественных демографических характеристик изучаемых совокупностей людей, демографических явлений, процессов, а также их взаимосвязей с различными факторами. Он строится на использовании традици- онных методов: представление данных в табличной и графической форме, расчет средних и других обобщающих характеристик рядов распределений, анализ вариации, корреляции, временных рядов, индексный метод, типологизация и т.п.
Социологический анализ в демографии — это, как правило, выборочный метод исследования субъективных мнений, суждений людей по поводу демографического поведения и демографических планов — репродуктивного, самосохранительного, миграционного, а также по поводу связанных с этим поведением явлений и процессов.
Целью любого демографического исследования является максимально объективное сравнение демографических явлений во времени и в пространстве, либо обоснование и количественное выражение взаимосвязей этих явлений с факторами их уровней или динамики.
Центральной проблемой сравнительного анализа является его корректность. К сожалению, большая часть не только конечных пользователей демографической информации (политиков, чиновников, журналистов и т.п.), но и сами демографы пользуются результатами анализа не всегда достаточно корректно и полно. Виною тому — не только нехватка статистической демографической информации, ее неточность, запоздалость опубликования, а по некоторым позициям и дороговизна получения, но также и недостаточная статистическая грамотность ряда специалистов, пришедших в демографию из других наук, непонимание ими сути демографических процессов и отдельных методов статистического анализа. Примеры некорректного демографического анализа можно встретить повсеместно, и не только в СМИ, но даже и в профильных журналах, не говоря уже о никем не рецензируемых Интернет-сайтах, связанных с демографией. Одни специалисты строят рейтинги регионов России, объединяя абсолютное сальдо миграции с зарплатой и суммарным коэффициентом рождаемости. Другие моделируют взаимосвязи смертности и доходов, используя всевозможные показатели, не учитывая их структуру и взаимозависимость и т.п.
Особая опасность для объективности анализа таится в неосторожном использовании всевозможной социологической информации. Она часто бывает одиозной, субъективно настроенной не только по интерпретации результатов опросов, но и по формулировке вопросов. Иногда разработчики социологических опросов некорректно используют центральную (нейтральную, или нулевую) позицию, включающую подсказ «сомневаюсь, затрудняюсь ответить». Либо вообще дублируют ее в анкете, добавляя «средним» отношением к вопросу. Это позволяет «корректировать» результаты опросов в нужном заказчику русле [7].
К примеру, по результатам исследований такого фактора рождаемости как религиозность населения, проведенных в январе 2012 года ассоциацией Гэллап и исследовательским центром Ромир , религиозными себя считали 59% землян и 55% россиян [1]. Выходит, что россияне менее религиозны, чем мир в целом. Но в данном опросе позицию «затрудняюсь ответить» заполнило 13% россиян и всего 5% землян [1]. Но если эту позицию при определении уровня религиозности исключить из расчетов, то из числа
«не затруднительно ответивших», т.е. тех, кто ответил на вопрос положительно либо отрицательно, религиозными себя считают 62% землян и 63% россиян. Результат становится принципиально иным. При всей незначительности различий величин в данном случае — подобная практика искажения и манипулирования показателями довольно широко распространена.
При кажущейся высокой степени достоверности выборочных социологических обследований их результаты у отдельных исследователей часто бывают столь различными, что приходится сомневаться в корректности проведения опросов. К примеру, во время переписи населения России 2010 года со слов главы Росстата А. Суринова «более 1 миллиона 22 тысяч человек отказались от переписи» [2], а «более 2,5 миллионов человек отсутствовали в ходе переписи по месту жительства» [3].
В целом по официальным данным более 3,5 млн. человек не участвовали в переписи — их переписали заочно по регистрационным данным. По данным Фонда «Общественное мнение» в переписи населения 2010 «не приняли участие — 7% россиян» [4], что составляет при вероятности оценки в 95% от 9,2 до 10,9 млн. человек.
По данным опроса, проведенного другим крупнейшим российским социологическим центром ВЦИОМ , «доля тех, кто вообще не был переписан (либо их не застали переписчики, либо отказались от участия), по сравнению с 2002 годом возросла до 11%» [5]. Эта доля в абсолютном выражении составляет при той же вероятности — от 14,6 до 16,9 млн. человек. Расхождение между результатами опросов у крупней- ших российских социологических центров составило около пяти миллионов человек. Подобные результаты порождают сомнение в объективности полученной социологической информации хотя бы одного из них. К результатам таких опросов надо относиться осторожно, так как при всей кажущейся объективности и репрезентативности они, порой, бывают противоречивыми и не вполне корректными.
Следующее замечание касается корректности статистического сравнения, а именно, выбора базы сравнения, т.е. величины, с которой сравнивают достигнутые уровни. Этот вопрос особенно актуален при выявлении эффективности мер демографической политики, при построении прогнозов с вводимыми исследователем дополнительными условиями, при оценке возможных демографических потерь и т.п.
«Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» представляют вполне успешной. По данным Федеральной миграционной службы России за 6 лет ее действия, с июля 2006 г. по июнь 2012 г., в общей сложности в Россию прибыло 80735 ее участников с членами семей [6].
Но можно оценить эффект действия этой Программы по-иному.
Во-первых, весь миграционный прирост России составил со второй половины 2006 г. по июль 2012 г. — 1,5 млн. переселений. 1 Помимо этого, перепись населения 2010 года за период с 2002 по 2010 год добавила
«миграционным путем» около одного млн. человек. Так что, с середины 2006 г. по 2010 г. постоянных жителей России «иммиграционного происхождения» стало больше еще примерно на 600 тыс. человек. В итоге за 6 лет действия Программы в Россию безвозвратно переселились либо стали ее постоянным населением более 2,1 млн. человек. В их числе постоянно сокращающаяся с середины 90-х гг. ХХ века доля явных соотечественников (русских и других представителей коренных народностей России) составляла не менее 1/3, т.е. более 700 тыс. человек. Для сравнения, в конце 1990-х гг. эта доля была равна 2/3, а официальная статистика на этот счет после 2007 года в России отсутствует.
Из расчетов следует вывод, что лишь около 11% (80 тыс.) от этих 700 тыс. переселенцев-соотечественников пожелали воспользоваться помощью Программы. Следовательно, львиная их доля не смогли либо не захотели использовать преимущества. По-видимому, это было настолько сложно, что переселенцы обходились без нее, либо их не устраивали предлагавшиеся по Программе льготные («пилотные») регионы.
Во-вторых , до начала действия Программы в 2004 году 40% от всего сальдо миграции с новым зарубежьем приходилось на Центральный федеральный округ. По отчету ФМС 51% соотечественников переселились в субъекты Российской Федерации ЦФО. Другими словами, в проблемные регионы приток иммиграции за счет соотечественников в процентном выражении не вырос, а лишь усугубил и без того негативные тенденции во внутрироссийской миграционной ситуации.
Таким образом, если сравнивать результаты действия Программы с тем, в какую позитивную сторону изменилась под ее воздействием направленность иммиграционных потоков, и как эти потоки выросли относительно предшествующих периодов, то успешными результаты ее действия не назовешь.
Другой пример. В России с 2007 года начала действовать государственная программа помощи семьям с детьми, включающая предоставление «материнского капитала». Как подсчитать абсолютный текущий эффект от действия этих мер. Первый вариант — сравнить с предшествующим 2006-м годом. Тогда получится, что в течение шести лет (2007-2012 гг.) в России детей ежегодно в среднем рождалось на 300 тыс. больше, чем в 2006 году. Второй вариант — сравнить с тенденцией, которая наметилась после 1999 года.
После «лихих» 1990-х страна перешла в период относительного затишья, стабилизация общей обстановки привела к росту интенсивности деторождений, в том числе и отложенных. Помимо прочего, до 20062007 гг. росло число женщин в детородных возрастах. Тогда с учетом этих факторов и тенденций результаты стимулируемого государством роста уровня рождаемости будут более скромными — примерно по 100 тыс. рождений в год, т.е. в 3 раза меньшими, чем при первом варианте сравнения.
Возможен еще и третий вариант, учитывающий лишь рост интенсивности рождаемости без структурных изменений, с учетом тенденций увеличения возраста деторождений, устраняемых с помощью довольно сложных преобразований (например, индексов Бонгаартса-Фини). Тогда эффект увеличения абсолютных чи- сел рождений за счет лишь роста интенсивности деторождений будет еще меньшим. Все три способа сравнения имеют право на существование, поскольку база сравнения и метод расчета выбирается субъективно: все зависит от цели сравнения.
Следует заметить, что окончательный эффект роста рождаемости наиболее объективно можно будет оценить, лишь когда из детородного возраста выйдут женщины, попавшие под действие мер государственной политики, т.е. по среднему итоговому уровню деторождений соответствующих когорт женщин. А это произойдет лишь лет через 10-20. Тогда можно будет окончательно понять, какая часть из этих женщин ускоренно реализовала свои планы деторождений, а какая пошла на новые деторождения под воздействием мер политики государства.
Социологические опросы, в том числе проводимые Росстатом, полной ясности в данный вопрос не вносят, несмотря на кажущуюся высокой их репрезентативность. Опрашиваемые женщины, хоть и любят отвечать на вопросы, но часто приукрашивают и ситуацию, и планы, и даже обычную демографическую информацию о себе. Это происходит не только в социологических опросах, но даже при проведении переписей населения.
Так, по данным переписи населения России 2002 г. число женщин, состоящих в браке, оказалось больше, чем состоящих в браке мужчин примерно на 70 тыс. человек (по переписи населения 2010 года — более чем на 50 тыс. человек).
Таким образом, сравнение демографических явлений и процессов во времени либо в пространстве, эффективности мер демографической политики, результатов социологиче- ских опросов населения по демографическим проблемам часто бывает процедурой достаточно сложной и не освобожденной от элементов субъективизма, в особенности при выборе базы сравнения.
Вопрос выбора базы сравнения возникает в любой ситуации, когда в процессе поперечного анализа необходимо сравнивать между собой во времени либо в пространстве демографические явления со сложной структурой, итоговый уровень которых складывается, как минимум, из двух составляющих эти явления рядов элементов, непосредственно не поддающихся суммированию.
В этом случае в демографии используются индексные методы разложения (методы агрегатных индексов) и их частный случай — метод стандартизации, т.е. приведения сравниваемых сложных явлений к сопоставимой форме путем преобразования одного из составляющих эти явления рядов элементов к единому (стандартному) виду. Индексный метод позволяет выделить из общего изменения совокупного значения признака — изменение вследствие действия одной из двух составляющих — при неизменной другой, и наоборот, а также эффект от взаимного действия обеих составляющих.
Метод агрегатных индексов широко используется в «условно поколенном» сравнительном анализе абсолютных объемов и общих коэффициентов рождаемости и смертности. При исследовании динамики этих доступных любому кругу пользователей характеристик, либо при их территориальном сравнении, возникают вопросы, какая часть различий данных итоговых уровней объясняется, к примеру, разной интенсивностью повозрастных коэффициентов рождаемости или смертности, а какая разной половозрастной структурой населения сравниваемых совокупностей.
Индексное разложение может применяться для выявления роли любых существенных признаков явлений. Это может использоваться в случае с абсолютными объемами рождений либо смертей — типы местности рассматриваемой совокупности населения, уровень его образования, религиозная принадлежность, семейное состояние и т.п. К примеру, элементарное разложение чисел рождений в разрезе признака «тип местности» позволяет сделать вывод, что сокращение абсолютных чисел рождений в России (в составе СССР) в 1960-е — 1970-е годы объясняется не только общемировыми тенденциями, но и элементарными структурными изменениями. Происходило достаточно быстрое сокращение доли сельского населения страны, интенсивность рождаемости которого традиционно была и остается ощутимо выше, чем городского.
Рассмотрим алгоритм работы индексного метода на примере сравнения динамики общего коэффициента смертности, показывающего, сколько умерло человек на каждую тысячу средней за рассматриваемый период численности постоянного населения. Его динамику либо территориальное сравнение можно рассмотреть в разрезе существенного свойства — пола-возраста населения. Половозрастной разрез хоть и включает два свойства (пол и возраст) можно представить как разрез по одному сдвоенному признаку. В этом случае общий коэффициент смертности будет представлять собой сумму произведений половозрастных коэффициентов смертности на доли половозрастных групп населения. Сопоставляя две совокупности во времени либо в пространстве по общему уровню смертности, можно выделить две меры различий. Первая — вследствие разницы уровней рядов половозрастных коэффициентов, вторая — вследствие различий половозрастных структур сравниваемых совокупностей.
Сопоставляя в половозрастном разрезе общие уровни смертности нескольких совокупностей в пространстве (например, различных государств или регионов одной страны), в качестве весов структуры населения могут выступать стандарты: как средняя арифметическая из весов всех участвующих в сравнении территорий, так и некий общепринятый стандарт. Этим стандартом в межгосударственных сравнениях могут служить модели европейской или мировой структуры стабильного населения, предлагаемые с 70-х гг. XX века Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Рассчитанные по такому принципу итоговые коэффициенты смертности называются стандартизированными «прямым методом». Они отражают итоговые различия лишь в половозрастных уровнях смертности сравниваемых территорий (общие коэффициенты смертности, в отличие от стандартизированных показателей, выявляют совокупный эффект различий половозрастных уровней смертности и половозрастных структур населения).
Стандартизацию также можно провести по половозрастным коэффициентам смертности, т.е. вторым, или «косвенным методом», взяв в качестве стандартов средние уровни половозрастных коэффициентов смертности по группе сравниваемых территорий либо иные стандарты.
Выявленные таким способом различия итоговых стандартизированных коэффициентов смертности будут объясняться лишь различиями половозрастных структур населения сравниваемых территорий. Косвенный метод стандартизации используется не только в сравнениях, но и для восстановления половозрастной структуры населения, в частности, в ретроспективном анализе.
Выбирая веса для любой стандартизации необходимо помнить, что идеального стандарта не существует. Поэтому выбор стандартов — субъективный момент в исследовании, предопределяющий результаты сравнений и выводов. Максимально обоснованный выбор весов для стандартизации повышает объективность результатов исследования. Пользоваться отвлеченными стандартами необходимо лишь в случае крайней необходимости — когда средние веса для этой цели подойти не могут. Сравнивая между собой, например, регионы России лучше использовать средние взвешенные показатели по стране в целом либо по группе сравниваемых между собой регионов.
Приведем пример использования индексного метода в анализе демографических процессов. Изменение абсолютных чисел рождений можно объяснить двумя (либо даже тремя) составляющими, каждая из которых может быть как положительной, так и отрицательной, — изменениями повозрастных интенсивностей рождений и изменениями численностей женщин в различных по возрасту репродуктивных группах (15-49 лет).
Пользуясь официальной информацией Росстата по пятилетним возрастным группам, получаем, что в первый 2007 год действия мер господдержки семьям в сравнение с
2006 годом общий годовой прирост рождаемости составил чуть более 130 тыс. рождений, или на 9% больше, чем в 2006 году. Этот прирост, судя по результатам индексного разложения, складывался из двух разнонаправленных компонент — роста интенсивности возрастных коэффициентов рождаемости и негативного изменения структуры женщин репродуктивных возрастов.
Рост интенсивности рождений за год добавил бы стране примерно 145 тыс. рождений, если бы в 2007 году численность женщин в репродуктивных возрастах оставалась такой же, как в 2006 году. За это же время 15 тыс. рождений страна недополучила вследствие ухудшения контингента женщин репродуктивных возрастов.
Ухудшение контингента в данном случае означает сокращение численности либо изменение структуры женщин репродуктивных возрастов 15-49 лет, ведущее при постоянных возрастных коэффициентах рождаемости к снижению суммарного коэффициента рождаемости. Дело в том, что рост итогового уровня рождаемости может идти и при сокращении численности фертильного контингента, если при высоком уровне рождаемости в молодых возрастах приток молодых женщин будет отставать от численности оттока тех женщин, что уже выходят их детородного возраста.
С другой стороны, при одной и той же общей численности женщин 15-49 лет в динамике может улучшаться либо ухудшаться их возрастная структура. Все будет зависеть от того, какая часть этих женщин будет находиться в модальном детородном возрастном интервале (всех дето-рождений). На сегодняшний момент в России модальный интервал составляет 25-29 лет. Это женщины 19841989 годов рождения, т.е. благоприятных годов подъема рождаемости в СССР. Именно эта многочисленная когорта женщин поддерживает на высоком уровне рождаемость в России в 2010-2014 годах, несмотря на то, что структура женщин всего репродуктивного возраста 15-49 лет в стране претерпевает негативные изменения уже с 2007 года.
Данный пример наталкивает на вывод о том, что даже методом классической стандартизации не всегда можно получить достаточно объективную картину изменений во времени либо сравнений в пространстве, если не вдаваться в нюансы рассматриваемых явлений. Тем не менее, в большинстве случаев стандартизация в демографии необходима, и она направлена на повышение объективности выводов путем разложения общих результатов на части — компоненты сложных по своей структуре явлений.