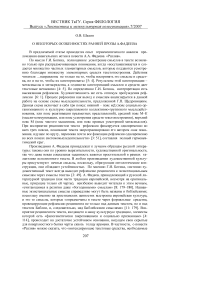О некоторых особенностях ранней прозы А. Фадеева
Автор: Шахин Ольга Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120453
IDR: 146120453
Текст статьи О некоторых особенностях ранней прозы А. Фадеева
-
- в начале первой строки характерное для официально-канцелярского стиля, которым писались извещения, начало «… И еще извещаем вас», содержащее в себе выход к смыслу «ожидание торжественности и трагичности»;
-
- явную семантическую избыточность и инвертированный порядок слов в синтаксической фразе «любимые дети ваши», выполняющие растягивание данного смысла;
-
- очевидную ритмизацию текста, под анапест, «когда трехсложный размер дает больше контрастности в ударениях, что существенно для … грозных предвестий» [4: 121], что приводит к приращению того же смысла при очередной фиксации рефлексии реципиента в верхнем поясе СМД, и т.п.
Читатель выходит к метасмыслам, онтологическим схемам и картинам: безысходность, невосполнимость утраты, крушение привычного мира, прикосновение к таинству смерти, о которой отец погибших братьев не случайно извещается словами церковного обихода («отдали Богу душу»), как и не случайно во всем фрагменте письма, приведенном автором в данном эпизоде, о смерти говорится лишь в церковном контексте («Кресты на них надели другие, а собственные их, нательные, посылаю вам по завещанию…»). Очевидно, в критические периоды жизни, трагические и тяжелые для души, общение невольно переходит на уровень высоких смыслов, соответствующий духовной напряженности момента. Кроме того, именно с этого эпизода происходит собственно введение автором темы сопоставления старого и нового, трудно рождающегося мира.
Совершая очередной виток, рефлексия реципиента задерживается на фразе «и два простых нательных крестика робко выпали на песок», фиксируется на нижнем уровне предметных представлений мД, затем на среднем уровне М–К (где задействуется опыт коммуницирования, связывающий наречие «робко» с метафорическим смыслом бережности, старания не нанести большей раны), далее выходит к поясу чистого мышления М (в котором происходит усмотрение смысла хрупкости, неверности человеческого бытия, и перевод его в разряд метасмысла «все под Богом ходим»). Происходит приращение данного смысла – ассоциируясь с крестом, который суждено нести каждому (известная каждому сентенция «у каждого свой крест»), робко выпадающие из конверта нательные крестики сыновей деда Нереты выводят и персонажа (деда), и читателя к следующему метасмыслу «окончание несения креста земной жизни», «последнее доказательство произошедшего несчастья с его детьми».
Опредмеченные в эпизоде смыслы, однако, незаметно переходят в противоположные себе. Это достигается немедленным авторским пояснением материальной подоплеки происходящего в следующем за вышеприведенной цитатой абзацем:
«Хозяйство у деда Нереты было крепкое: он жил всей семьей, не разделяясь. Когда старшие сыновья ушли на фронт (младший давно не жил дома), дед не сильно растерялся. Он мог еще работать сам, снохи - дебелые и крепкие бабы из-под Томска - пахали и косили, как мужики, а внуки-подростки тоже ели хлеб не попусту.
-
- Не унывай, детки! - говаривал дед на работе.- Вот мужики приедут - отдохнем все...
Теперь всё это рушилось. Ни к чему оказался пятидесятилетний труд. Впереди маячили только смерть и разорение перед смертью» [10: 269].
При восприятии данного отрывка текста возвращение рефлексии реципиента к метасмыслу эпизода с письмом («все под Богом ходим») неизбежно искажает и разрушает его, превращая в противоположный: «вторичность, поверхностность, декоративность связанных с верой слов и поступков, утилитарность их, отсутствие глубинного смысла». С этой позиции присутствие обиходно-церковных реалий и истин христианской веры в обыденной жизни раскрывается как «необходимый, принятый ритуал, обряд, когда в действительности никто и не думает о том, Богу ли они отдали душу, или нет». Всего лишь послушность обычаям, а не глубокое проникновение в мистический смысл смерти и погребения содержится в указании на то, что по традиции (по завещанию, как делали все или многие, как принято было делать) прислали крестики с убитых, перед похоронами не оставив их без креста, надев другие, чтобы похоронить «как положено».
Подобное понимание веры, спокойное и безразличное к ней отношение, характерно для основной массы второстепенных персонажей, таких как Антон Дегтярев, ссылающийся на Библию просто как на заведомо древний и, должно быть, авторитетный источник: «Сытый голодного не разумеет. Это, наверно, еще в священном писании сказано» [10: 294] и к слову вставляющий церковнославянские обороты «Радуйся, отче Харитоне, комаров нетути, – дождем побило» [10: 293]. При восприятии данного фрагмента текста рефлексия реципиента фиксируется в поясе М-К:
-
- усмотрение традиционной формы зачина припева ирмоса, одного из церковных песнопений;
-
- существительные в звательном падеже, сохранившемся исключительно в церковном обиходе ко времени действия романа, призванные создавать торжественный и благоговейный настрой («отче Харитоне»);
-
- существительное «отче», несомненно связанное с понятием святости, с одной стороны, а с другой стороны восприятие контрастно просторечного «комаров нетути, – дождем побило» (с нарочитым «нетути» и инвертированным порядком слов, кстати, слова эти принадлежат персонажу, который «под народный язык подделывался») [10: 293]. Ирония как троп и как отношение опредмечены в сочетании низкого и высокого стиля, и рядоположение их в одном контексте ставит смыслы «Божественного, святого, церковного» и «свойски-деревенского» на один уровень, тем самым низводя смысл первого до уровня пустой формы.
Рефлексия реципиента, выходя к топосам духа, верхнему поясу М, фиксирует это явное снижение, образуя метасмысл «пустота божественного, фальшивость приписывания ему надмирности, существование его только в контексте житейских отношений, за которыми ничего большего не стоит». Той же парадигме смыслообразования соответствует и следующий диалог:
«- Помогай Бог, - сказал таксатор.
-
- Бог помогает, помоги ты, - засмеялся Кривуля» [10: 297] .
«Разлив», одно из ранних произведений А.Фадеева, – единственное, в котором пока еще классовый подход не столь категоричен. Текст повести организован таким образом, что отрицательные персонажи являются носителями религиозности, а положительные – оказываются совершенно лишенными ее. Однако в «Разливе» еще много действующих лиц, религиозность которых – не признак реакционности и враждебности новому, большевистскому началу, а всего лишь следствие их житейской пассивности, классовой отсталости, так или иначе не вызывающих у автора и реципиента резкого неприятия. Например, интересна сцена организации спасения застигнутых стихией людей – беспомощные, безвольные, робкие, к тому же и неразумные (не вняли предупреждению о надвигающемся разливе реки), издавна привыкшие полагаться не на себя, а на Бога и перекладывать на Него всякую ответственность за свою жизнь, сельчане «сняли шапки и истово закрестились» [10: 315]. Равнодушные не только к новой власти, но и к собственной судьбе крестьяне справедливо противопоставлены завоевывающим авторитет энергичным, понимающим и благородным новым героям – большевикам, а их нарочито откровенное отношение к «божественному» выставлено в коротком диалоге:
«Лодка рванулась, а за ней, как утки, поползли другие.
-
- Спаси вас Бог! – закричали на берегу.
-
- Сами спасемся, - проворчал под нос Горовой» [10: 317].
Происходит приращение указанного выше метасмысла «пустоты и фальшивости божественного», средствами прямой номинации автором утверждается смысл «отделенность от Бога», «вера в себя вместо веры в Божий промысел». При попытке осмысления читателем всей сцены отправления лодок данный смысл растягивается до усмотрения символических категорий, что происходит следующим образом. Неожиданно для всех в селе появляется новый лидер Иван Нерета (по рождению здешний, но до того давно живший где-то в других краях), на которого только и возлагаются надежды попавших в беду и устремлены взоры всех собравшихся, словам которого внимают оставшиеся на берегу, как когда-то народ внимал стоявшему в лодке Христу. Вместо выполнения своих рыбацких обязанностей люди под его руководством идут на лодках спасать людей. Через фиксацию рефлексии в поясе предметных представлений мД возможен выход читателя в пояс действительности чистого мышления М: сопоставление происходящего в повести «Разлив» и евангельского сюжета призвания рыбаков к христианскому служению, а также известного обращения Христа к своим ученикам «Я сделаю вас ловцами человеков» [9: 241] приводит к усмотрению параллельных смыслов «долгожданное обретение бесценной истины», «бесспорная правота лидера», «признание ее народом». При выходе в пояс коммуникативной действительности М–К реципиент усматривает наряду с другими и такое средство тек-стопостроения, как говорящая фамилия: «нерета – рыболовный снаряд, верша …, плетеная из лозы; кошель на обручах, вязеный, из сети» [7: 877], что возвращает рефлексию читателя в пояс М, к евангельским сюжетам, закрепляя уже созданный автором образ Учителя, обладающего правом и истиной.
Образ нового лидера, Ивана Неретина, вопреки всевозможным препятствиям спасающего людей, невольно наводит на мысль о христианской самоотверженности, в изобилии описанной в житийной литературе, готовность его умереть за идею напоминает евангельские картины, рисуя Ивана апостолом нового революционного времени. Однако он из тех, кто не нуждаются в покровительстве Бога, и, интуитивно чувствуя это, его старый отец, до тех пор исполнявший все православные обряды и правила, впервые «не решается перекрестить» единственного оставшегося в живых сына, уходящего в опасное плавание [10: 316]. Не из-за свидетелей, столпившихся на берегу или недовольства сына старыми обычаями, а из внутреннего чувства неуместности смысла «перекрестить», т.е. дать свое родительское благословение (ведь оно дается отцом, лучше сына знающего мир и позволяющего ему самому столкнуться с этим миром) или таким образом выразить надежду на покровительство Бога. Здесь же младший сын знает мир лучше отца, а покровительство ему ничье не требуется. Подчиняясь этой новой силе, невольно признавая ее нравственную правоту, дед Нерета «не решился перекрестить» Ивана, ибо новый мир, пришедший с новым мессией (Иваном), не допускает в себя старые символы. Так смысл «преображенные евангельские истины» растягивается за счет многократного выхода реципиента к верхнему поясу СМД, поясу переживаемых парадигматических смысловых структур, вырастая до масштабов метасмысла всей повести.
Итак, через перевыражение в картинах деревенской жизни евангельских образов и смыслов происходит образование нового феномена – внешнее отрицание христианских истин (утвержденных ранее в форме церковной жизни, но скомпрометированных ее нестроениями) и внутреннее возрождение их через обновление, воплощение в действительной жизни жертвенности, верности, сострадания, etc.
Неодобрительное, враждебное отношение к церкви и религии как носителям ложной святости передано в повести средствами иронии, намеренного выбора персонажей – приверженцев той или иной идеи, и средствами опредмеченного или прямого указания на ненужность религии. Первое связано со следующей картиной:
«Рыжая кошка ловила на занавеске паута. Паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови. Он разомлел от жары, не мог летать и жужжал нудно и густо, как протодиакон» [10: 274].
Пробуждение рефлексии читателя происходит на уровне мД – в представлении всей картины целиком, при связывании множества образов воедино: чистые «белые занавесочки» на окне правления, оцепеневший от жары мир, мерное жужжание сонного паута (овода), сомлевшая рыжая кошка, лениво хватающая его лапой; далее мир предметных представлений перевыражается в поясе М–К, одновременно фиксируясь в поясе чистого мышления и выводя реципиента к усмотрению смыслов «схожесть сонного и недвижного деревенского полдня с сонностью, неподвижностью и оцепенением того мира, в котором присутствует «нудное гудение» протодиаконов и иже с ними». В отличие от строгого, благоговейного отношения к храму и его служителям, свойственного простодушному деревенскому люду, здесь выявляется критическое, уничижительное, ироническое «протодиакон нудно жужжит» (выход в пояс М–К и усмотрение выразительных средств текстопостроения, таких как стилистическая избыточность в сочетании слов «жужжит» и «нудно», звукоподражание с обилием шипящих з, ж , а также употребление множества сонорных ( м,л,р,н) , дающих ощущение слипшегося от жары и сухости языка). Меткое сравнение жужжания овода с пением протодиакона ведет к невольному сопоставлению и самих образов («паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови»), что в результате дает усмотрение смысла чего-то нечистого, зловредного, паразитического, в конечном итоге вызывающего явное неприятие. Однако стилистическое снижение отношения к «служителю культа» ведет к сниженному отношению к религии вообще. «Служители» только номинативно принадлежат к «божественной» части бытия человеческого, а по сути выпадают из неё, переходя
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация »,7/2007___ в ее противоположность. Так автором опредмечивается смысл «пустота и фальшивость религии».
Выбор автором персонажей, несущих в себе положительное восприятие религии, вполне в русле традиции советской литературы – это весьма сомнительные типы, и с классовой, и с нравственной точки зрения, что, например, представлено средствами прямой номинации в двух следующих отрывках:
«… он извещал о том, что кошкаровские староверы убили в тайге несколько китайцев из-за корня «женьшень», и просил прислать следственную комиссию.
-
- Сволочи! – вслух подумал Неретин. – Солдат не давали, потому религия не позволяет, а китайцев стрелять позволяет!» [10: 275].
Последняя страница повести содержит в себе буквально приговор всему религиозно-церковному, тем самым завершая развитие темы «приоритеты и ценности нового бытия»: «на угрюмых церковных задах притаилось темное и скучное кладбище. Но туда Неретин не посмотрел. Белела там новеньким, никому не нужным крестиком свежая могилка …» [10: 335]. Предметное представление, вырастающее из фиксации рефлексии в поясе мД, может дать нам образ выздоравливающего от смертной тоски человека, оставившего в прошлом своё личное счастье и готового полностью отдаться служению народному делу, строительству «новой жизни». Выход в пояс М–К дает усмотрение средств текстопострое-ния: церковь и церковное кладбище определены эпитетами «угрюмый», «темный» и «скучный»; крестик на могилке – «никому не нужный»; живо представляя себе погост, главный герой «туда не посмотрел». Подобные средства направляют луч рефлексии в верхний пояс М к идеологизированному метасмыслу «негативное отношение к вере и церкви, стойкое ассоциирование их с тёмным «проклятым прошлым», «нежелательность их присутствия в «новой жизни».
По словам Г.И. Богина, «каждая из фиксаций перевыражает другую, что и приводит к целостности понимания», а «всё…, что вливается в понимание как субстанцию из всех и каждой фиксации рефлексии, – всё это оказывается ипостасями, инобытиями некоторого единого, создающего целостность, – художественной идеи, задающей художественную реальность» [2: 3].
При освоении художественного текста рефлексия читателя направлена вовне на осваиваемый образ (переживание трагической ситуации персонажами повести, столкновение старого и нового в меняющемся мире, исполнение общинных и личных обязанностей и т.п.), далее – на рефлективную реальность (по терминологии Г.И. Богина, «отстойник опыта» реципиента), пройдя через которую, луч рефлексии несет на себе последствия рефлективного опыта, представленного в виде агломерации ноэм (минимальных единиц смысла), которые конфигурируются в категоризованные смыслы (метасмыслы). Попробуем проследить, какой метасмысл (или художественная идея) заметен при взгляде на данное произведение в целом.
Сам сюжет повести – реминисценция библейской истории о потопе, сметающем нечестивых с пути праведных, дающем возможность начать жизнь заново, с чистого листа. Выход читателя в рефлективную позицию приводит его к возможному выводу, что название «Разлив» несет в себе двойной смысл. Это не только очищающее начало, которое выявляет, как всякое несчастье, внутреннее содержание каждого участника события и демонстрирует всем, кто на стороне правды (Иван Неретин, и иже с ним), а кто нет (лавочник, мельник, таксатор, пьяница-учитель), разделяя персонажей не «чистых и нечистых». Второй, глубинный смысл содержит в себе образ разлива, неудержимого потока новой жизни, захватывающего всех и вся, внешне отменяющего старые основы жизни (смыслы жизни) и предлагающего новые, с традиционной верой не связанные. Однако при более внимательном рассмотрении в этих «новых» нормах и правилах нравственной жизни видны всё те же христианские начала. Постоянное возвращение к христианским смыслам как вечным онтологическим категориям и дает возможность полноценного понимания текста повести.