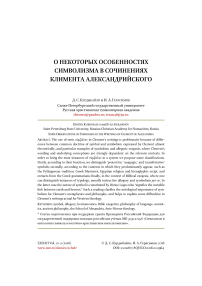О некоторых особенностях символизма в сочинениях Климента Александрийского
Автор: Курдыбайло Дмитрий Сергеевич, Герасимов Иван Андреевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Использование понятия σύμβολον в сочинениях Климента Александрийского остаётся проблематичным, несмотря на немалое число исследований, ввиду существенных разночтений между общим учением Климента о символе и символизме и тем, как оно практически применяется им в различных герменевтических ситуациях, где словоупотребление и обосновывающие его представления сильно зависят от контекста. Для упорядочения разнородного текстологического материала предложено классифицировать символы, во-первых, по их функции, «охранительной», «анагогической» и «манифестирующей»; во-вторых, по культурным контекстам, в которых они встречаются (пифагорейство, древнегреческие мистерии, египетская религия, труды греческих грамматиков); в-третьих, в христианском контексте, где доминирует библейская экзегетика, выделены типологическое, нравственно-увещевательное и собственно символическое употребления. В последнем аспекте подчёркнута роль Логоса, конституирующего природу символа, видимым образом «знаменующего невидимую связь неба и земли». Значительное внимание уделено Климентовой философии языка и лингвистической роли символа. В таком прочтении удаётся разрешить некоторые трудности, традиционно возникающие при прочтении Климента Александрийского.
Символ, аллегория, герменевтика, библейская экзегетика, философия языка, семиотика, история философии, александрийская школа, доникейское богословие
Короткий адрес: https://sciup.org/147103478
IDR: 147103478
Текст научной статьи О некоторых особенностях символизма в сочинениях Климента Александрийского
* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных МК-3031.2015.6 «Символизм и онтология символа в восточно-христианском неоплатонизме».
ΣΧΟΛΗ Vol. 10. 2 (2016)
Все вещи наполнены знаками, знающий из иного иное – мудрец .1
Теме символизма и аллегории в александрийской традиции и специально у Климента Александрийского посвящено значительное число научных исследований. Однако суждения о семантике σύµβολον и его отношениях со смежными понятиями (αἴνιγµα, ἀλληγορία и др.) до сих пор остаются противоречивыми. Так на основании Strom. 5 .58.6,2 Е. В. Афонасин заключает о терминологическом различении Климентом σύµβολον и ἀλληγορία по их семантике и функции (Афонасин 2003, 48). L. Roberts утверждал, что «Климент очень аккуратен с техническими терминами и редко использует σύµβολον» (Roberts 1975, 75); в то же время в одних только Строматах и Педагоге нами найдено 104 употребления σύµβολον, что трудно назвать редким. W. Völker писал об отсутствии у Климента устойчивой терминологии (Völker 1952, 13), и многие места Стромат , в самом деле, свидетельствуют едва ли не о синонимии σύµβολον и различных форм αἰνίσσοµαι. В Педагоге же в теснейшей связи стоят ἀλληγορέω и αἰνίσσοµαι, вводимые в евхаристическом контексте.3 Даже беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться в разнообразии семантики σύµβολον и смежных понятий в зависимости от контекста Климентовой мысли. С другой стороны, тот факт, что V книга Стромат почти целиком посвящена вопросу символизма, не позволяет считать словоупотребление Климента неупорядоченным или случайным. В нём, скорее, отражается сам «пёстротканый» стиль Стромат , за внешностью которого автор призывал читателей отыскивать скрытый смысл.
Из рассуждений Климента о природе и назначении символизма, кроме многих уверений в древности и распространённости его в различных рели- гиозных и философских традициях,4 можно выделить следующие функции символа:5
– «охранительная»: с одной стороны, загадочность символического языка охраняет от прикосновения к священному учению людей, к этому неподготовленных – «нечистое не должно касаться чистого», а «духовное могут оценить только духовные» ( Strom. 5.19.3–20.2); однако делается это не из «ревности» или «жадности» (т. к. с христианской точки зрения эти качества не могут быть приписаны Богу), но из заботы о самих постигающих людях, которые «разгадывая» «загадки, символы, аллегории, метафоры»,6 сами совершенствуются в познании истины ( Strom . 5.24.1–25.1), подготавливаются к богопознанию. Более того, человек может испытать даже вред от познания истин, к восприятию которых он ещё не готов ( Strom . 6.126.1). Таким образом, символ становится инструментом богообщения (Havrda 2010, 12–14 and 30), а «охранительная» функция при этом оказывается одновременно и педагогической ;
– «анагогическая» (возводящая): кроме того, что педагогическая функция применительно к совершенствованию в богопознании уже может рассматриваться и как анагогическая, отметим особо такой пассаж:
из чистой любви взирающий на телесную красоту, однако наслаждающийся не телесным образом, но душевным, как я полагаю, воспринимает тело как некое изображение, посредством которого он восходит к творцу этого создания и к истинной красоте. Так восходит он к святому символу (σύµβολον ἅγιον), светоносному образу праведности (χαρακτῆρα τῆς δικαιοσύνης), являемому восхождением ангелов… ( Strom. 4.116.2–117.1)
Явная аллюзия на «Гиппий больший» Платона в христианизирующей интерпретации понимает σύµβολον не как вещественный предмет, но, во-первых, помещает его в пространстве умопостигаемого мира, и, во-вторых, не придаёт ему субстанциального бытия – он выступает как свойство или качество (ποιότητα) души, играя роль некого «опознавательного знака» (таково одно из древнейших значений греч. σύµβολον). Такое словоупотребление у Климента, по-видимому, единственное;
– «манифестирующая» (выражающая): символ свидетельствует, являет, раскрывает символизируемое лучше, чем прямое, однозначное, буквальное описание. Здесь Климент приводит целый ряд аргументов: прежде всего, «сокрытые вещи, просвечивающие через завесу, оставляют впечатление об истине более внушительное и значительное, подобно тому, какое являют собой фрукты на дне ручья, просвечивающие через воду, или формы, покрытые вуалью, которая слегка меняет их очертания» (Strom. 5.56.5–57.2), – «вуаль» или загадочность символического описания скрывает малосущественные детали предмета и подчёркивает наиболее значимые, помогает выделить его сущностные черты, тогда как «всестороннее освещение проявляет дефекты в вещах» (ibid.), то есть их акцидентные особенности. Затем Климент подчёркивает полисемантичность символа, возможность различного толкования одного и того же образа или высказывания (напр.: Strom. 5.44.2–4), что для него не недостаток, а напротив, достоинство: чем шире и разнообразнее спектр возможных толкований, тем богаче символ, тем глубже его значение.7 Возможно, конечно, и неправильное истолкование символа неопытным человеком, но это вовсе не может быть причиной отказа от символического языка. Во-первых, как много раз подчёркивает Климент, «энигматический» язык свойствен «практически всем священным текстам» (Strom. 5.32.1–2), и, в частности, Спаситель всенародно излагает Своё учение в притчах, но смысл их истолковывает только ученикам (Strom. 6.126.1–128.1; ср.: Мр 4:10–12). Наконец, как показывает H. F. Hägg, у Климента есть вполне цельная концепция апофатического богопознания,8 и символический язык становится не только самым подходящим, но и единственным9 способом вести речь о Неизреченном.10
Стоит подчеркнуть, что три названные основные функции символа очень близки к свойствам и функции символов в теургическом неоплатонизме, а также у псевдо-Дионисия Ареопагита (ср. Петров 2010, 37–46). Главным отличием выступает акцент Климента на гносеологической и языковой стороне символа, тогда как его чувственно-материальная сторона едва ли не игнорируется – в сравнении с реальностью (в исконном значении, от лат . res) символа, например, у Ямвлиха или Прокла.
Когда Климент теоретически обсуждает роль символизма, σύµβολον вы- ступает вполне терминологически. Рядом исследователей предложено несколько наборов основных понятий, привлекаемых Климентом для описания диалектики выражения: так, C. Mondésert выделяет αἴνιγµα, ἀλληγορία, παραβολή, σύµβολον (Mondésert 1944, 88); I. Ramelli отмечает ἀλληγορία, σύµβολον, αἴνιγµα, αἰνίττοµαι (Ramelli 2011, 347). Кроме этого, Климент использует как технические термины ἀναφορά и µεταφορά (в одних только Строма-тах 7 и 4 раза, соответственно). Более того, в Строматах находим отчётливое различение σύµβολον и ἀλληγορία – мифологические персонажи и истории с их участием «должны пониматься не просто как всевозможные аллегоризации всех этих имён, но как выражающие универсальный смысл, который необходимо найти за символами, скрытыми за завесою этих аллегорий» (Strom. 5.58.6). Прежде всего, если символ полисемантичен, то аллегории однозначны в своём толковании.11 Заметим также, что аллегории чаще всего связаны с личностями – героями мифов или библейского повествования, тогда как символами чаще выступают неодушевлённые предметы; таким образом, аллегория может иметь дело с выдуманным, никогда не существовавшим лицом, символ же, как правило, соотносится со вполне реальным предметом. Но главное здесь то, что Климент вводит три уровня истолковываемого текста: буквальный, только ещё требующий толкования; уровень аллегорического прочтения и символический уровень. Далее мы увидим, как эта классификация применяется Климентом «на практике» – в библейской экзегезе.
Если типичный пример аллегории – объяснение личности мифологического персонажа как олицетворение некоторого общего понятия или безличного начала, то ἀναφορά у Климента явственно выступает «аллегорией наоборот»: используя этот троп, вместо упоминания стали речь пойдёт об Аресе, а вместо вина – о Дионисе ( Strom. 7.52.3).
Подчеркнём ещё один существенный момент: из всех употреблений слова σύµβολον значительную долю составляют примеры символизма, заимствованного из языческих религий и эллинской философии. Если в той или иной традиции, обсуждаемой Климентом, σύµβολον имеет свою особую семантику, то она хотя бы отчасти сохраняется и в устах христианского мыслителя. Здесь особенно значимы четыре области:
– учение пифагорейцев, которые свои изречения-ἀκοῦσµατα именовали «символами» (Thom 1994, 94). Здесь символическое значение имеют не только предметы или живые существа (как, напр., «не держать в доме ласточек» Климент толкует как «не принимать болтунов, шептунов и несдержан- ных на язык людей», Strom. 5.27.1–2), но и действия: «не плавай по земле» (Strom. 5.28.3) или «ярмо не перешагивай» (Strom. 5.30.1). Здесь же толкуются и «эфесские письмена», где сразу шесть иносказаний образуют вместе «символический порядок» (συµβόλων … τάξιν, Strom. 5.45.1–3);
– языческие мистерии, которые подробно обсуждаются в Протрептике . Климент прямо перечисляет технические термины, закреплённые в эллинской мистериальной культуре: σύµβολα, συνθήµατα, ἁγία.12 Очевидно, что «символами» в «мистериальном» контексте выступают те именно предметы, которые приносились и использовались посвящёнными, поэтому и выбор символов, и семантическое поле их истолкования ограничено языческой традицией, в которой Климент, несомненно, хорошо ориентировался;
– египетская языческая религия. Так, в ритуальном шествии принимают участие, среди прочих, «певчий, неся в руках какой-либо из музыкальных символов» и «астролог, … держа в руках горолог и пальмовую ветвь – астрологические символы» (Strom. 6.35.3–4). Символ здесь понимается скорее как эмблема или аллегория обобщающего характера.13 Более привлекает Климента «символическая философия иероглифического письма» (Strom. 1.153.2) (вернее же, его семантическая функция), сведения о котором, по утверждению I. Ramelli, он черпает у стоика Херемона, посвятившего этой теме специальный трактат.14 В Строматах мы находим достаточно сложную классификацию египетской письменности, которая подразделяется на эпистолографику, иератическое письмо и иероглифику. В иероглифике различают кириологическое и символическое; в последнем же – буквальное изображение по подобию (κατὰ µίµησιν), фигуральное или образное (τροπικῶς) и аллегорическое, выражающееся посредством загадок (ἀλληγορεῖται κατά τινας αἰνιγµούς – Strom. 5.20.3–21.3). Трудно судить, насколько здесь Климент оригинален, можно лишь констатировать, что сама терминология (σύµβολον, µίµησις, ἀλληγορία, αἴνιγµα) широко употребляется во всём тексте Стромат и других его сочинений. Отчасти, разумеется, это обусловлено общим влиянием стоической аллегорезы на Климента15 и Хе-ремона–стоика. Однако даже самые сложные и «возвышенные» примеры египетского символизма, напр.: «ребёнок как символ рождения, старец как символ разрушения, … сокол – символ Бога, и рыба – символ ненависти»16 позволяют видеть в них скорее аллегорию, нежели символ, если руководствоваться принципом из Strom. 5.58.6. То же можно сказать и об изображении планет «в виде змеевидного знака … из-за кривизны их пути», а Солнца – в виде жука-скарабея (Strom. 5.21.2–3), корабля или крокодила (Strom. 5.41.2–3). Несмотря на уверения Климента в том, что «египетские загадки и таинства очень похожи на те, которые были в ходу среди иудеев» (ibid.), сравнивая их с его толкованиями, скажем, ветхозаветной скинии или облачения первосвященника17, убеждаемся не просто в семантической бедности египетского символизма, но фактически в отсутствии символического пласта, который, по определению Strom. 5.58.6, должен выстраиваться поверх пласта аллегорического;
– единственный, но значительный фрагмент с упоминанием понятия σύµβολον, выработанного греческими грамматиками, в цитате Дионисия Фракийца (I в. до н. э., автор трактата «Τέχνη γραµµατική»):
Действия можно выразить не только в словесной форме, но и с помощью символов. Поучения в словесной форме – это, например, дельфийские изречения «ничего слишком» или «познай себя». Примерами же поучения в символах может быть обычай (заимствованный у египтян) устанавливать в храмах вращающиеся колеса. Символическое значение имеют [также и] ветви, которые раздаются пришедшим на поклонение.18
До некоторой степени такое понимание символа может считаться противоположным полюсом по отношению к пифагорейским акусмам, а наиболее близким – к символизму египетской иероглифики (недаром Дионисий в качестве первого примера приводит именно египетский обычай).
Во всех перечисленных контекстах Климент хотя и стремится доказать универсальность символизма в разных религиях и философских учениях, он, тем не менее, не может позволить себе игнорировать специфические черты каждой обсуждаемой традиции, и понятие σύµβολον в каждом случае приобретает свои особые черты – почти всюду ограничивающие ту онтологическую глубину, которую вкладывает в него Климент, когда исходит из своих собственных убеждений.
Терминологически σύµβολον, ἀλληγορία и производные αἰνίσσοµαι заслуживают ещё одного замечания. Дело в том, что в своих сочинениях Климент к христианскому вероучению избегает прилагать понятие «богословие» (θεολογία – см. Ramelli 2007, 356, n. 117), а к христианским священнодействиям – «таинство» (µυστήριον, τελετή).19 По всей видимости, эти слова для него скомпрометированы употреблением в греческом язычестве. Но и ἀλληγορία широко использовалась стоиками, причём применительно к мифам о языческих богах.20 Тем не менее, ἀλληγορία принимается Климентом и используется лишь немного реже, чем σύµβολον.21 Да и самый σύµβολον, используемый в языческих мистериях по признанию самого же Климента, казалось бы, скомпрометирован даже в большей степени. Можно предположить, что фактором, определяющим, можно ли принять термин языческой философии или нет, служит поставленная цель рассуждения: в одном случае Климент стремится подчеркнуть отличие христианского учения от языческих верований и потому проводит чёткую границу именно внутри «богословского» лексикона; в другом – напротив, стремится фундировать «христианскую философию» на древних религиозных и философских воззрениях, и тогда использует одну и ту же лексику в описании разных традиций. Иными словами, средства языка у Климента подчинены его богословию и умело применяются в соответствии с поставленной – апологетической или миссионерской – целью.
Вслед за стоиками Климент уделяет большое внимание языку и высказывает ряд существенных «лингвофилософских» взглядов. Для нашей темы наиболее важен фрагмент VIII книги Стромат, где выстраивается трёхчленная иерархия порождающая язык как таковой: имена или слова (ὀνόµατα), которые являются символами понятий (νοήµατα); сами эти понятия; и вещи (τὰ ὑποκείµενα πράγµατα), чувственно воспринимая которые, мы понятия постигаем (Strom. 8.23.1–5, см. тж. Roberts 1975, 74–75). Климент признаёт универсальность νοήµατα для всех людей, тогда как словесно выражаться они могут на разных языках по-разному. Из этого вытекает равноправие всех языков: в отличие от Оригена, считавшего еврейский язык выделенным и особенным среди прочих (отчего, в частности, священные имена Бога оказываются принципиально непереводимыми – Contra Celsum, 1.24–25), Климент считает «индивидуальные особенности всех диалектов» никак не влияющими на то, как они передают знание, если оно выражено символическим образом – то есть с помощью тех самых аллегорий, загадок и т. п. (Strom. 6.129.1–130.2) Иными словами, семантическая структура символического высказывания остаётся инвариантной при переводе на любой язык (если, конечно, он выполнен корректно).
Тем не менее, есть наречия более молодые и более древние, «слова [которых]… возникли естественным путём. Поэтому признаётся, что молитвы на языке варварском более действенны, чем на других языках» ( Strom . 1.143.6–7). Но здесь целью Климента стоит не привести рассуждение к исключительности еврейской речи, а подчеркнуть вечную «молодость» эллинского нрава, культуры и, в том числе, языка, – по слову Платона: «вы, эллины, вечно остаётесь детьми, и нет среди эллинов старца!» ( Tim . 22b4–5) – и, соответственно, удержать эллинов от пренебрежительного отношения к варварскому языку и обычаям ( Strom . 1.77.2–3, 1.78.1–2).
Если принять, что лингвистический символизм продолжает общую линию учения Климента о символе, то дополняя его отношением слова и понятия, можно положить, что символизируемое должно par excellence относиться к сфере невещественного, общего и универсального, тогда как символизирующее – вещественного, частного и особенного. С такой точки зрения изображение, скажем, солнца в виде крокодила или корабля не может считаться символом – по крайней мере, покуда солнцу не приписываются личностные свойства божества или иного мифологического персонажа.
Теперь мы можем обратиться к библейской экзегезе Климента. Здесь важно помнить один из базовых принципов александрийской экзегезы, начиная уже с Филона: Библия рассматривается как целостный, связный и когерентный текст, в котором для толкования выбранного места может быть привлечён любой фрагмент любой книги (Ramelli 2011, 3487–349). В тексте Писания Климент видит три (или четыре) уровня:22 в виде знаков (ὡς σηµεῖον), в виде заповедей (ὡς ἐντολήν) и в виде пророчеств (ὡς προφητείαν). Четвёртый уровень мог бы быть буквальным («по уподоблению»).
Что касается пророчеств, то Климент, по всей видимости, имеет в виду ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии, сбывшиеся по вочеловечении Слова Божия – типологический слой, для обозначения которого уже Ориген использует τύπος / τυπικώς, актуализируя экзегетический принцип ап. Павла из 1 Кор 10:11 (см. Курдыбайло 2016, 57–60). Не избегает его и Климент:
…Таков был тип (τύπος) «закона и пророков» до времён Иоанна. Последний, хоть и выражался яснее, поскольку уже не пророчествовал, но указывал на то, что присутствует ныне и было символически (συµβολικῶς) предвещено от начала, тем не менее говорил [иносказательно]: «я не достоин развязать ремень у обуви Его» ( Strom . 5.55.1.1–2.1).
«Пророчество» или «типический» символ отличаются тем, что изображаемое есть событие, прежде всего, в истории, которое имеет прообразом либо друге, предшествующие исторические события, либо явную речь пророка о грядущем. Символизируемое и символическое, хотя и разнесены на совершенно различные аксиологические уровни, но оба соотносятся с вещественным миром и историческим временем. Заметим, впрочем, что «пророчества» Климент признаёт и за «варварскими философами» ( Strom . 5.51.1).
Под заповедями, вероятно, могут пониматься наставления этического характера и, соответственно, символические/аллегорические обозначения человеческих добродетелей, пороков и соотносимых с ними способностей души. Например, свинья может означать любовь к удовольствиям и нечистым желаниям чревоугодия, жвачное животное – того, кто хранит в своём сердце услышанное слово, обсуждает, соблюдает и понимает его; парнокопытное же – праведника, который живя в этом мире, ожидает прихода мира вечного ( Strom. 5.51.2-5; ср. Strom. 5.52.1–2). Египет и Ханаан символизируют «мирские заблуждения или же душевные страсти и пороки» ( Strom. 2.47.1–2). Такая же прямолинейность встречается и в истолковании евангельской притчи о работниках одиннадцатого часа: здесь количеством часов обозначены «различные степени добродетели», а динарии служат намёком, указывающим (αἰνίσσεται) на спасение ( Strom . 4.36.5–37.1). Подобным образом и в притче о десяти девах ночь означает тьму неведения, а лампады – свет ума в поиске истины ( Strom. 5.17.3, где стоит ᾐνίξατο – аорист αἰνίσσοµαι). То же αἰνίσσοµαι связывает и разноцветные одежды Иосифа, брошенного братьями в ров, либо с разнообразными познаниями, приобретенными тяжким трудом, либо со страстями, «которые толкают к бездонной яме». Ров же обозначает отсутствия вéдения, а Египет – «пустыню божественного Логоса» ( Strom. 5.53.2–5; αἰνίττεται стоит в 5.53.1.5).
Наконец, остался пласт истолкований «ὡς σηµεῖον». В него входят собственно символические обороты, отвечающие критерию из Strom. 5.58.6. Начиная с нравственного истолкования Числ 15:30, Климент затем отмечает, что уста, сердце и руки суть символы, соответственно, слова, воли и действия (Strom. 2.98.1.1–3). Аналогичным образом и «изображение херувимов имеет символическое значение: лицо [является символом] души, крылья – служения и действия возвышающихся слева и справа сил, а уста – гимн сла- ве в непрестанном созерцании» (Strom. 2.36.4–37.1).
Значительное место занимает толкование предметов во Святом святых скинии и облачения ветхозаветного первосвященника, которое основано на аллегорическом объяснении их Филоном Александрийским, существенно переосмысленном Климентом.23 Ключевой фразой здесь звучат слова о священных предметах, которые «посредством видимых символов знаменуют невидимую связь неба и земли».24 Перечисляя цвета покрова и занавеси, значение жертвенника, пяти столбов, семисвещника, хлебов предложения, фигур херувимов, Климент сначала сопоставляет им части чувственного космоса: четыре стихии, землю и поднимающийся от неё пар, «средоточие неба и земли», семь планет, южные ветра и созвездия Большой и Малой медведицы либо же целиком две полусферы неба. Однако параллельно с этим «космологическим» толкованием вводит и другое, так что здесь появляются и «таинственный смысл пяти хлебов, преломленных Спасителем и насытивших всю толпу его слушателей», и тетраграмматон – «таинственное имя Бога», и уподобленный солнцу Христос, «проливающий свет многократно и многообразно на тех, кто надеется и смотрит на Него», и «различные Церкви, образующие вместе одно церковное собрание», и «относящиеся к умопостигаемому миру … надписи на святом ковчеге», и символизируемое Херувимами «великое знание» ( Strom. 5.32.2–36.4).
Иными словами, здесь присутствуют те два уровня, из которых один был соотнесен Климентом с аллегорией, а другой – с символом.25 Подобным образом говорится и об облачении первосвященника – речь начинается с небесных светил, а затем переносится на Христа, Которому «подвластны закон и пророки» ( Strom . 5.37.1–2, 5.38.2–5).
Для обозначения Бога и Его Логоса через «огонь и свет» Климент использует «ἀλληγορεῖται» ( Strom . 5.100.4), в другом месте Сын Божий назван «днём и светом» – аллегорически и метафорически,26 также ἀλληγορεῖν стоит в сравнении Церкви с Телом Христовым ( Strom . 7.87.3-4). Как видим, «высший пласт» символизации далеко не всегда обозначается словом σύµβολον, а ἀλληγορία не всегда связана с пластом «средним». Также σύµβολον может охватывать сразу всю полноту семантических связей в таком «многоуровневом» толковании.
Особую роль в приведенных примерах играет установление своего рода изоморфизма между макрокосмом и микрокосмом; последний дан здесь как образ мира в символах священных предметов. Полнота отображения космоса в них свидетельствует о всеобъемлемости и универсальности тех умных начал, которые стоят за символикой чувственного. Достижение такой совершенной полноты, видимо, служит необходимым условием для перехода на следующую, высшую онтологическую ступень.
Одним из ярких образов изоморфизма макрокосма и микрокосма служит образ музыкальной гармонии: Христос, сравниваемый с Орфеем,27 играет прекрасную песнь на целом космосе как музыкальном инструменте (см. цитаты: Братухин 2006, 38–41) и Своей «Новой песней» настраивает души людей на новый, евангельский лад.
Надо полагать, что это – не просто художественный образ, но выражение глубинного основания философии и богословия Климента. Вслед за Эриком Осборном не будем забывать, что по своему «многослойному» устроению и сами Строматы подобны Св. Писанию в том, что требует определённых экзегетических усилий для выявления главных идей, связующих разноцветные «лоскутки» в единое пёстрое «покрывало» (Osborn 2008, 11). Божественный Логос, устанавливающий мировую гармонию, видимо, распространяет её и на всё человеческое бытие. Устанавливая «невидимую связь неба и земли», Логос тем самым даёт онтологическое основание символизму в самых разнообразных сферах – и экзегетической, и лингвистической, и сакраментальной.
Как представляется, в этом заключается главная особенность Климентовой «символологии»: если для нас привычно видеть в вещественном символе указание на умопостигаемую сущность и, возможно, её манифестацию себя с помощью символа, то для Климента само символическое отношение уже как таковое являет собой Божественный Логос – это отношение установивший и поддерживающий. Поэтому символы даже, казалось бы, не самых значительных вещей тем не менее завораживают взгляд богослова, видящего в этом символизме отражение ипостасного Слова.
Такой взгляд на богословие символа объясняет, в частности, почему в Строматах столь много места уделено языческому символизму: если символизм онтологичен и универсален, то и философская мысль язычников, если только ей удаётся постигнуть подлинную символическую связь между чем-либо, то она – пусть даже не сознавая этого – подлинно прикасается к тому Логосу, о котором учит Церковь.
Наконец, мы можем попробовать прояснить одно проблематичное место в Педагоге :
Под образом плоти иносказательно говорится (ἀλληγορεῖ) о Святом Духе, ибо плоть Им создаётся. Кровь намёком обозначает (αἰνίττεται) собой Логос, потому что, подобно крови, Логос богатейшую разливает жизнь [по миру]; смешение (κρᾶσις) же обоих – Господь, пища детей. Господь – [вместе] и Дух Святой, и Логос. Пища же – Господь Иисус; это значит, питаемся мы Логосом Бога [и вместе] воплощенным Святым Духом, священной небесной плотью ( Paed . 1.6.43.2.2–3.3).
Это место стало поводом для дискуссий между католическими и протестантскими теологами в вопросе о «реальном присутствии» Иисуса Христа в Евхаристии. Католическая сторона интерпретировала приведенный пассаж как описывающий духовный гнозис и не имеющий прямого отношения к Евхаристии, так как речь Климента была воспринята как содержащая повод к отрицанию действительности пресуществления Свв. Таин (van Eijk 1971, 113). По мнению A. H. C. van Eijk, «задавать вопрос» Клименту о присутствии Христа в Евхаристии некорректно в принципе, если принимать особенности его языка, контекст этого фрагмента и, наконец, то, что в его время богословие Евхаристии существовало лишь в зачаточном состоянии. Автор подчёркивает, что Климент даже в коротком пассаже использует разные слова «аллегорического» ряда и, наконец, заключает, что «такие термины как ἀλληγορία, τύπος, εἰκών, παραβολή, αἴνιγµα, σύµβολον эквиваленты» (ibid., 116–117).
Как мы смогли убедиться, неустойчивость терминологии у Климента вовсе не означает отсутствия у него определенной онтологии символа. Если Климент ставит в один ряд слова «тело», «плоть», «кровь» и «молоко», то это может означать не только, что «один и тот же Логос может аллегорически описываться разными способами» и что Климент «более заинтересован в соединении с Логосом, т. е. в res sacramenti , чем в видимых сакраментальных средствах, с помощью которых это происходит» (ibid., 116, cf. 111).
Церковные таинства, в которых человек соединяется с вещественными «символами», – в частности, Евхаристия и Крещение – предоставляют особый способ участия в установленной Логосом «невидимой связи неба и земли» – физическое соединение с символом, а значит, и с Логосом, его конституировавшим. Представляется неслучайным, что в цитированном месте Педагога в существенной близости упоминаются именно эти два Таинства (соотв., 1.6.26–28 и 1.6.43): вероятно, для Климента их связь, которую он пытается обосновать библейскими и естественнонаучными доводами, изначально явлена онтологически, через физический контакт человека с вещественным «символом». Разумеется, это соединение – один из возможных вариантов, наряду с умным созерцанием символов, восхождения к их первообразам, приводящего к познанию Логоса; но это нисколько не умаляет «реальности» самого вещественного символа и, соответственно, таинств.
Таким образом, если и можно говорить о «евхаристическом символизме» Климента, то это понятие имеет совершенно своеобразное содержание и заметно отличается от такового, например, у псевдо-Дионисия Ареопаги-та или прп. Максима Исповедника.28
Как видим, употребление Климентом σύµβολον, ἀλληγορία и производных αἰνίσσοµαι в целом мало упорядочено. Значительно число случаев, когда эти слова используются в контексте различных традиций, которые приводятся для того или иного примера, и оттого приобретают свойственные этой традиции семантические оттенки. Со сменой контекстов возникает «текучесть» семантики.
Собственно, Климентово понимание символа открывается в его общетеоретических рассуждениях о символизме и практических примерах библейской экзегезы. Хотя и здесь возможны случаи неточности терминов, тем не менее, контекст всегда позволяет идентифицировать тип символического высказывания. Онтологическим основанием символизма выступает Божественный Логос, соединяющий чувственный и умопостигаемый миры и человека во единое гармоническое устроение, пронизанное незримыми связями, которые являют себя в зримых символах. Из этого положения вытекает универсальная ценность познания символов для любых народов и носителей любых языков и, в целом, учение о языке. Преобладающий интерес Климента к гносеологической, языковой и числовой29 стороне символа дополняется его анализом таинств Крещения и Евхаристии, который сфокусирован на вещественно-физической стороне священных символов, что, в целом, позволяет воссоздать вполне сбалансированную картину.
Список литературы О некоторых особенностях символизма в сочинениях Климента Александрийского
- Boer, W. den (1947) “Hermeneutic Problems in Early Christian Literature,” Vigiliae Christianae 1.3, 150-167.
- Bucur, B. G. (2007) “Revisiting Christian Oeyen: «The Other Clement» on Father, Son, and the Angelomorphic Spirit,” Vigiliae Christianae 61.4, 381-413.
- Eijk, A. H. C. van (1971) “The Gospel of Philip and Clement of Alexandria: Gnostic and Ecclesiastical Theology on the Resurrection and the Eucharist,” Vigiliae Christianae 25.2, 94-120.
- Ferguson, J. (1976) “The Achievement of Clement of Alexandria,” Religious Studies 12, 1, 59-80.
- Gagné, R. and Herrero M. (2009) “Themis at Eleusis: Clement of Alexandria, Protrepticus 2.22.5,” The Classical Quarterly 59.1, 289-293.
- Giulea, D. A. (2010) “The Divine Essence, that Inaccessible Kabod Enthroned in Heaven: Nazianzen's Oratio 28,3 and the Tradition of Apophatic Theology from Symbols to Philosophical Concepts,” Numen 57.1, 1-29.
- Grant R. M. (1946) “The Bible in the Ancient Church,” The Journal of Religion 26.3, 190-202.
- Hägg, H. F. (2006) Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism. Oxford University Press.
- Havrda, M. (2010) “Some Observations on Clement of Alexandria, Stromata, Book Five,” Vigiliae Christianae 64.1, 1-30.
- Hoek, A. van den (1988) Clement of Alexandria and his Use of Philo in the Stromateis: an Early Christian Reshaping of a Jewish Model. Leiden: Brill.
- Huskinson, J. (1974) “Some Pagan Mythological Figures and Their Significance in Early Christian Art,” Papers of the British School at Rome 42, 68-97.
- Knowlton, E. C. (1930) “Notes on Early Allegory,” The Journal of English and Germanic Philology 29.2, 159-181.
- Mondésert, C. (1944) Clément d'Alexandrie, Introduction à l'étude de sa pensée religieuse à partir de l'écriture. Paris.
- Osborn, E. (2006) “One Hundred Years of Books on Clement,” Vigiliae Christianae 60.4, 367-388.
- Osborn, E. (2008) Clement of Alexandria. Cambridge University Press.
- Ramelli, I. (2011) “The Philosophical Stance of Allegory in Stoicism and its Reception in Platonism, Pagan and Christian: Origen in Dialogue with the Stoics and Plato,” International Journal of the Classical Tradition 18.3, 335-371.
- Ramelli, I. (2007) “Christian Soteriology and Christian Platonism: Origen, Gregory of Nyssa, and the Biblical and Philosophical Basis of the Doctrine of Apokatastasis,” Vigiliae Christianae 61.3, 313-356.
- Roberts, L. (1975) “The Unutterable Symbols of (Γῆ)-Θέμις,” The Harvard Theological Review 68.2, 73-82.
- Runia, D. T. (2004) “Clement of Alexandria and the Philonic Doctrine of the Divine Power(s),” Vigiliae Christianae 58.3, 256-276.
- Shaw, G. (1999) “Neoplatonic Theurgy and Dionysius the Areopagite,” The Journal of Early Christian Studies 7.4, 573-599.
- Thom, J. C. (1994) “«Don't Walk on the Highways»: The Pythagorean Akousmata and Early Christian Literature,” The Journal of Biblical Literature 113.1, 93-112.
- Völker, W. (1952) Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus. Berlin.
- Афонасин, Е. В. (1997) Философия Климента Александрийского. Новосибирск.
- Афонасин, Е. В. (2003) «“Строматы” Климента Александрийского», Климент Александрийский. Строматы. Изд. подг. Е. В. Афонасин. Т. 1. Санкт-Петербург, 6-76.
- Братухин, А. Ю. (2006) «Тит Флавий Климент -примиритель противоположностей», Климент Александрийский. Увещевания к язычникам. Кто из богатых спасётся. Пер. с др.-греч., вступ. ст., комм. и указатель А. Ю. Братухина. Санкт-Петербург.
- Епифанович, С. Л., Сидоров, А. И., пер. и комм. (1994) Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. М.: Мартис.
- Курдыбайло, Д. С. (2015) «От игры к мистерии: об интерпретации этимологий в диалоге Платона „Кратил”», Платоновские исследования III.2, 92-116.
- Курдыбайло, Д. С. (2016) «О символе и символизме в трактате Оригена „Против Кельса”» // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие, философия 1(63), 53-68.
- Курдыбайло, Д. С., Курдыбайло И. П. (2015) «О переосмыслении мифа о колеснице души из „Федра” Платона в „Похвальном слове Константину” Евсевия Кесарийского», Соловьёвские исследования 3(47), 49-66.
- Петров, В. В. (2010) «„Реальный” символ в неоплатонизме и в христианской традиции (в Ареопагитском корпусе и у Карла Ранера)», Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие, философия 3(31), 36-52.
- Петров, В. В. (2008) «Таинство “синаксиса” у псевдо-Дионисия Ареопагита и у прп. Максима Исповедника», Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие, философия 4(24), 52-63.
- Топоров, В. Н. (1989) «Мейстер Экхарт-художник и “ареопагитическое” наследство», Палеобалканистика и античность, Москва: Наука, 219-252