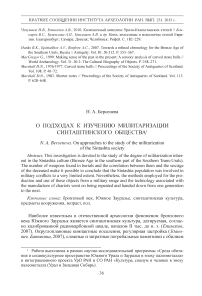О подходах к изучению милитаризации Синташтинского общества
Автор: Берсенева Н.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 231, 2013 года.
Бесплатный доступ
Это исследование посвящено изучению степени милитаризации, присущей культуре Синташты (бронзовый век в южной части Южного Зауралья). Количество оружия, найденного в погребениях, и соотношение между ними и полом / возрастом покойного, позволяют сделать вывод о том, что население Синташты в очень ограниченной степени вовлечено в военные конфликты. Тем не менее методы, используемые для производства и использования этих объектов из военного пространства и технологии, связанные с изготовлением колесниц, повторялись и передавались из поколения в поколение.
Бронзовый век, южное зауралье, синташтинская культура, предметы вооружения, возраст, пол
Короткий адрес: https://sciup.org/14328578
IDR: 14328578
Текст научной статьи О подходах к изучению милитаризации Синташтинского общества
Наиболее известным в отечественной археологии феноменом бронзового века Южного Зауралья является синташтинская культура, датируемая, согласно калиброванной радиокарбонной шкале, началом II тыс. до н. э. (Епимахов, 2007). Округлоплановые компактные поселения, регулярная застройка (Здано-вич, Батанина, 2007), сложные и затратные погребальные памятники с обилием инвентаря и жертвоприношений домашних животных (Генинг, Зданович, Ге-нинг, 1992) выделяют ее из круга культурных образований этого и сопредельных регионов как в синхронном, так и в диахронном плане. Несмотря на то что уровень «милитаризации» синташтинского общества еще предстоит внимательно изучить2, сложная фортификация поселений и наличие предметов вооружения в могильниках сомнений не вызывают. Население владело новейшими для своего времени технологиями, ярким примером которых является колесничный комплекс.
Предметы, связываемые исследователями с военной сферой, представлены всеми основными категориями: (1) оружие дистанционного боя – наконечники стрел и дротиков, детали лука; (2) оружие ближнего боя – наконечники копий, металлические топоры и каменные булавы; (3) защитное вооружение – пластины костяного доспеха3. Колесницы и средства управления лошадью могут быть, вероятно, также отнесены с этой сфере деятельности ( Чечушков , 2011. С. 60).
Из вышеперечисленного металлическое оружие ближнего боя может быть названо военным атрибутом с достаточной степенью уверенности и с функциональной точки зрения имеет обширные аналогии в культурах бронзового века Евразии ( Дегтярева , 2010. С. 90, 122). Но лук был, скорее всего, полифункци-онален, он мог использоваться и для охоты. Колесницы, безусловно, имели отношение и к ритуальной сфере, однако чрезвычайная изношенность некоторых роговых псалиев, установленная трасологически, предполагает их интенсивное и длительное использование ( Усачук , 2005. С. 186).
С другой стороны, мы наблюдаем полное отсутствие археологически и антропологически зафиксированных следов военных действий с применением оружия; вопрос о потенциальных врагах синташтинских коллективов также остается открытым. С палеодемографической точки зрения, большой процент детских погребений (в среднем 50%, на некоторых памятниках – до 80%), отличающий синташтинские кладбища, нельзя назвать характерным для обществ с высокой степенью военной активности.
Удельный вес погребений с оружием и распределение упомянутых выше категорий инвентаря по гендерно-возрастным группам, представленным в могильниках, вызывает в связи с вышеизложенным вполне оправданный интерес. В работе использовались опубликованные данные по Южному Зауралью и Приуралью4. Всего в базе данных, собранной автором по публикациям, учтены
343 индивида; к сожалению, значительная их часть не имеет половозрастных определений5. Поэтому для анализа и корреляций использовались только данные погребений с установленным полом (для взрослых) и возрастом (для детей). Пол был определен для 89 взрослых скелетов. 48 индивидов идентифицированы как мужчины, 41 – как женщины. Детские останки представлены в синташтин-ских некрополях наиболее массово – не менее 179 индивидов.
В случае с коллективными могильными ямами принимались во внимание лишь те захоронения, где принадлежность сопроводительного инвентаря конкретному индивиду не вызывала сомнений. Проблема заключается в том, что большинство (70% – 32 из 46) антропологически определенных мужчин захоронено в крупных коммунальных могильных ямах. Ситуация с женщинами немногим лучше – 58,5% (24 из 41) погребено в парных и коллективных усыпальницах ( Епимахов, Берсенева , 2012). Потревоженность этих ям обычно затрудняет соотнесение найденных предметов с конкретными скелетами.
Результаты корреляции между полом/возрастом погребенного и наличием предметов вооружения отражены в табл. 1.
Из таблицы видно, что подавляющее большинство предметов, соотносимых с военной сферой жизни, обнаружено в мужских погребениях. Оружием сопровождались как минимум 20 индивидов мужского пола (напомним, что мужчины, очевидно, есть и среди погребенных с оружием без определения пола), возрастом от 15 до 50 лет, т. е. всех возрастных групп. В этих могильных ямах представлены все категории предметов вооружения, в том числе в сочетаниях с остатками колесниц и деталями конской упряжи.
Не будет большим преувеличением сказать, что в женских погребениях оружие отсутствует полностью. Лишь в трех одиночных женских погребениях на могильнике Бестамак среди сопроводительного инвентаря найдено по два-три наконечника стрел (возраст умерших 25–35 лет). Кроме того, в могильнике Синташта (яма 22) в одиночном непотревоженном, вероятно женском (судя по серебряному накосни-ку), погребении был расчищен каменный наконечник стрелы с обломанным острием в области коленного сустава ( Генинг, Зданович, Генинг , 1992. С. 190).
Рассмотрим предметы по категориям. Бронзовые вислообушные топоры представлены шестью экземплярами, но только один из них уверенно ассоциируется с индивидуальным мужским погребением (могильник Бестамак, яма 140: Логвин, Шевнина , 2008). Другой найден в могильной яме 9 кургана Халвай 3, где останки умершего не сохранились. Еще четыре происходят из в Синташтин-ского некрополя, антропологический состав которого неизвестен.
Из 6 бронзовых наконечников копий два были положены с мужчинами. Еще один зафиксирован в детском погребении, однако это миниатюрный экземпляр ( Шевнина, Ворошилова , 2009. Рис. 1). Остальные происходят из разграбленных погребений или могильных ям без антропологической идентификации. Панцирные пластины находились в сильно потревоженном погребении взрослого (примерно 20 лет) индивида на могильнике Каменный Амбар 5. Коллекция наверший булав составила восемь экземпляров, из них четыре принадлежали мужчинам,
Таблица 1. Взаимосвязь предметов вооружения и пола/возраста погребенных
Наиболее многочисленной находкой являются наконечники стрел. Они были положены 36 погребенным, из которых 17 мужчин, 3 женщины и 6 детей. Роговые накладки сложного лука и две (предположительно) заготовки, также из рога, зафиксированы в трех погребениях ( Берсенев, Епимахов, Зданович , 2010). Одно из них не имеет антропологических определений (могильник Солнце II), в другом захоронены двое детей (могильник Степное). Заготовки окончаний лука и центральная накладка сопровождали молодого мужчину (17 лет ± 2 года). В этом же погребении обнаружен колчанный набор ( Епимахов , 2005. Илл. 48).
По данным И.В. Чечушкова (2011. С. 58), остатки и/или следы установки колесниц открыты в 18 синташтинских могильных ямах. Во всех определимых случаях (их всего четыре) как минимум один из погребенных был мужчиной. Одна из могил, имеющих антропологические определения, является коллективной, там захоронены мужчина и трое маленьких детей ( Епимахов , 2005. С. 35). Роговые псалии встречены у 17 погребенных, среди которых идентифицированы две женщины, два ребенка и восемь мужчин. Колесничный комплекс наиболее ярко представлен в Синташтинском грунтовом могильнике, но, к сожалению, опять приходится повторять, что мы не знаем его антропологического состава.
Интригующе выглядят детские захоронения с оружием. В могильниках эпохи бронзы степной полосы Северной Евразии детские погребения с оружием встречаются нечасто, скорее редко, и далеко не в каждой культуре. Поэтому не будет преувеличением сказать, что такие случаи заслуживают особого внимания ( Берсенева , 2012). Оружия в синташтинских детских погребениях, конечно, относительно немного. Более того, такие погребения встречены только в четырех могильниках: Каменный Амбар 5, Степное, Большекараганский и Бестамак. До недавних находок на памятнике Степное и публикации погребения из некрополя Бестамак оснований поднимать этот вопрос практически не было.
В детских захоронениях были обнаружены следующие предметы вооружения: наконечники стрел (6 случаев), наконечник копья, роговые детали сложного лука и псалии.
Таблица 2. Взаимосвязь предметов вооружения и возраста погребенных детей
|
Предметы вооружения |
Количество детей |
Возраст детей (в годах) |
|
Наконечник стрелы |
7 |
3–10 |
|
Наконечник копья |
1 |
4–5 |
|
Детали лука, псалии |
2 |
около 9 |
Предметы вооружения сопровождали как минимум 10 детей возрастом до 10 лет. Это в основном оружие дистанционного боя – детали лука и наконечники стрел (табл. 26).
Наконечники стрел из камня и кости числом от 1 до 13 были обнаружены в непотревоженных детских погребениях в могильниках Большекараганский, Каменный Амбар 5 и Степное. Ими снабжены дети возрастом от 3 до 10 лет. В детской (9–10 лет) двойной могильной яме на могильнике Степное кроме 13 наконечников были расчищены роговые детали лука и псалии ( Берсенев, Епимахов, Зданович , 2010).
Захоронение ребенка 4–5 лет в сопровождении миниатюрного бронзового наконечника копья исследовано на памятнике Бестамак. В этой же яме зафиксировано множество украшений, в числе которых бронзовое накосное украшение, позволяющее считать ребенка девочкой ( Шевнина, Ворошилова , 2009). Кроме того, в указанной публикации упоминается, что в возрастной группе от 8 до 15 лет «нередкой находкой являются каменные наконечники».
Вопрос, почему в состав инвентаря некоторых детских захоронений были включены предметы вооружения, представляется весьма интересным. Напомним, что в детских погребениях оружия больше и его категории разнообразнее, чем в женских. Совершенно очевидно, что дети не могли им пользоваться по прямому назначению, будучи слишком малы для этого. Между тем, изношенность деталей сложного лука из парного детского захоронения на могильнике Степное предполагает их длительное использование перед помещением в погребальный контекст: речь идет о тысячах выстрелов. Не думается, что и девочка, погребенная на могильнике Бестамак, умела владеть копьем.
В качестве объяснения могут быть рассмотрены несколько версий. Первая состоит в том, что оружие могло маркировать высокий статус семьи ребенка.
Все погребенные с оружием дети – старше 3 лет, но их могилы не отличаются какой-то особой пышностью, которая позволила бы предположить, что это дети «воинской страты». Они не выглядят более богатыми, чем те, что не содержали предметов вооружения. Тем более что сам вопрос о наличии в син-таштинском обществе военной элиты остается открытым. Да и весь синташтин-ский обряд не демонстрирует резких перепадов в степени богатства. Каменные наконечники стрел в погребениях встречаются во множестве; по-видимому, они не являлись большой ценностью, так же как сильно истертые и обломанные от долгого использования части лука в погребении могильника Степное. Только копье, вероятно, можно назвать ценным и престижным предметом.
Вторая версия, предполагающая, что предметы вооружения маркировали пол покойных детей (мальчиков) кажется приемлемой, если исключить погребение из Бестамака. Но и в этом случае малое количество такого рода захоронений говорит о том, что маркирование пола не было главной целью помещения оружия в могилу.
Можно ли рассматривать эти погребения как свидетельства приобщения детей к военному делу и/или охоте? Во многих исторически и этнографически известных обществах подобные навыки прививались с раннего возраста, как только физические возможности позволяли ребенку натянуть лук или освоить приемы рукопашного боя. Нельзя установить, все ли синташтинские дети обучались военному искусству, но очевидно, что это должна была быть значительная их часть, судя по количеству взрослых, похороненных с предметами вооружения. Так что эта версия имеет право на существование ( Берсенева , 2010).
Наконец, не следует забывать, что детское погребение создавалось взрослыми, и выбор сопроводительного инвентаря оставался на их усмотрении. Соответственно, предметы из детской могилы несут на себе не только определенный отпечаток личности ребенка, но и того (или тех), кто его хоронил.
Выводы. Таким образом, абсолютное большинство погребенных с предметами вооружения составляли мужчины, что неудивительно. Следует отметить, что достаточно редкие и бесспорно связанные с военной деятельностью категории инвентаря надежно зафиксированы только в мужских погребениях. Это составляющие колесничного комплекса, топоры, наконечники копий, булавы.
Предметы вооружения практически отсутствуют в женских могилах. Женщины, вероятно, в военной сфере задействованы не были, равно как и в охоте. По крайней мере, сопроводительный инвентарь не свидетельствует об их вовлеченности в эти занятия. Вероятно, единичные наконечники стрел, обнаруженные в женских погребениях, не могут быть интерпретированы как оружие, они несли, скорее всего, семантически иную нагрузку (см. напр.: Калинина , 2009. С. 142–208).
Интересен тот факт, что в детских погребениях, хоть и единично, представлено не менее половины всех типов синташтинского оружия, за исключением топоров, колесниц и костяного доспеха. Впрочем, в коллективных могилах с колесницами, как уже упоминалось выше, детей иногда погребали вместе со взрослыми: в «колесничном» погребении 8 кургана 2 могильника Каменный Амбар 5 был захоронен взрослый мужчина в сопровождении троих детей возрастом от 5 до 10 лет ( Епимахов , 2005. С. 36). Вероятно, часть детей обучалась военному делу с самого раннего возраста. Долговременное сохранение по сути избыточных и затратных военных технологий, таких как колесничество, предполагает обязательную передачу знаний от поколения к поколению.
Интересной особенностью синташтинских погребений является абсолютная взаимовстречаемость в непотревоженных погребениях всех категорий инвентаря: предметов вооружения, орудий труда, украшений и предметов быта. Это говорит либо об отсутствии воинской специализации как таковой, либо об отсутствии строгих правил выбора сопроводительного инвентаря.
Очевидно, что погребальный обряд не отражает напрямую социальные реалии. Погребальный памятник отражает их в еще меньшей степени. Тем не менее, можно предположить, что доля предметов вооружения среди погребального инвентаря не свидетельствует о массовой вовлеченности мужского населения в военные конфликты (только около 40% мужчин погребены с оружием). Кроме того, удельный вес предметов, бесспорно являвшихся оружием, таких как топоры и наконечники копий, минимален как среди всего предполагаемого комплекса вооружения, так и в сравнении с другими категориями металлических изделий, среди которых оружие составило 2% ( Дегтярева , 2010. Рис. 31) (см. также табл. 1).
Вероятно, количество мужчин, обучавшихся военному делу и колесничеству, было сравнительно невелико, и данная деятельность не являлась их основным занятием. Несмотря на то что технологии продолжали сохраняться, их практическое применение в военных действиях представляется если не сомнительным, то достаточно редким.
Список литературы О подходах к изучению милитаризации Синташтинского общества
- Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Кн. 1/Сост. Д.Г. Зданович и др. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 2002. 216 с.
- Берсенев А.Г., Епимахов А.В., Зданович Д.Г., 2010. Луки синташтинской культуры: материалы и варианты реконструкции//Аркаим -Синташта: древнее наследие Южного Урала: К 70-летию Геннадия Борисовича Здановича: Сб. науч. тр.: В 2 ч./Отв. ред. Д.Г Зданович. Ч. 1. Челябинск, Изд-во ЧелГУ С. 82-95.
- Берсенева Н.А., 2010. Социализация детей как одно из направлений социокультурной адаптации в древних обществах//Уральский исторический вестник. № 2 (27). С. 38-54.
- Берсенева Н.А., 2012. Предметы вооружения в детских погребениях синташтинской культуры Южного Зауралья//Человек и Север: Антропология, археология, экология: Мат-лы Всерос. конф. (26-30 марта 2012 г., Тюмень). Вып. 2. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН. С. 91-93.
- Виноградов Н.Б., 2003. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 362 с.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Т 1. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 408 с.
- Дегтярева А.Д., 2010. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука. 162 с.
- Епимахов А.В., 2005. Ранние комплексные общества Севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск: Челябинский дом печати. 192 с.
- Епимахов A.B., 2007. Относительная и абсолютная хронология синташтинских памятников в свете радиокарбонных датировок//Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск. Вып. XVII. С. 402-421.
- Епимахов А.В., Берсенева Н.А., 2012. Вариативность погребальной практики синташтинского населения (поиск объяснительных моделей)//Вестник НГУ Т. 11. Вып. 3. С. 148-170.
- Зданович Д.Г., 1997. Синташтинское общество: Социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. Челябинск: СПЛИАЦ «Аркаим»: ЧелГУ. 93 с.
- Зданович Г.Б., Батанина И.М., 2007. Аркаим -страна городов: пространство и образы. (Аркаим: Горизонты исследований). Челябинск: Крокус: Южно-Уральское кн. изд-во. 260 с.
- Калиева С.С., Логвин В.Н., 2009. Могильник у поселения Бестамак (предварительное сообщение)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. Вып. 9. С. 32-59.
- Калинина И.В., 2009. Очерки по исторической семантике. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 270 с.
- Логвин А.В., Шевнина И.В., 2008. Элитное погребение синташтинско-петровского времени с могильника Бестамак//VII исторические чтения памяти М.П. Грязнова: Сб. науч. тр./Отв. ред. С.Ф. Татауров, И.В. Толпеко. Омск: Изд-во ОмГУ С. 190-197.
- Логвин А.В., Шевнина И.В., 2011. Курган Халвай 3 (предварительное сообщение)//Маргуланов-ские чтения -2011: Мат-лы Междунар. археол. конф. (Астана, 20-22 апреля 2011 г)/Гл. ред. М.К. Хабдулина. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С. 291-295.
- Логвин А.В., Шевнина И.В., Колбина А.В., 2009. Погребение женщины старческого возраста на могильнике Бестамак//Изучение историко-культурного наследия центральной Евразии: Мат-лы Междунар. археол. конф. «Маргулановские чтения -2008» (Караганда, март 2008 г.)/Под ред. В.В. Варфоломеева. Караганда: Б.и. С. 85-90.
- Ткачев В.В., 2007. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбинский обл. центр истории, этнографии и археологии. 384 с.
- Усачук А.Н., 2005. Каменноамбарские псалии (трасологический анализ)//Ранние комплексные общества Севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Приложение 2. Челябинск: Челябинский дом печати. С. 179-189.
- Чечушков И.В., 2011. Колесницы евразийских степей эпохи бронзы//Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. Вып. 2 (15). С. 57-65.
- Шевнина И.В., Ворошилова С.А., 2009. Детские погребения эпохи развитой бронзы (по материалам могильника Бестамак)//Этнические взаимодействия на Южном Урале/Отв. ред. А.Д. Таиров, Н.О. Иванова. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ С. 59-63.