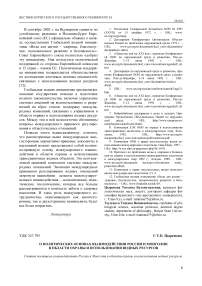О политических основах взаимодействия России и Монголии в области охраны и использования водных ресурсов
Автор: Цыренова Т.Б.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена взаимодействию России и Монголии в области охраны и использования водных ресурсов.
Охрана и использование водных ресурсов, межгосударственное взаимодействие, политические основы
Короткий адрес: https://sciup.org/148181111
IDR: 148181111 | УДК: 347.795
Текст научной статьи О политических основах взаимодействия России и Монголии в области охраны и использования водных ресурсов
Межгосударственное регулирование вопросов охраны и использования трансграничных вод, так же как и национальное государственное управление в области охраны и использования водных ресурсов, выступает как сложный институт, представляющий собой деятельность государств, направленную на обеспечение своих национальных интересов.
Взаимодействие Российской Федерации и Монголии в этой области, обусловленное наличием общих границ и политическим, экономическим, социально-культурным сотрудничеством обоих государств, отвечает интересам их национальной безопасности, в том числе и в области водных отношений.
Успешное взаимодействие России и Монголии по охране водных ресурсов, отсутствие принципиальных разногласий в области трансграничных вод обусловлено исторически сложившимися добрососедскими отношениями между этими странами, своими истоками восходящими к ранних контактам царской России и Цинского Китая, когда между двумя империями были заключены Нерчинский (1689) и Бурин-ский (1727) договоры. С тех пор равная заинтересованность России и Монголии в поддержании добрососедских отношений, мира и спокойствия в приграничных районах двух государств никогда не ослабевала. Такое сотрудничество оказывало влияние и на благоприятный климат в международных отношениях остальных стран в Центрально-Азиатском регионе.
Победа революции в Монголии в 1921 г. предопределила стратегию ее внешнеполитического и внутриполитического курса, ориентированного на самое тесное сотрудничество с Советским Союзом. Экономическая, военная, культурная сферы деятельности Монголии развивались при непосредственном влиянии СССР. Советский Союз, в свою очередь, рассматривал Монголию как важного стратегического партнера на Востоке не только во внешнеполитическом ракурсе, но и во внутреннем культурном и экономическом аспектах. Отношения двух стран нашли свое отражение в «Соглашении об установлении дружественных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Монгольской Республикой» [1]. Сотрудничество между СССР и Монголией стали гарантом стабильной обстановки на Дальнем Востоке. Эти гарантии получили свое подтверждение в событиях 1938 и 1939 гг. у озера Хасана и на Халхин-Голе. Взаимоотношения между Советским Союзом и Монголией приобрели характер, при котором «сильная держава обеспечивает безопасность для менее сильной; слабая сторона получает гарантии безопасности в обмен на обещание следовать политическому курсу более сильной державы» [2]. Поддержка Советского Союза в значительной степени содействовала как укреплению международного положения Монголии, так и ее экономическому развитию: «при прямом содействии Советского Союза был создан промышленный комплекс МНР, состоящий из крупных предприятий добывающей отрасли» [3]. Были созданы горнообогатительный комбинат «Эрдэнэт», АО «Монголросцветмет», АО «Улан-Баторская железная дорога».
Произошедшие события конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого столетия привели к разрушению установившихся принципов политического, экономического, культурного и военного взаимодействия, как между странами бывшего социалистического блока, так и между Россией и Монголией. Произошло охлаждение, как на официальном уровне, так и на уровне отношения определенной части монгольского общества к России и к ее культуре [4]. Это было связано не только с резким спадом экономической помощи со стороны России и свертыванием торгово-экономической деятельности между обеими странами, но и с изменением отношения самой России к Монголии и другим бывшим союзникам по социалистическому лагерю [5]. Сотрудничество со странами бывшего социалистического блока не входило в приоритетные направления ее внешней политики: во-первых, она со- средоточила свое внимание на решение внутренних проблем, а, во-вторых, стала ориентироваться на сотрудничество с Западом с надеждой достичь равноправного партнерства на основе демократических принципов [6].
Монголия также изменила свои внешнеполитические акценты. С одной стороны, с начала 90-х гг. прошлого века она значительно расширила сферу своих международных связей. Взоры многих представителей политических и торговоэкономических кругов монгольской политической элиты были обращены на Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, Китай, Японию, Южную Корею и др. [7]. С другой стороны, изменилось отношение мирового сообщества к Монголии. Она перестала рассматриваться как буферное государство, полностью ориентирующееся на своего могущественного северного соседа. В конце 1990-х гг. достигли высокого уровня отношения между Монголией и Китаем, имеющими общую границу протяженностью около 4700 км и общие трансграничные водные объекты, вследствие чего в 1994 г. между двумя правительствами было подписано Соглашение по охране и использованию трансграничных вод. Китай стал одним из основных внешних партнеров Монголии. Углубилось сотрудничество между двумя странами в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности [8]. В этот период в основу внешней политики Монголии были положены принципы многовекторности [9].
Вместе с тем, логика дальнейшего политического, экономического и культурного развития Монголии показала, что разрыв и даже ослабление отношений с Россией имеет негативные последствия для ее будущего развития. Россия также осознала необходимость восстановления добрососедских отношений с Монголией. Поэтому со второй половины 1990-х гг. на повестку дня стала первоочередная задача восстановления утраченного доверия и связей между Россией как правопреемницей Советского Союза и Монголией на всех уровнях – политическом, экономическом и культурном.
Новые межгосударственные отношения в постсоциалистический период были закреплены в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Монголией от 20 января 1993 г. В подписанном договоре было намечено партнерство между двумя государствами в различных сферах, включая и экологическую. Важным его моментом стал тот факт, что осуществление сотрудничества в области охраны окружающей среды запланировано в рамках принятых международных правил и нормативов, в рамках системы ООН и других международных организаций [10].
После подписания договора в 1993 г. отношения России и Монголии в новых условиях постсоветской реальности приобрели иные политические и экономические ориентиры. Они стали строиться на основе равноправных партнерских отношений в контексте общепризнанных норм и правил международных отношений. Отразилось это и на взаимоотношениях в области охраны и использования трансграничных вод. Этому во многом способствовали кардинальные изменения внутри политических систем Российской Федерации и Монголии. На смену межпартийным контактам, существовавшим в советско-монгольских отношениях и «фактически совпадавшим с советско-монгольскими межгосударственными отношениями» [3, с. 106], основой которых были «личные доверительные отношения членов монгольской политической элиты с советскими лидерами», пришли отношения, главным лейтмотивом которых стали «прагматизм и деидеологизированность» [3, с. 89]. В данном случае нельзя не согласиться с В.А. Родионовым, что «по мере стабилизации политических систем РФ и Монголии в начале 2000-х гг., а также в силу постепенной наработки за годы постсоциалистического развития новых дипломатических связей, в том числе на уровне личных взаимоотношений между главами государств, сотрудничество сторон… стало более плодотворным и эффективным» [3, с. 109].
Партнерские принципы и направления сотрудничества между Россией и Монголией были подтверждены в ходе официальных о визитов президентов России В.В. Путина и Д.А. Медведева, состоявшихся в 2000-е годы нынешнего столетия.
Анализ подписанных главами Российской Федерации и Монголии политических документов свидетельствует о том, что, наряду с особым интересом двух государств к осуществлению взаимовыгодного сотрудничества в политической и экономической сферах, объектом постоянного внимания сторон остается экологическая сфера, где водные отношения имеют особую значимость. В Декларации о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией указывается на необходимость конкретного сотрудничества в области охраны и использования трансграничных вод. В документе отмечается, что «стороны сконцентрируют совместные усилия на охране транс- граничных вод, сохранении биоразнообразия, будут оперативно оповещать друг друга и обмениваться информацией при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [11]. Было принято решение о продолжении комплексных экологических исследований озер Байкал и Хуб-сугул, а также придании бассейну озер Убсу-Нур и Онон-Сохонд статуса трансграничной заповедной зоны [11].
Такое сотрудничество имеет планетарное значение, ибо оно касается сохранения уникальной экосистемы озера Байкал, обладающего самым большим запасом пресной воды на планете.
Проблема охраны озера Байкал становится общей для Монголии и России ввиду общности границ и наличия трансграничной реки Селенги – главного притока озера Байкал, которое в декабре 1996 г. на сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО был признан объектом всемирного природного наследия.
Признание озера Байкал объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО наложило на Россию юридическую, экономическую и нравственную ответственность перед всем мировым сообществом за сохранение уникального творения природы.
Выполнение обязательств России по отношению к Байкалу во многом зависит от её взаимодействия с Монголией. Это связано с тем, что основным водопритоком Байкала является река Селенга, которая приносит в него в среднем около 30 км³ воды, что составляет половину всего притока в озеро. При этом большая часть водосборного бассейна реки Селенги приходится на территорию сопредельного государства – Монголии, на которое не распространяются положения российского законодательства. Между тем на территории монгольской части Байкальского бассейна формируется водный сток в среднем 14,0–15,0 км³/год, составляющий около 45–50% объема суммарного стока Селенги, поступающего в Байкал. Поэтому экологическая безопасность Байкала не может обеспечиваться исключительно в рамках российского законодательства. Полноценная охрана байкальской экосистемы невозможна вне контекста российско-монгольского сотрудничество в области охраны и использования трансграничных вод, направленного на обеспечение безопасности экосистемы Байкала и его основного притока.
В этой связи для России как гаранта безопасности объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал взаимодействие с Монголией в области охраны окружающей сре- ды представляет важнейшую задачу. Это касается и монгольской стороны, поскольку проблема распределения и совместного использования трансграничных вод в условиях лимитированно-сти ее водных ресурсов затрагивает жизненно важные сферы экономики. Поэтому взаимодействие с Россией в вопросах использования и охраны водных ресурсов позволяет использовать позитивный российский опыт в области охраны и использования водных ресурсов. С другой стороны, оно выступает гарантом обеспечения национальных интересов Монголии в плане сохранения ее суверенитета в условиях осуществления многовекторной внешней политики, в которой одним из главных акторов является соседний Китай.
Взаимодействие России и Монголии в области охраны Байкала сегодня базируется, с одной стороны, на международных правовых актах, а с другой стороны, на основных положениях подписанного в 1995 г. Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии Соглашения в области охраны и использования трансграничных вод [12], продолжившего линию преемственности Соглашения между Правительством Советского Союза и Правительством Монгольской Народной Республики по охране и использованию трансграничных вод бассейна реки Селенги от 1974 г.
Фактором, оказавшим существенное влияние на характер развития советско-монгольских отношений в области охраны и использования трансграничных вод, стало принятие в 1966 г. Ассоциацией международного права Правил пользования водами международных рек на основе бассейнового принципа управления прибрежными государствами. Формирование и развитие международного водного права не могло не найти своего отражения в развитии национальных водных законодательств Советского Союза и Монголии. Ярким свидетельством тому было принятие в 1972 г. в Советском Союзе первого Водного кодекса, а в 1974 г. – первого закона Монголии «О воде», которые впервые в истории двух государств отразили понятие «пограничные водные объекты». Именно тогда были заложены политические основы современного российско-монгольского сотрудничества в области охраны и использования трансграничных вод.
Вместе с тем кардинальные изменения политических институтов России и Монголии в начале 1990-х гг., обусловив трансформацию самих основ российско-монгольского межгосударственного взаимодействия, привели к возникно- вению существенных различий между политическими институтами в Российской Федерации и в Монголии, произошла смена субъектов, принимавших внешнеполитические решения. В Монголии в силу унитарного характера ее политического устройства главным субъектом, формулировавшим и определявшим внешнеполитические прерогативы развития государства стал Великий Хурал Монголии. В России основным субъектом во внешнеполитической сфере продолжало оставаться правительство. Смена основных акторов государственного управления трансграничными водными объектами происходила на фоне нестабильности внутриполитической ситуации двух государств. Также центробежные процессы, имевшие место в тот период в обеих странах, усиливали роль неправительственных организаций в вопросах охраны и использования водных ресурсов, которые выявили всю их неэффективность. Все это негативно отражалось на развитии устойчивых механизмов межгосударственного сотрудничества в области охраны и использования трансграничных вод.
Но, несмотря на появление инновационных, отличных от прежних базовых институтов государственного управления, разрушение существовавшей иерархии власти, неэффективную внешнюю политику России и Монголии, ориентированную на западное сообщество, изменения в политической, экономической и других сферах российского и монгольского обществ, актуальность российско-монгольского межгосударственного взаимодействия по-прежнему сохранялась. Подтверждением тому являлось упоминание выше подписанное в 1995 г. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод, которое, продолжило политические традиции межгосударственного взаимодействия России и Монголии.