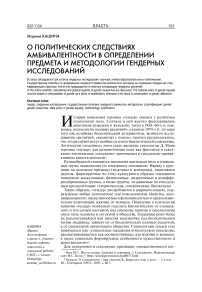О политических следствиях амбивалентности в определении предмета и методологии гендерных исследований
Автор: Кашина Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются три аспекта гендерных исследований: научный, учебно-образовательный и политический. Государственная политика по продвижению гендерного равенства должна быть основана на понимании гендера как стратифицирующего фактора, иначе она превращается в политику консервации гендерных различий.
Гендер, гендерные исследования, государственная политика гендерного равенства, методология, стратификация
Короткий адрес: https://sciup.org/170165768
IDR: 170165768
Текст научной статьи О политических следствиях амбивалентности в определении предмета и методологии гендерных исследований
И стория появления термина «гендер» связана с развитием психологии пола. Сначала в ней жестко фиксировалась дихотомия мужского и женского, затем в 1930–60-х гг. появилась «психология половых различий», а в конце 1970-х гг., по мере того как ослабевал биологический детерминизм, возникли исследования «различий, связанных с полом», причем предполагалось, что эти различия могут вообще не иметь биологической подосновы. Логическим следствием этого стало введение сексологом Д. Мани термина «гендер» для разграничения пола как фенотипа и сексуально-генитальных, сексуально-эротических и сексуально-прокре-ативных качеств личности1.
Разнообразной становится типология признаков пола и социальных групп, выделенных по гендерному основанию. Наряду с группами по половому признаку (мужчины и женщины), появляются группы, формируемые по типу культурного образца гендерного поведения: маскулинные, фемининные, андрогинные и недифференцированные группы, а также группы, создаваемые по сексуальным предпочтениям: гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы.
Таким образом, «гендер» употребляется в широком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предположительно отличающие мужчин от женщин. Появление в психологии понятия «гендер» позволило отделить биологическое от социального и тем самым поставить под сомнение прямую и однозначную связь пола человека и его ролей в обществе. Гендерные роли более не рассматриваются как простая надстройка над биологическим полом индивида, зависят не от биологических половых различий, а от социальной организации общества. Социологами гендер стал пониматься как «социальные ожидания относительно поведения, рассматривающегося как соответствующее для мужчин и женщин, а также социально формируемые особенности мужественности и женственности»2.
Для психологии и сексологии признание множественности ген- дера и гендерных идентичностей было шагом к расширению понятия нормы. Для социологии переход от эссенциализма к теории социального конструирования привел к смене парадигмы в исследовании ролей мужчин и женщин. Гендер стал выступать не столько дифференцирующим, сколько стратифицирующим фактором, потому что в гендерном подходе «всегда присутствует тезис о неравном распределении ресурсов по признаку приписанного пола, об отношениях господства-подчинения, исключения-признания людей, которых общество относит к разным категориям пола»1. Именно поэтому центральное место в социологических гендерных исследованиях занимает проблема социального неравенства мужчин и женщин.
Казалось бы, точки над i расставлены: пол отделен от гендера, а исследования различий, связанных с полом, – от гендерных. Однако в России гендерный подход «развивается в интеллектуальном климате эссенциализма и биологического детерминизма и противоречит основному направлению российского либерального дискурса». В силу этого гендерные исследования рассматриваются как ориентированные на нежелательные изменения в сфере отношений между полами и, прежде всего, на разрушение семьи2. Как показывает практика, за время, прошедшее с момента возникновения российских гендерных исследований, этот климат мало изменился. Можно напомнить выступление в декабре 2010 г. председателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоирея Всеволода Чаплина, предложившего ввести общероссийский дресс-код для женщин.
Говоря о гендере и гендерных исследованиях, следует четко различать три ракурса рассмотрения этой темы: собственно научный (методологический), учебно-образовательный и политический. Поскольку гендерные исследования так или иначе уже инкорпорированы в российское высшее образование, и гендерная тематика присутствует даже в учебниках для средней школы, то актуальным явля- ется вопрос о содержательном и непротиворечивом наполнении этих дисциплин.
Политическая актуальность определения предмета гендерных исследований вызвана существованием такого направления государственной политики, как поддержка семьи и детства, а также необходимостью выполнения Россией своих международных обязательств по преодолению в обществе гендерного неравенства. В полоролевой концепции гендер выступает социальной характеристикой биологической сущности человека. В академическом феминизме, основанном на теории социального конструирования реальности, он объясняет отношения доминирования и подчинения социальных групп мужчин и женщин. При этом оба этих направления имеют своих последователей и, как считают некоторые ученые, могут считаться равнозначными в логическом отношении. Соответственно, та и другая научная традиция будут предлагать свои рекомендации по решению гендерных проблем. Полоролевая – по закреплению/акцен-титрованию гендерных различий, социально-конструктивистская – по их преодолению. Вопрос в том, к каким из них прислушается власть.
Можно согласиться с Д. Воронцовым, что чиновник выберет те рекомендации ученых, которые соответствуют ценностям системы (государства)3. Не оспаривая в принципе сам тезис о влиянии государственной идеологии на социальные науки и их востребованность, необходимо отметить два важных, с нашей точки зрения, момента, которые упускает этот исследователь. Во-первых, точное название государственной гендерной политики в международных документах – «политика по продвижению гендерного равенства и улучшению положения женщин»4, т.е. в самом ее названии властное измерение гендера (в смысле слабости позиций женщин в обществе) обозначено. Проводить такую политику, опираясь на рекомендации, разработанные в рамках полоролевого подхода, просто невозможно, или тогда нужно согласиться с тем, что эта политика обречена быть выхолощенной и безрезультатной.
Во-вторых, если мы отдаем право выбора системе, то с вероятностью, близкой к 100%, она будет реализовывать рекомендации полоролевого подхода. Актуальный пример – поддержка в ряде российских регионов идеи раздельного обучения мальчиков и девочек в средней школе. Причина этого – неотрадиционализм российского общества, господство гендерных стереотипов, усиление в общественном сознании идей о восстановлении «исконных традиций» мужественности и женственности1. Гендерные исследования как анализ отношений власти и социальной несправедливости государство будет «зажимать» как не соответствующие «ценностным основаниям социальной системы», в т.ч. традиционным семейным ценностям.
В то же время взаимодействие чиновника, занимающегося гендерными проблемами по долгу службы (прежде всего, в сфере социальной политики и социальной работы), и гендерного исследователя может оказаться более вариативным, чем то, которое диктуется господствующими гендерными ценностями политиков. Дело в том, что эти ценности не позволяют практикам ответить на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в своей повседневной работе, например, как сократить насилие в семье, которое в рамках патриархатных представлений вполне легитимно.
Представляется, что помимо официальной идеологии в этом процессе взаимодействия ученых и власти необходимо учитывать социальный опыт, личностную гендерную картину мира и индивидуальные гендерные представления самих чиновников. Эти индивидуальные характеристики могут сознательно и целенаправленно формироваться и изменяться в процессе обучения, например в ходе дополнительного профессионального образования, получение которого является обязательным для российских государственных гражданских служащих.
Это позволяет ставить вопрос о повышении гендерной компетентности наших чиновников с позиций критической гендерной теории, которая дает ответ на такие вопросы. Для этого необходимо определиться в содержательном наполнении, методологических и методических подходах к преподаванию гендерных учебных дисциплин, главной из которых в настоящее время выступает «Гендерология и феминология». Это – единственная специальная дисциплина, входящая в государственный образовательный стандарт (ГОС) высшего образования по специальности «социальная работа».
Как показывает анализ содержания дидактических единиц этой дисциплины, она изначально задумывалась в феминистской перспективе, а значит, «гендер» в ней означает отношения власти, вокруг которых должно выстраиваться все остальное. В ГОСах первого поколения, принятых в 1995 г., дисциплина называлась «Феминология». В ней рассматривались методологические принципы феми-нологии, женский вопрос и его эволюция, семья и брак в жизни женщины, равноправие мужчин и женщин как социальная проблема, социальная поддержка женщин в условиях рыночных реформ др. В ГОСах второго поколения, утвержденных в 2000 г., этот курс сохраняет статус специальной дисциплины, но называется уже «Гендерология и феминология». Ее содержание несколько расширяется, вводится понятие гендера. По сравнению с предыдущим стандартом – это явно шаг вперед, поскольку появляется тема гендерных стереотипов, рассматриваются особенности мужской и женской социализации, выделяются гендерные аспекты социальной работы.
Возникает вопрос, может ли такой курс читать преподаватель, не владеющий методологией критического (феминистского) гендерного анализа? В случае если педагоги в силу стереотипности своих гендерных представлений будут следовать привычному эссенциализму и полоролевому подходу и рассматривать гендер как дифференцирующий, а не стратифицирующий фактор, освоение студентами данного курса сработает как дифференциальное усиление (Ш. Берн), закрепляя у будущих социальных работников существующее в общественном сознании представление о разделении социальных ролей на мужские и женские как естественном и неизменном. Тем самым у студентов будут усиливаться гендерные стереотипы, которые с большой долей вероятности будут ограничивать возможности их лич- ностного и профессионального развития, а в будущем – снижать эффективность их деятельности в качестве социальных работников.
В стандарте подготовки бакалавров по этому направлению, утвержденном в том же 2000 г., дисциплина «Гендерология и феминология» отсутствует, а в стандарте подготовки магистров по социальной работе гендерная тематика оказывается «размытой» в разделе 521103 – «социальная работа с разными группами населения». В нем вообще нет речи о гендере. Возникает вопрос, на какой теоретической базе должен выстраивать магистрант свое представление об отношениях мужчин и женщин в обществе и о гендерных аспектах социальной работы, если в бакалавриате курс по гендерологии им не осваивался?
Можно возразить, что существуют региональная и вузовская составляющие ГОСа, позволяющие дать необходимые знания через спецкурсы или дисциплины по выбору. Однако, учитывая общий патриархатный настрой нашей высшей школы, вряд ли можно рассчитывать на увеличение числа курсов с гендерной тематикой. Исключений пока немного, и связаны они, главным образом, с активностью региональных гендерных центров (например, в Иваново и Саратове).
В результате критическая (феминистская) гендерология заменяется традиционной полоролевой, не требующей слома стереотипов и пересмотра традиционных представлений о мужском и женском. Ситуация усугубляется качеством учебной литературы. Используя гендерную терминологию, авторы учебников ставят в центр своего внимания лишь гендерные различия, а не отношения власти, конструирующие гендер. Яркий пример – работы по женскому стилю управ-ления1, когда в качестве достоинств женщинам-руководителям приписывают черты, формируемые гендерной социализацией (эмпатию, доброжелательность, готовность к компромиссам). Это способствуют не преодолению, а наоборот, закреплению стереотипного образа женщины, который и обрекает ее на вто рые позици и в обществе и управлении.
То же самое в отношении мужского стиля управления. Акцентирование на традиционно мужских чертах – целеустремленности, агрессивности, суровости – лишает мужчин-руководителей значительной части репертуара управленческих стратегий и ведет к кризису маскулинности в случае невозможности соответствия нормативным образцам.
Предлагаются пять сфер для женского бизнеса: производство товаров и услуг (изготовление одежды, искусственных цветов, мелкого инструмента и т.п.), бытовое обслуживание, народные промыслы и художественное творчество, обучение, деловые услуги. Все эти виды деятельности целиком находятся в сфере малого бизнеса, во многом повторяя сложившееся в обществе разделение профессий на мужские и женские.
Признание равнозначности двух трактовок гендера в условиях доминирования в обществе патриархатных гендерных представлений ведет к совсем не безобидным политическим последствиям. Сначала можно обойтись без «стратифицирующего гендера» в социальной теории, затем можно изъять критический гендерный подход из социальной работы и, в конечном счете, поставить под вопрос саму необходимость со стороны государства заниматься гендерными проблемами как проблемами неравенства и социальной несправедливости.
Подведем итоги. В социально-конструктивистской (феминистской) методологии гендер – это обозначение отношений власти между полами. С позиций эссен-циалистской (полоролевой) методологии, гендер – это дифференцирующая категория, в основе которой лежат анатомические различия мужчин и женщин. Если мы перестаем отстаивать стратифицирующую природу гендера в науке, образовании и политике, то вся государственная политика по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе утрачивает актуальность и обессмысливается. Что мы, собственно, и наблюдаем в нашей стране, где в Государственной Думе РФ с 2004 г. не могут провести второе (не говоря уже о третьем) чтение законопроекта федерального закона о государственных гарантиях конституционного принципа гендерного равенства.