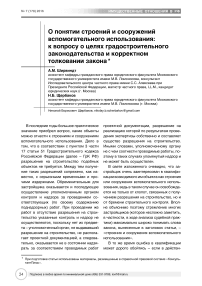О понятии строений и сооружений вспомогательного использования: к вопросу о целях градостроительного законодательства и корректном толковании закона
Автор: Ширвиндт А.М., Щербаков Николай Борисович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право - вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 7 (178), 2016 года.
Бесплатный доступ
Российский законодатель ввел понятие «строения и сооружения вспомогательного использования» (такие объекты могут возводиться без получения разрешения на строительство и, следовательно, без обычного государственного надзора), однако не дал ему толкование. В связи с этим содержание этого понятия формируется исходя из правоприменительной практики и научных работ. Авторы проводят критический анализ существующих подходов к определению понятия «строения и сооружения вспомогательного использования» и обосновывают необходимость отказаться от тех, которые опираются на цивилистический понятийный аппарат или основываются на буквальных значениях слов и выражений законодателя. По мнению авторов, содержание рассматриваемого понятия должно выводиться в соответствии с целями градостроительного законодательства.
Строение и сооружение вспомогательного использования, квалификация объекта как строения или сооружения вспомогательного использования, освобождение от строительного контроля и надзора, объект капитального строительства
Короткий адрес: https://sciup.org/170172815
IDR: 170172815
Текст научной статьи О понятии строений и сооружений вспомогательного использования: к вопросу о целях градостроительного законодательства и корректном толковании закона
В последние годы большое практическое значение приобрел вопрос, какие объекты можно отнести к строениям и сооружениям вспомогательного использования. Дело в том, что в соответствии с пунктом 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) разрешение на строительство подобных объектов не требуется. Между тем получение таких разрешений сопряжено, как известно, с серьезными временны́ми и прочими издержками. Обременительным для застройщика оказывается и последующее осуществление уполномоченным органом контроля и надзора за проведением соответствующих (по своему содержанию поднадзорных) работ. При проведении же работ в отсутствие разрешения на строительство указанные контроль и надзор не осуществляются, поскольку нет их предмета – уполномоченный орган, не выдававший разрешение на строительство, не располагает проектной документацией, а следовательно, оказывается не в состоянии надзирать за соответствием проводимых работ проектной документации, разрешение на реализацию которой по результатам проведения экспертизы собственно и составляет существо разрешения на строительство. Иными словами, уполномоченному органу не с чем соотнести проводимые работы, поэтому в таких случаях упомянутый надзор и не может быть осуществлен.
В свете изложенного очевидно, что застройщик очень заинтересован в квалификации возводимого им объекта как строения или сооружения вспомогательного использования, ведь в таком случае он освобождается не только от хлопот, связанных с получением разрешения на строительство, но и от бремени строительного контроля. Вполне объяснимо поэтому стремление многих застройщиков (которое несложно заметить, в частности, в ходе анализа судебной практики) максимально широко понимать слова закона, вынесенные в заголовок статьи, – «строения и сооружения вспомогательного использования».
В то же время ошибка в квалификации может дорого обойтись – если в действи- тельности создаваемое строение не относится к этой категории, то полагавшему иначе застройщику грозят административная ответственность за строительство без разрешения (часть 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), отказ в государственной регистрации права (пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») и снос спорного объекта как самовольной постройки, возведенной без получения необходимых разрешений (пункты 1, 2 и 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее – ГК РФ).
Учитывая, насколько привлекательно для застройщика включение создаваемых им объектов в число строений и сооружений вспомогательного использования, с одной стороны, и какими серьезными неблагоприятными последствиями чреват отказ в такой квалификации вразрез с первоначальным планом застройщика, с другой стороны, неудивительно, что вопрос о содержании этого понятия регулярно становится предметом судебного рассмотрения (в спорах об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности за строительство без разрешения, об оспаривании отказа регистрирующего органа внести соответствующую запись, о сносе самовольной постройки) и широко обсуждается профессиональным сообществом.
При таком весе стоящих на кону интересов неясность использованной законодателем формулировки привела к тому, что поиски критериев, способных сориентировать участников оборота, регистраторов и иные органы и, наконец, суды, идут в разных направлениях и приносят разные плоды. Эта ситуация неудовлетворительна уже ввиду отсутствия единообразия в оценке однотипных казусов. Но, пожалуй, особое беспокойство вызывает то, что едва ли не господствующее положение в практике занимает подход, явно не соответствующий целям градостроительного законодательства.
Толкуя рассматриваемое положение закона и конструируя правовое 1 понятие объектов вспомогательного использования, правоприменители и авторы научных работ ищут ориентиры либо в градостроительном законодательстве и целях градостроительного регулирования, либо в хорошо знакомых правовых понятиях, которые могут быть так или иначе связаны с понятием «строения и сооружения вспомогательного использования» – недвижимость, главная вещь и принадлежность, жилое помещение. Обращение к таким категориям позволяет при применении пункта 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ использовать подходы, сформировавшиеся в ходе работы с этими уже привычными понятиями. Наконец, нередко правоприменитель просто ограничивается выяснением буквального значения слов, которыми оперирует законодатель, и оставляет без внимания преследуемые им цели и логику построения нормативной системы.
Рассмотрим имеющиеся и возможные подходы и попытаемся определить, насколько они соответствуют требованиям, предъявляемым к методически корректному толкованию и применению закона.
Итак, в соответствии с частью 17 статьи 51 ГрК РФ «Выдача разрешений на строительство не требуется в случае ... строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования» (пункт 3). Применение этого правила оказывается проблематичным в связи
с тем, что понятие «строения и сооружения вспомогательного использования» не поддается четкому определению – неясно, каким критериям должны отвечать объекты, чтобы их создание было освобождено от строительного контроля и надзора, осуществляемых на основании разрешения на строительство.
Прежде всего информацию о содержании понятия «строения и сооружения вспомогательного использования», а следовательно, и о сфере применения рассматриваемого правила можно попробовать почерпнуть из его легального контекста. Выявление соотношений между общим правилом и исключениями, а также сопоставление различных исключений может прояснить позицию законодателя.
Частью 17 статьи 51 ГрК РФ прямо предусмотрено несколько случаев, когда не требуется получение разрешения на строительство (наряду с общей отсылкой в пункте 5 к иным случаям, предусмотренным ГрК РФ или законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности):
-
1) норма пункта 1, упрощающая возведение гаражей дачниками, имеет социальнополитический характер, не вытекает из целей регулирования в области строительства, не вписывается в соответствующую нормативную систему, а потому не может служить основой для интерпретации других положений закона. Очевидно, например, что с точки зрения целей регулирования, которые определяют содержание ГрК РФ, различия между гаражами, возведенными дачниками, и гаражами, которые создаются, скажем, индивидуальными предпринимателями или некоммерческими организациями, не имеют никакого значения. Установление же разных правил для однотипных ситуаций явно противоречит принципу равенства. Тем не менее законодатель идет на это, преследуя, как было указано, социально-политические цели;
-
2) в пункте 2 просто напоминается об общем правиле, в соответствии с которым
разрешения на строительство требуются только для объектов капитального строительства (части 1 и 2 статьи 51 ГрК РФ; пункт 5 части 1, пункт 5 части 2, пункт 5 части 3 статьи 8 ГрК РФ). Более того, как прямо указывается в ГрК РФ, законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения, связанные с созданием лишь объектов, являющихся капитальными (часть 1 статьи 4 ГрК РФ). С этой точки зрения пункт 2 не имеет никакого регулятивного значения;
-
3) в пункте 3 содержится интересующее нас правило;
-
4) в пунктах 4 и 4.1 закреплены положения, в соответствии с которыми незначительные изменения и капитальный ремонт объектов капитального строительства не требуют получения разрешения.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что частью 17 статьи 51 ГрК РФ предусматриваются два принципиальных исключения из общего правила об обязательности получения разрешения на строительство:
-
1) незначительное изменение и капитальный ремонт объектов капитального строительства;
-
2) возведение строений и сооружений вспомогательного использования.
Вероятно, в том или ином споре, при оценке того или иного конкретного объекта параллели между этими двумя исключениями могут дать дополнительный материал для толкования закона, но для выяснения искомого набора критериев они, как видно, практически бесполезны.
Оставаясь в рамках градостроительного законодательства, можно задаться вопросом о соотношении понятий «объект капитального строительства» и «строения и сооружения вспомогательного использования». Однако, к сожалению, закон не позволяет однозначно определить их соотношение.
С одной стороны, сам факт специального изъятия этой группы объектов из-под действия общего правила о необходимости получения разрешения на возведение объектов капитального строительства может указывать на то, что по крайней мере некоторые строения и сооружения вспомогательного использования относятся к числу объектов капитального строительства, в противном случае специальная оговорка о них в части 17 статьи 51 ГрК РФ не требовалась бы. В пользу такого толкования говорит и соседствующее с обсуждаемым положением изъятие из общего правила объектов, не являющихся объектами капитального строительства (пункт 2 ГрК РФ). Поскольку законодатель счел необходимым наряду с этими объектами специально оговорить и «строения и сооружения вспомогательного использования», следует сделать вывод о том, что последние относятся к числу объектов капитального строительства 2.
С другой стороны, наличие здесь же специальной оговорки об объектах, не являющихся объектами капитального строительства, демонстрирует, что законодатель не придерживается последовательно высоких стандартов юридической техники и иногда повторяется. Структура регулирования схематично может быть представлена так:
-
1) разрешения на строительство требуются, когда речь идет о создании объектов капитального строительства;
-
2) разрешения на строительство не требуются, когда речь идет о создании объек-
- тов, не являющихся объектами капитального строительства.
Причем каждое из этих положений специально отражено в тексте закона.
С учетом этого обстоятельства упоминание в части 17 статьи 51 ГрК РФ строений и сооружений вспомогательного использования вполне может выполнять такую же функцию, как и указание на объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, – речь может идти о простом повторении (теперь уже, правда, в негативной форме) общего правила, поскольку строения и сооружения вспомогательного использования не являются объектами капитального строительства, получение разрешения на строительство в их отношении не требуется.
Иными словами, более или менее правомерны все три возможных ответа на вопрос о соотношении рассматриваемых понятий – к объектам вспомогательного использования относятся либо только объекты капитального строительства, либо только объекты, не являющиеся таковыми, либо и те, и другие. Стало быть, и в этом случае приблизиться к искомому набору критериев не удается.
Гораздо более продуктивным оказывается иной подход, хотя и не опирающийся прямо на то или иное конкретное положение градостроительного законодательства, но соответствующий, как будет показано
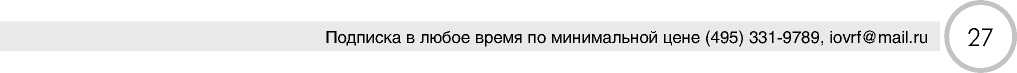
далее, его целям. Речь идет о позиции, согласно которой под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований» [74] (или по его более поздним аналогам) [75]. Этот подход был сформулирован на подзаконном уровне (см. [76; 77, абз. 3 п. 6]) и получил поддержку во многих судебных актах (впрочем, как правило, суды лишь упоминают эту позицию, подробно не останавливаясь на квалификации спорных объектов в качестве сооружений пониженного уровня ответственности) (см., например [6, 10–17]).
В соответствии с абзацем 4 пункта 5.1 указанного ГОСТа «Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения)». Уровень ответственности определяется экономическими, социальными и экологическими последствиями отказа соответствующих объектов (абзац 1 пункта 5.1 ГОСТа; пункт 26 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «уровень ответственности – характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения»).
В пользу такого подхода говорит и использование рассматриваемого нами понятия в части 10 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: «К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства». Впрочем, применительно к интересующему нас вопросу и это положение закона может быть истолковано двояко: либо законодатель имеет в виду, что о зданиях и сооружениях вспомогательного использования речь может идти только тогда, когда они связаны с осуществлением строительства или реконструкции (тогда мы получаем еще более узкое понятие зданий и сооружений вспомогательного использования, чем то, которое может быть сформулировано на базе приведенных нами подзаконных актов), либо же среди зданий и сооружений вспомогательного использования бывают и такие, которые не связаны с осуществлением строительства или реконструкции, и потому не относятся к числу зданий и сооружений пониженного уровня ответственности.
Как бы там ни было, полагаем, что в общем этот подход лежит в русле тех целей, которые преследует градостроительное законодательство.
Надо помнить, что при определении, какие объекты относятся к числу строений и сооружений вспомогательного использования, речь идет о важном решении правопорядка – отключить основной механизм контроля за безопасностью возводимых объектов, причем как на стадии утверждения соответствующих проектов и осуществления государственного надзора и контроля за строительством, так и на стадии ввода в эксплуатацию.
Особую остроту эта проблематика приобретает, если учесть, защите каких ценностей служит указанный механизм. О них можно судить прежде всего по положению пункта 3 статьи 222 ГК РФ, где говорится, что право собственности на самовольную постройку может быть признано только, если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан (аналогичное положение содержалось в этом пункте и в прежней его редакции). В соответствии с пунктами 8, 9 и 10 статьи 2 ГрК РФ к числу принципов градостроительного законодательства относятся осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам, осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности и осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.
На том, что постройки, созданные без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, нарушают именно публичный интерес, основывают ряд своих позиций Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Именно по этой причине с иском о сносе такой постройки вправе обратиться прокурор или орган, осуществляющий строительный надзор. Именно по этой причине на требование о сносе самовольной постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется (см. [19, п. 22; 20, пп. 2, 3,7]).
Иные попытки прояснить рассматриваемое правило и сформулировать искомый набор критериев предполагают выход за пределы градостроительного законодательства и обращение к понятийному аппарату других отраслей или же сводятся к тем или иным интерпретациям слов законодателя, отправляющимся от их буквального значения.
Так, можно поставить вопрос, связано ли отнесение того или иного объекта к числу строений и сооружений вспомогательного использования с его квалификацией как движимого или недвижимого. Общая позиция законодательства о градостроительной деятельности говорит в пользу отрицательного ответа на этот вопрос. ГрК РФ редко оперирует понятием «недвижимость» – почти исключительно в тех случаях, когда приводится наименование или описываются полномочия какого-либо органа или упоминается Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Этот подход выглядит обоснованным в свете того, что деление вещей на движимые и недвижимые имеет значение главным образом для гражданского законодательства, в котором устанавливаются особые правила для оборота каждой категории вещей, а также для возникновения прав на них, создаются различные системы вещных прав, объектом которых могут быть движимые или недвижимые вещи, в общем, действуют разные гражданско-правовые режимы. В фокусе же законодательства о градостроительной деятельности находится не гражданско-правовой режим того или иного объекта, а правила его строительства 4.
В такой ситуации словоупотребление гражданского законодательства не может служить надежной основой для толкования законодательства о градостроительной деятельности. Так, использование граждан-

ским законодателем термина «сооружение» при перечислении объектов недвижимого имущества (см., например, пункт 1 статьи 130, статью 219, пункт 1 статьи 239, пункт 2 статьи 263, пункт 2 статьи 266, пункт 1 статьи 549, пункт 1 статьи 552, пункт 2 статьи 555, пункт 1 статьи 586, § 4 главы 34 ГК РФ) само по себе не означает, что, употребляя термин «сооружение» в пункте 3 части 17 статьи 51 ГрК, законодатель имел в виду объекты недвижимости.
В подзаконных актах, судебной практике, а также в многочисленных публикациях на эту тему рассматриваемые объекты нередко определяются либо исключительно через их функциональную связь с другим, основным, объектом, который они обслуживают, либо, чаще, через функциональную связь вкупе с требованием, чтобы спорный объект относился к сооружениям пониженного уровня ответственности 5. С количественной точки зрения именно этот подход является господствующим 6.
В соответствии с упомянутыми ранее письмом Министерства регионального развития Российской Федерации и Разъяснениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (абзац четвертый пункта 6) еще одним «критерием для отнесения строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строе- ние или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию».
Эту позицию признали и суды.
Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 24 сентября 2013 года № 1160/13 делает следующий вывод: «Функциональное назначение ограждения позволяет квалифицировать его в качестве строения вспомогательного использования» 7. Коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 24 сентября 2013 года № 88-КГПР13-10 указывает: «По смыслу приведенных положений закона (в том числе статьи 135 ГК РФ. – Прим. авт.) критерием отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке основного здания, строения, сооружения, по отношению к которому новое строение выполняет вспомогательную, обслуживающую функцию» (также см. отказные определения Верховного Суда Российской Федерации [23–26]). Разделяют этот взгляд и нижестоящие суды – как общей юрисдикции (см., например, [27–30]), так и арбитражные (см., например, [11, 13–15, 31–43, 44 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2016 года № 306-ЭС16-2854 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства), 45– 56]). В судебных актах также встречаются формулировки, в соответствии с которыми строения и сооружения вспомогательного использования могут быть предназначены для обслуживания основного объекта либо иметь вспомогательный характер 8. Иными словами, вспомогательное использование может и не быть связано с обслуживанием какого-либо основного объекта.
Рассматриваемая позиция поддерживается и в литературе [78, 81], и в разъяснениях сотрудников регистрирующих органов 9 и органов, осуществляющих строительный надзор и контроль 10.
В целом такой подход, хотя и основан на буквальном значении использованных законодателем слов («вспомогательный»), вступает в противоречие с целями, которые преследует градостроительное законодательство, в частности, с помощью института разрешений на строительство. С точки зрения контроля за безопасностью возводимых строений не имеет значения, обслуживают ли они какой бы то ни было иной объект – крупное строение или сооружение вполне может обслуживать другие здания, оставаясь при этом объектом, отказ которого чреват серьезными негативными последствиями, создает угрозу жизни и здоровью людей 11; наоборот, небольшой склад или
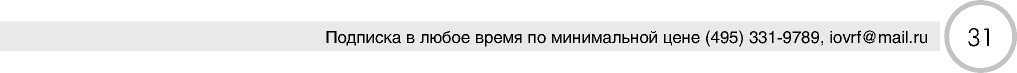
парник (если взять примеры из названного ранее ГОСТа) вполне могут оказаться единственными строениями на земельном участке, строго говоря, не являющимися вспомогательными по отношению к иным объектам и вместе с тем вполне могущими претендовать на освобождение от строгого строительного контроля, так как их отказ не слишком опасен 12.
Иногда, отталкиваясь от выражения законодателя «вспомогательное использование», суды начинают проводить параллели между строениями и сооружениями вспомогательного использования, с одной стороны, и принадлежностью главной вещи в смысле статьи 135 ГК РФ, с другой стороны, или даже прямо признают эти понятия синонимичными 13.
Последовательная реализация этого подхода приводит к действительному переносу гражданско-правовых позиций в рассматриваемую сферу. Так, в одном деле Федеральный арбитражный суд Уральского округа отказался квалифицировать спорный объект как строение или сооружение вспомогательного использования по той причине, что основной объект (или главная вещь) является объектом незавершенного строительства, следовательно, не может использоваться по назначению, а потому не может иметь и обслуживающих его объектов (или принадлежностей): «Как установлено судами, объект, собственником которого является общество «Южуралте-плострой»,.. о принадлежности к которому спорных объектов указывает общество, является объектом незавершенного строительства с нулевым циклом.
Принимая во внимание правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлениях Президиума от 23 декабря 2008 года № 8985/08, от 1 марта 2011 года № 14880/10 и от 9 ноября 2010 года № 7454/10, согласно которой специфической особенностью объектов незавершенного строительства является то, что в отличие от зданий, строений или сооружений они не могут быть использованы в соответствии с их назначением до завершения строительства и ввода их в эксплуатацию, суды пришли к выводу о том, что хозяйственное назначение и вспомогательный характер указанных объектов не могут быть установлены и соотнесены с назначением объекта незавершенного строительства до момента завершения его строительства» (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 апреля 2013 года № Ф09-2798/13 по делу № А76-15379/2012).
И этот подход вообще, и его применение в указанном деле вызывают серьезные сомнения. Прежде всего основной смысл категории принадлежности, закрепленной в статье 135 ГК РФ, заключается в том, чтобы при отсутствии соглашения об ином распространить действие договоров по поводу вещей не только на вещи, которые прямо указаны сторонами, но и на вещи, которые с общепринятой хозяйственной точки зрения их обслуживают. Это прави- ло, в действительности лишь фиксирующее стандарт толкования соответствующих договоров, не предназначено для разграничения опасных и безопасных объектов, а потому едва ли подходит для конкретизации положения пункта 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ.
По меньшей мере странной оказывается и логика приведенного постановления кассации – получается, что контроль за безопасностью строений и сооружений вспомогательного использования поставлен в зависимость не только от того, предназначен ли спорный объект для обслуживания другого, но и от того, возможно ли фактическое выполнение этой функции в настоящее время.
Несколько особняком стоит следующий подход к определению объектов вспомогательного использования. Если оставаться в рамках буквального значения содержащихся в соответствующем положении закона слов и выражений, то последнее относится именно к «строениям и сооружениям», а не к зданиям. Принято считать, что в таких случаях речь идет об объектах, не предназначенных для проживания и (или) постоянной работы людей 14.
Однако и подобная позиция наталкивается, по нашему мнению, на возражения как игнорирующая цели градостроительного регулирования. В сфере производства существует множество объектов, которые не предназначены для пребывания людей (например газораспределительные станции), однако обладают повышенной опасностью для окружающих. Строительство подобных объектов как вспомогательных, то есть без соответствующего разрешения и контроля, выходит за рамки разумного обоснования.
Сомнения, уже не раз озвученные нами, могут быть высказаны, наконец, и в отношении подхода, оформившегося в практи- ке судов Северо-Кавказского округа. К примеру, в постановлении арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 января 2015 года по делу № А32-9839/2014 читаем: «Судебные инстанции обоснованно исходили из того, что спорное сооружение не носит характер вспомогательного и не является временным. Функциональное назначение данной станции и цель ее постройки – длительное использование в уставных целях», а в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 июня 2014 года по делу № А32-34719/2013 указано следующее: «Данное сооружение не носит характер вспомогательного, не является временным. Функциональное назначение данной станции и цель ее постройки – длительное использование в предпринимательских целях» (также см. [53, 71–73].
Акцент на длительности предполагаемой эксплуатации спорного строения, звучащий в понятии «длительное использование в уставных (или предпринимательских) целях», может, пожалуй, иметь значение для вывода относительно принадлежности объекта к рассматриваемой категории – действительно, скорее всего, объекты временного использования чаще смогут претендовать на освобождение от строительного надзора, чем строения, рассчитанные на долгий срок. Вместе с тем и здесь ключевым должен оставаться вопрос об опасностях, которыми чреват отказ объекта, – не исключено, что разрушение, скажем, временного выставочного павильона грозит гораздо более существенными негативными последствиями, чем разрушение пункта охраны, возведенного для эксплуатации в течение двух-трех десятилетий.
В заключение еще раз подчеркнем, что применение закона невозможно без его истолкования, без уяснения его смысла. Смысл же понятия «строения и сооруже-

ния вспомогательного использования» может быть найден только непосредственно в градостроительном законодательстве, его целях, главная из которых – безопасность при строительстве и последующей эксплуатации зданий и сооружений. Обращение же к гражданско-правовому понятийному аппарату для наполнения содержанием указанных слов закона приводит к случайным, произвольным результатам ввиду различий в предмете и социальных функциях гражданского и градостроительного законодательства. Не меньшим произволом оборачивается и фиксация на буквальном значении использованных законодателем слов и выражений.
Список литературы О понятии строений и сооружений вспомогательного использования: к вопросу о целях градостроительного законодательства и корректном толковании закона
- Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
- О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ.
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ.